|
||||
|
|
Раздел III ВЫВОДЫ И ИТОГИ Глава 1. Субъективность и объективность Пора подвести некоторые итоги. С разгромом Института экспериментальной психологии Челпанова заканчивается история Субъективной психологии во всем мире. Примерно к этому времени уходят все ее носители. Новое поколение психологов живет совсем другими интересами, хотя точнее было бы сказать, живет с совсем другим мировоззрением. Справедливости ради надо отметить, что гибель Субъективной психологии, хотя подчас и выглядела убийством, на самом деле была естественной смертью, лишь подталкиваемой молодой порослью, которой эта старая развалина загораживала дорогу. Та же справедливость требует сделать еще два замечания. Первое — в Субъективной психологии были внутренние пороки, которые делали ее смерть неизбежной. Второе — после того, как закончилась борьба, даже Советская психология заняла более мягкое отношение к тому, на чем стояли субъективисты. В частности, если отбросить крайне воинствующих материалистов, так сказать, мягкая школа психологии, созданная Рубинштейном, постаралась отрешиться от политического ослепления и включить в свой инструментарий наиболее бесспорные находки Субъективной психологии. Обо всем этом стоит сказать несколько слов подробнее. Что я считаю пороками Субъективной психологии? Об одном я уже говорил. Это утеря собственного предмета исследования и гонка за чужим. Думаю, это понятно. Второй порок — это сам субъективизм в худшем смысле этого слова. Это надо пояснить, и я воспользуюсь размышлением профессионального философа, чьи взгляды на науку мне близки. В. А. Лекторский в рамках международного исследовательского проекта "Научные и вненаучные формы мышления" писал про самую суть научного способа думать:
Каким-то образом из такого понимания субъективности вырастает научная метафизика. Метафизика в аристотелевском смысле — как то, что стоит за физикой. А стояли за физикой у Аристотеля способы рассуждать о физике, то есть о природе или о науке, если переводить это на современность. И уж если продолжать это расширение, то и Логика Аристотеля есть часть и даже основа метафизики, потому что она-то и оказалась теми правилами, которые предписывали, как вести подлинное научное рассуждение. Но мы знаем, что логика не есть ни наука, ни даже правила — это искусственный язык. Как сейчас принято говорить, формальный язык. Язык, составленный из определенных знаков или символов, которыми обозначались способы работы Логоса, то есть Разума. Иначе говоря, логика, в отличие от психологии, не была просто наукой, описывающей работу разума, она была записью представлений Аристотеля, а за ним других людей о том, как должен, по их представлениям, работать идеальный разум. Думаю, что при таком определении становятся очевидными, самое малое, две уязвимости логики. Первая — это ее ограниченность. Ограниченность рамками «Идеальности», пусть и меняющимися в соответствии с представлениями разных эпох. Во-вторых — это зависимость от психологии. Странная зависимость, надо отметить. Если вспомнить историю, то отцом подлинной психологии, точнее, психологического исследования устройства человеческого мышления и разума, был Сократ. Платон пересказал и описал его подход и тем стал творцом этой науки. Честолюбивый ученик Платона хотел превзойти мастера во всем. "Платон мне друг, но истина дороже" — понимается сейчас как подход к жизни, к поиску истины, но изначально Аристотеля гораздо больше заботило превосходство над Платоном и Сократом. Вырвавшись из Академии, Аристотель постоянно покорял те же вершины, что и его учитель, но по другому склону и наделяя их своими именами. Платон описывает Сократическую беседу, Аристотель пишет трактат о Душе. Платон развивает Пифагорейский язык символов — математику. Аристотель пишет свой символический язык — Логику. Логика должна была или погибнуть, став дисциплиной, зависимой от психологии, точнее, от психологического исследования подлинного устройства разума, или уничтожить психологию, чтобы никто не мог усомниться в ее верности. И она ее уничтожила на тысячелетия. В итоге именно логический способ отторгать некие идеальные представления о том, как должно думать, и стал, по сути, научным методом рассуждать, проводя любые исследования во всех науках. Именно его и показывает Лекторский как субъективный, то есть обособленный в субъекте, отграниченный от связи с природой или действительным разумом. И когда Конт и прочие позитивисты превращают слово «метафизика» в синоним пустой болтовни, они воюют именно с таким воплощением метафизической логики Аристотеля. Собственно говоря, отсюда рождается и требование Конта понять действительные или настоящие логические законы. Очарование слова «логика» было к тому времени так велико, что борцы с логикой боролись против логики с помощью логических же законов. Ясно, что понималась эта логика в бытовом смысле. Естественно добавить, что и сегодня не многие борцы за логичность понимают, что же они в действительности имеют в виду. Ученым не часто свойственно задумываться о тех выражениях, которые они используют. Особенно о действенных выражениях. Что же касается субъективной психологии, то, я думаю, мое рассуждение дает возможность заметить, что в ней присутствовало понятие «субъективность» не в одном значении. Первое — это собственно психологическое использование — означало возможность для «субъекта», то есть живого человека, пройти в изучении себя за то, что описал Аристотель или признали верными естественные науки. Пройти глубже. Это есть психология самонаблюдения. Ну а второе — это субъективно-метафизический способ рассуждать, принятый во всех науках и той поры и сейчас. Парадоксальный способ, выливавшийся подчас в философские анекдоты, подобные попытке Гуссерля окончательно обособить философию от психологии, создав из нее строгую науку на основе чистого психологического рассуждения о том, что Я осознает как Я. Я приведу крошечный кусочек из лекций "Основные проблемы феноменологии" Гуссерля 1910-11 годов, и вы, я думаю, «узнаете» это рассуждение строжайшего из философов, так оно похоже на те куски психологии самонаблюдения, что я выбирал из трудов субъективистов.
Это анекдот о борьбе Гуссерля с самонаблюдением и психологизмом. Но анекдоты науки необходимо понять, чтобы двигаться дальше. Я приведу еще одно глубокое наблюдение В. Лекторского, которое, по-моему, многое объясняет:
Это полностью объясняет метания Гуссерля и многих других творцов философии как чистой или строгой науки. Пафос их усилий — не впустить из действительного мира ничего, что может помешать ученому рассуждать. Звучит как порча чистоты или строгости рассуждения. А на самом деле — вносит новые данные, меняющие содержание или мерность знаков, которые составляют «логику» или «математику» философских рассуждений. А психология всегда все портит в чистых рассуждениях, потому что она все время выкапывает новые данные о том, чему уже приписано строгое, часто почти математическое значение. Вот откуда длительная борьба философов с психологизмом.
Вот это и была та «субъективность», из-за которой жизнь порвала Субъективную психологию на части. Еще как-то можно существовать с неверным представлением о мире, если замкнуться в своем мировоззрении, как в пузыре, и не впускать в него ничего инородного. Но усидеть сразу и в пузыре собственного жестко определенного мировоззрения, и на струе живого исследования действительности невозможно. Но этот трюк как раз и пытались проделать с Субъективной психологией. На этом главу можно было бы и завершить. Но у меня остается еще один вопрос: что полезного мы можем извлечь из Субъективной психологии? Поэтому я постараюсь разобраться, как же устроена эта ловушка научного способа рассуждать. Для этого я воспользуюсь некоторыми утверждениями нетрадиционного американского психолога, создателя квантовой психологии Роберта А. Уилсона. Уилсон много размышлял о слабостях научного метода, сопоставляя физику с психологией. Опираясь на так называемую "Копенгагенскую интерпретацию" квантовой механики Нильса Бора, он заявил:
О чем это? О том, что наука, в первую очередь, занята описанием мира, во вторую — объяснением, а в третью — применением или использованием полученных знаний. Собирая множество данных наблюдений за действительностью, она все чаще не может объяснить их с помощью научной Картины мира. В итоге ученый-физик, к примеру, если он оказывается на переднем крае науки, психологически ощущает себя точно в пузыре с названием Вселенная. По научному определению или, наоборот, по умолчанию Вселенная — это весь мир, это вообще все, что есть, за исключением того, что уже ушло в прошлое. Но в русском языке слово Вселенная имеет другое значение. Иногда оно звучало как Поселенная. Иначе говоря, это место нашего вселения, а значит, за ее пределами что-то еще есть. И не просто что-то, а возможно, как раз самое главное, то, что правит нашим миром и нами, — именно там. И оттуда приходят в наш мир какие-то воздействия, которые только и есть единственное настоящее в нашем мире, потому что на них, как на основе, все и держится. Так вот, если вглядеться в состояние ученого на пограничье, то эта картина начинает работать. Он знает, что Вселенная и есть единственный истинный мир. Знать это — первейшее условие, которое предписывается научным мировоззрением каждому своему члену, чтобы отличать своих, ученых, от членов религиозного сообщества. Далее, он точно так же знает, что научное мировоззрение верно, а научная Картина мира описывает всю Вселенную. Он понимает, что Картина эта не полна, но принципиально она Образ всей Вселенной. Можно сказать, что она не полна количественно, но качественно все, что есть в обозримой человеческим умом Вселенной, названо, и его осталось только изучить, понять и использовать. И вдруг среди полученных в исследованиях данных попадаются такие, которые никак не объясняются, исходя из тех законов, что составляют основу научной Картины мира. И такие данные поступают не однажды, они приходят с определенной периодичностью, так что не позволяют себя просто забыть в дальнем углу одного из ящиков рабочего стола. И вот в сознании ученого начинаются изменения. Он по-прежнему убежден, что научный подход и научный метод верны, но при этом не может удержаться и не позволить своему сознанию расслаиваться. А сознание, против его воли или, точнее, совершенно независимо от его воли или желания, отражает все. И в этом отражении появляется ощущение, что ум ученого по-прежнему объемлет всю Вселенную, как некий пузырь, и внутри него все верно, но снаружи постоянно вплывают внутрь какие-то проблески неведомого, а точнее, того, что окружает пузырь. При этом пузырь еще и ощущается темным. Ведь в научной Картине мира края Вселенной — это космическая тьма, в которой сверкают редкие звезды и галактики. А может и вообще ничего не сверкает, если Вселенная расширяется в куда-то, которого нет. Соответственно, то, что врывается в тьму или прорывается сквозь тьму вселенной к нашему наблюдению, воспринимается как вспышки, то есть признаки какого-то света, который окружает наш темный мешок. Это должно очень расстраивать правоверного ученого. Именно тогда он начинает понимать, что что-то не так с научным методом, и использует выражение "глубокая реальность". Как это увязывается с психологией? "Этот отказ говорить о "глубокой реальности " чем-то напоминает "принцип неопределенности " Гейзенберга, который в одной из формулировок утверждает, что невозможно одновременно измерить инерцию и скорость одной и той же частицы. Напоминает это и эйнштейновский "принцип относительности", который утверждает, что невозможно узнать «истинную» длину прута, но лишь различные длины (множественные), измеренные различными инструментами в различных инерционных системах наблюдателями, которые могут находиться в одной инерционной системе с прутом или измерить его из перспективы другой инерционной системы. <…> Нечто подобное продемонстрировал Эймс в области психологии восприятия: мы не воспринимаем «реальность», но лишь принимаем сигналы из окружающей среды, которые мы организуем в форме предположений — причем так быстро, что даже не замечаем, что это предположения" (Там же, с. 31–32). По сути, это психологическое наблюдение Эймса есть современное прочтение предположения Беркли, что мы настолько не в состоянии воспринимать окружающий мир, что можно считать, что его для нас нет совсем. А живем мы внутри некоего воображаемого мира, который с настоящим может не иметь ничего общего. Как вы понимаете, все это ставит принципиальнейшие вопросы о том, что же такое восприятие и наблюдение. Уилсон приводит прекрасный пример недееспособности научного метода, который я не могу не использовать: "Вот простейший пример: я даю химику или физику книгу стихов. После исследования ученый сообщает, что книга весит X кг, и имеет Уем в толщину, текст напечатан краской, имеющей такую-то химическую формулу, а в переплете использован клей, имеющий другую химическую формулу. И так далее. Но научное исследование не может ответить на вопрос: "Являются ли стихи хорошими?"" (Там же, с. 32). Не думайте, что это пошлый пример, созданный, чтобы как-то уесть науку. Уилсон не договаривает одну из важнейших вещей: наука гордится своей способностью приносить пользу и извлекать выгоду из того, что исследует. Именно этим она победила человечество. Но при этом вопрос о том, будут ли люди покупать книгу, зависит как раз от вопроса, на который наука в принципе не знает, как отвечать. Заметьте, даже не «что», а именно «как», настолько это не укладывается в научный метод. А между тем любой человек в состоянии сделать такую оценку книги и делает ее тем, что покупает или не покупает эти стихи. Кстати, я мог бы еще усилить пример Уилсона тем, что взял бы не физика, а психолога, который, как кажется, единственный из ученых должен бы иметь ответ на такой вопрос. Но я даже не буду напрягать воображение, ища возможные ответы психолога. Поработайте сами, возьмите психологические словари и учебники и посмотрите, что психологи об этом думают. Что же касается Уилсона, то он опускает все подобные усиления, потому что завершает свое рассуждение гораздо более важным и значимым наблюдением: "Наука вообще не может отвечать ни на какие вопросы, содержащие в себе слово «является», но пока что еще не все ученые это осознают" (Там же, с. 32). Это очень, очень важное наблюдение. Именно оно объясняет вывод Уилсона: "Итак, утверждение "мы не можем найти (или показать другим) одну-единственную глубокую реальность, которая бы объяснила все многочисленные относительные реальности, измеряемые при помощи наших инструментов (и при помощи нашей нервной системы, того инструмента, который интерпретирует все остальные инструменты)", — это вовсе не то же самое, что утверждение "не существует никакой глубокой реальности". Наша неспособность найти одну глубокую реальность — это зафиксированный факт научной методологии и человеческой нейро-логии, а вот утверждение "не существует никакой глубокой реальности " предлагает нам метафизическое мнение о чем-то таком, что мы не можем научно проверить или на опыте пережить" (Там же, с. 32–33). Как вы видите, использование Уилсоном термина "метафизическое мнение" можно понять только исходя из того представления о метафизике как искусственном символическом языке научных рассуждений, что я постарался создать чуть раньше. Метафизическая логика научного метода — это пузырь, висящий внутри какого-то психологического пространства, в котором скрыты истинные законы нашего разума. Но все попытки этого пространства прорваться внутрь способа рассуждать строго и чисто и сказать ученым, что в действительности и жизнь и даже их собственный разум могут совсем не соответствовать их представлениям, никак не проникают внутрь научной самоуверенности. Ну, разве что редкими вспышками света во Вселенской тьме. Наблюдение же Уилсона, что наука вообще не переваривает вопросов, содержащих в себе слово «является», в сущности, есть лишь иной способ высказать мысль, что научный способ мыслить не впускает в себя "глубокую реальность" или действительность. Чтобы это стало очевидно, просто вглядитесь в слово. «Является» в русском языке означает "являет себя". Являть себя может только нечто, что недоступно прямому восприятию, не явлено. Когда психолог, описывая свой предмет, говорит о явлениях сознания, он никогда не подразумевает, что это сознание являет себя. Это особенно заметно, когда он говорит о душевных явлениях, при этом однозначно утверждая, что души не существует. Мы с вами видели немало примеров такого неосознанного словоупотребления даже у психологов-субъективистов. Уилсон, бесспорно, прав, что понятие «является» недоступно ученым, даже тем, кто его употребляет. Для того, чтобы оно стало доступно, нужно иметь иной Образ мира, чем Научная картина. Нужно иметь образ, в котором однозначно признается, что в нашем мире есть нечто, что недоступно приборам и нервной системе для прямого наблюдения, и что мы можем наблюдать только через его явления или проявления в материальном содержании Вселенной. Я не говорю, что это Бог или Дух, или нечто подобное. Я говорю всего лишь о том, что научный метод, по крайней мере, в психологии, должен быть изменен за счет расширения лежащего в его основе Образа мира. И я это говорю не потому, что знаю какой-то ответ или чтобы навязать свое мнение. Я это говорю потому, что мой опыт, моя многолетняя прикладная работа с особыми состояниями сознания мне показывают: у психологии не хватает ни инструментов, ни понимания для того, чтобы мне помочь. А заодно и тем, кому пытался помогать я. Единственная надежда, которая еще остается у меня, что у нее хватит желания для подобной работы над собой. Но это очень личный вопрос для психологов, а не для сообщества — что ты хочешь? Мы рабы своих желаний и будем делать только то, что хотим. А дела покажут, что хотят психологи. Да и вообще, какое мне дело до психологов?! Жизнь так коротка! Главное, что хочу я! Глава 2. Самонаблюдение есть наблюдение А что я хочу? Я хочу познать себя и еще много-много красивых и приятных вещей, связанных с этим. Например, раскрыть свои способности и помочь в этом своим друзьям. И что же я могу взять из Субъективной психологии, что поможет мне в этом? Если бы я смог взять из нее искусство самонаблюдения, я был бы в высшей мере доволен. Ведь самонаблюдение и есть основное орудие самопознания. А что такое самонаблюдение? Вообще-то дать определение самонаблюдению — самое простое дело. Самонаблюдение есть наблюдение себя. Можно добавить — самим собою. Но это, пожалуй, ничего не добавляет пока. Что можно сказать о такой простоте? Обнадеживает она или пугает? Вспомните рассуждения о связи психологии с физикой, которые я привел в предыдущей главе. Там было очень много упоминаний наблюдения, и это должно подсказать вам, что в этой простоте, скорее всего, кроется ловушка. Скорее всего, тут не все ладно. Смотрите сами. Понятие «само» определено изначально быть не может, потому что именно оно-то и есть предмет и ответ всего исследования, то есть работы самонаблюдения. Так что исследовать "самим собой самого себя" придется не понимая ни одного из составляющих этого сложнейшего понятия. Единственное облегчение дает предположение, что, по мере продвижения исследования, ко мне будет приходить все большая ясность и в том, что это за "самим собою". Остается вторая часть — это наблюдение. Вот с наблюдением все должно быть гораздо проще. Слово это ощущается таким простым и понятным, к тому же я точно его делал, так что остается удивляться тому, что Конт не объявил, что и наблюдение невозможно. Однако не обольщайтесь. Вы, наверное, уже почувствовали, что я клоню все к тому же. В психологии с наблюдением не лучше, чем в физике с явлением. Не зря же я громоздил все эти сложности в предыдущих главах. Между тем мне очень хочется извлечь практическую пользу из собственного исследования, и я намерен хотя бы сделать попытку понять, что же такое наблюдение и как им пользоваться для познания себя. Поэтому начну спокойно с продолжения того исторического очерка, что завершил на разгроме Субъективной психологии в Советской России. КПСП — Коммунистическая партия советской психологии, как и ее эйдос или прототип — КПСС, была непримирима, в первую очередь, к врагам. А вот их достижения она вполне могла использовать, если это не угрожало ее власти или безопасности. Как только Субъективная психология умерла без надежды на воскресение, Советская психология начала отбивать у физиологии место у кормушки. Начиная с "Исторического смысла психологического кризиса" Выготского, она доказывает, что у Психологии есть свой предмет, отличный от предмета физиологии. Как вы понимаете, Наука, имеющая предмет, непокрываемый другими Науками, имеет право жить. Будем считать, что Выготский отстоял предмет Психологии. Теперь встал вопрос о собственном методе. Без этого еще со времен гегелевского наукоучения нельзя было считаться полнoценной Наукой. Отстоять свой метод для Психологии предстояло другому реформатору — Рубинштейну. Если с предметом тянуть было нельзя и его отстояли еще в двадцатых годах, то с методом нельзя было спешить. Недопустимо было объявить методом что-то такое, на что заявил бы свои права враг. Поэтому оправдать собственный метод Психологии, да и то очень осторожно и слега невнятно, удалось только в 1940 году, когда все враги уже были мертвы. В знаменитом сочинении Рубинштейна "Основы общей психологии", которое уже до выхода было утверждено Комитетом по делам высшей школы при Совете народных комиссаров СССР в качестве учебного пособия для педагогических вузов и университетов, методам психологии отводилось вторая глава. Утверждение же это означало, по сути, высочайшее разрешение сказать все, что в ней и было сказано. Оно больше не вызывало опасений у партии. После обязательных цитат из Ленина — его комментариев к "Науке логики" Гегеля, Рубинштейн пишет: "Основными методами исследования в психологии, как и в ряде других наук, является наблюдение и эксперимент" (Рубинштейн, с. 21). Это официальная позиция, как говорится. Членская отметка, удостоверяющая принадлежность психологии к Сообществу наук. Наблюдение и эксперимент — это дозволенные научные методы. Правда, не лишним было бы исходно заявить, что эксперимент — это то же самое наблюдение, только в искусственных условиях. Но это уж слишком снизило бы в глазах паствы восхищение Наукой, которая обладает чем-то особенным, почти магическим по сравнению с тем, что есть у простых смертных. Здесь Рубинштейн проходит так, что ни один сомневающийся или враг Науки к Психологии не подкопается. А вот дальше начинается тонкое место. "Каждый из этих общих методов научного исследования выступает в психологии в различных и более или менее специфических формах; существуют разные виды и наблюдения и эксперимента. Наблюдение в психологии может быть самонаблюдением или внешним наблюдением, обычно в отличие от самонаблюдения именуемым объективным" (Там же). Надо отдать Рубинштейну должное. Как бы он ни был выразителем партийных взглядов в психологии, при этом он создал, так сказать, мягкую школу. Или интеллигентную. Он как бы говорил психологам: Ну что делать? Мы все знаем, что не все ладно в Датском королевстве, мы все вынуждены лгать и приспосабливаться. Но мы все знаем и то, что можем погибнуть в любой миг, и поэтому не имеем права осуждать друг друга за недомолвки или за коммунистические довески у настоящей науке. Главное, старайтесь сделать все, что удастся, для того, чтобы была чиста хотя бы ваша научная совесть… В каком-то смысле психология Рубинштейна очень чистая психология для сорокового года. Я ничего не знаю о личности Рубинштейна, кроме того, что проступает в этом тексте. И поэтому мои замечания ему — это замечания тому, как он делает исследование. А как он его делает? Сначала просто опишу то, что сделано, конечно, ограничившись только самонаблюдением и наблюдением. Итак, Рубинштейн называет предмет своего исследования. Пусть он его утверждает, но для меня это звучит вопросом: одним из основных методов психологии является Наблюдение. Оно используется в двух видах — в виде самонаблюдения и в виде внешнего или объективного наблюдения. И что же это такое? Что такое самонаблюдение? И что такое внешнее наблюдение? Правильно я задал вопрос? Согласны? Так вот, это ловушка, в которую попадались все последующие психологи. Вот прочитайте, какое определение дает словарь «Психология» 1990 года выпуска: Наблюдение- один из основных эмпирических методов психологического исследования, состоящий в преднамеренном, систематическом и целенаправленном восприятии психических явлений с целью изучения их специфических изменений в определенных условиях и отыскания смысла этих явлений, который непосредственно не дан. Наблюдение включает элементы теоретического мышления (замысел, система теоретических приемов, осмысление и контроль результатов и количественные методы анализа…) В чем ловушка, а с тем и порок всего подхода Психологии к наблюдению? А вот давайте посмотрим, что пишет Рубинштейн дальше. В следующий раз понятие наблюдения используется, чтобы указать, что на него и эксперимент опирается генетический метод. Это упоминание ничего не дает для ответа на вопрос "Что такое наблюдение?" Я его опущу. Зато ожидается, что с него начнется раздел с названием Наблюдение. Но начинается он с повтора: "Наблюдение в психологии выступает в двух основных формах- как самонаблюдение, или интроспекция, и как внешнее, или, так называемое, объективное наблюдение" (Там же, с. 24). Далее почти три страницы посвящены самонаблюдению. Ему даже отведен раздел Самонаблюдение, который начинается с определения: "Самонаблюдение, или интроспекция, то есть наблюдение за собственными внутренними психическими процессами…" (Там же, с. 24). Как видите, определение самонаблюдения у Рубинштейна получилось научнее, чем у меня. В нем больше красивых иностранных слов. Наверное, это гарантирует, что и смысла тоже больше. Существенно же добавление, которое развивает определение. "Самонаблюдение… то есть наблюдение за собственными внутренними психическими процессами неотрывно от наблюдения за их внешними проявлениями. Познание собственной психики самонаблюдением, или интроспекцией, всегда осуществляется в той или иной мере опосредованно через наблюдение внешней деятельности. Таким образом совершенно отпадает возможность превращать самонаблюдение — как того хочет радикальный идеализм — в самодовлеющий, в единственный или основной метод психологического познания" (Там же). Без комментариев. Это не наука, а коммунистическая партия внутри научного исследования. Правда, отдадим справедливость Рубинштейну, сделав реверанс партийным требованиям, он тут же защищает самонаблюдение от нападок "поведенческой психологии" и Конта. Глубже он, как вы понимаете, не идет. Я еще, возможно, вернусь к разговору о самонаблюдении у Рубинштейна, но сейчас чтобы покончить с ловушкой, поглядите, как начинается подраздел Объективное наблюдение: "Новый специфический характер приобретает в нашей психологии и внешнее, так называемое объективное наблюдение. И оно должно исходить из единства внутреннего и внешнего, субъективного и объективного" (Там же, с. 26). Приглядитесь: психологи, говоря о наблюдении, нигде не говорят о наблюдении! Вот суть ловушки. И Рубинштейн, и пятьдесят лет Советская психология после него развивают множество методов научного наблюдения, не дав определения, я уж и не говорю о том, что не исследовав и не поняв, что же такое наблюдение само по себе! Даже если где-то и есть работы психологов, посвященные наблюдению, они не были признаны основой для определения этого явления. Иначе это отразилось бы в Психологических словарях. А в словарях, кстати, как психологических, так и философских, определения даются только какому-то особому, нам с вами недоступному, наблюдению. А что такое исходное для всех особых видов понимания явление наблюдения — ищите сами или понимайте сами. Наука тем, что являет себя, не занимается… Конечно, какое-то понимание собственно самой способности человека, человеческого сознания или ума к наблюдению можно вычленить во всех работах психологов, где они говорят о наблюдении в психологии. Хоть у того же Рубинштейна. Но это бытовое понимание! Понимание, достигнутое в жизни, а отнюдь не в науке. И вот вопрос: а почему Психология не дает определения такого явления, которое называет своим основным методом? Кстати, не только советская. Ребер дает ничуть не лучшее определение. Или она считает, что это дело языковедов? Ну, или философов? Иными словами, является ли наблюдение психологическим понятием? Или же оно по ведомству какой-то иной науки? Тогда какой? Самое краткое и чеканное определение дает энциклопедический словарь 1954 года: "Наблюдение, один из способов познания объективного мира, основанный на непосредственном восприятии вещей и явлений при помощи органов чувств". Сведу его к самому краткому звучанию: Наблюдение — это непосредственное восприятие с помощью органов чувств. Непосредственное — это, как я понимаю, без вмешательства приборов и ума. Последнее уже не так очевидно, но грамматическое прочтение, то есть непосредственное чтение определения говорит, что ничего не должно вставать между воспринимаемым и органом восприятия. Ничто — это ничто. И ум тоже. Посмотрим философское определение "Философского словаря" 1986 года издания: Наблюдение — есть целенаправленное и организованное восприятие внешнего мира, доставляющее первичный материал для научного исследования. Как видите, тут опять болезнь наукообразности — построение теории "мы крутые и не для простых умов" прямо на бытовом понимании, а точнее, непонимании явления. Более поздние философские словари немного уходят от этого определения. Во всяком случае, в них сохраняется вот такое понимание: Наблюдение — это целенаправленное восприятие, то есть восприятие с какой-то целью. Ну и собственно определение языковедов. Словарь Ожегова слово «наблюдение» не определяет, зато дает исходные — «наблюдать» и "наблюдательный". Наблюдать- 1. Внимательно следить глазами за кем-чем-ни-будь, а также вообще внимательно следить за кем-чем-нибудь, не упускать из виду, из поля зрения. 2. Изучать, исследовать. Наблюдательный — внимательный, умеющий хорошо наблюдать, подмечать. Выведу суть: Наблюдение — слежение за кем-нибудь или чем-нибудь со вниманием и умением подмечать. Как вы считаете, будет ли допустимым соединить представления четырех разных наук в единое определение? Во всяком случае, я не ощущаю, что они очень противоречат друг — другу. За основу я возьму определение Психологического словаря, все-таки, на мой взгляд, наблюдение — это вотчина психологии. Наблюдение — это преднамеренное, систематическое и целенаправленное восприятие ради изучения. Так звучит смысловая выжимка. Но я с ней не совсем согласен. Во-первых, стоит выкинуть понятие «систематическое». Оно явно из научного обихода. Когда кошка наблюдает за бабочкой, наблюдение есть, во всяком случае, язык такое выражение принимает, а систематического — нет. Далее, я бы выкинул и цель "ради изучения". Это опять наука. Но это очевидные поправки. А вот выражение «преднамеренное» — сложнее, потому что не так бросается в глаза. Однако, даже без особого исследования можно ощутить, что в нем есть какая-то нарочитость, я бы назвал ее излишностью. Почему, собственно, пред-намеренное? Ясно, что пред-намеренное — это усложнение намеренного. И значит приставка пред- должна нести какой-то смысл. Но какой? Это нигде не объяснено, значит, является языковой грязью. Поэтому я оставлю слово «намеренное». Но теперь оно приходит в некоторое противоречие со словом целенаправленное. В каком-то смысле намерение и определяет цель. Но возможно, автор этого определения исходил из того, что намерение означает решение наблюдать, то есть осознанно приступить к наблюдению. А под целенаправленностью он имел в виду то, что будем наблюдать, или то, ради чего наблюдать. Как можно иметь намерение, не определив заранее что и зачем наблюдать, я не понимаю, но это я не понимаю как прикладник, который занимался осознанным наблюдением на деле. Для теоретика же, который никогда не задумывался, как рождается наблюдение, все, скорее всего, представляется строго в соответствии с описанием Уилсона работы научного ума. елание держать все действия под контролем заставляет теоретика считать, что для того, чтобы начать наблюдение, он сначала решает что-нибудь отнаблюдать. Затем определяет цель и объект или наоборот — объект и цель. А потом приступает к наблюдению. Что ж, это возможно. Но это не наблюдение, а научное наблюдение. Иными словами^ та же самая ловушка, что и отразилась в теории психологии. Но как бы там ни было, я пока сохраню оба выражения, поставив себе заметку, что с ними еще надо разобраться. Итак, исходная основа: Наблюдение — это намеренное, целенаправленное восприятие. Это психологическая основа. Что добавляет к ней энциклопедическое определение? Во всяком случае, отличия есть, и они не очень противоречат основе. Добавлю: Наблюдение — это намеренное, целенаправленное непосредственное восприятие с помощью органов чувств. И здесь есть легкая противоречивость. В чем я вижу возможность противоречия? Во-первых, целенаправленность может быть помехой непосредственности. Но это не так уж очевидно. Во-вторых, добавление "с помощью органов чувств" кажется ничего не добавляющим, потому что это выглядит и так понятным. Но в этом уточнении есть одно достоинство, так сказать, из неевклидова мира. Благодаря ему, становится допустимым вопрос: а возможно ли восприятие помимо органов чувств? Для естественной Науки ответ очевиден: конечно, нет! Ну, а как насчет "глубокой реальности" и тех множественных фактов о сверхчувственном восприятии? Опять отмахнуться, даже не исследовав? Да и зачем на солнце пятны, когда и без них можно обойтиться?! Но даже если мы допускаем возможность сверхчувственного восприятия, все равно сохраняется искушение отмахнуться от этого дополнения, исходя из требований философских, точнее, строго научного рассуждения: даже если мы допустим, что сверхчувственное восприятие существует, это означает, что мы его осуществляем. Это же означает, что у нас есть нечто, с помощью чего мы его осуществляем. Значит, мы можем утверждать, что у нас есть орган для сверхчувственного восприятия и тогда упоминание об органах чувств излишни, а умолчание верно. Но на это я предложу считать, что в энциклопедическом определении говорится об обычных органах чувств. Упоминание излишнее, но зато позволившее нам поставить вопрос о том, возможно ли наблюдение не только этого мира, но и иной реальности. А это вопрос не просто интересный, он принципиален, потому что с него и начиналось все методологическое сомнение в науке. Ответить на этот вопрос я пока не в состоянии, но исследовать его считаю необходимым и обязательно это сделаю. Однажды. Следующее определение — философское, как выясняется, ничего не добавляет к нашему полуфабрикату. Наблюдение — это целенаправленное восприятие, то есть восприятие с какой-то целью. Зато языковеды сумели сказать кое-что, что проглядели хозяева наблюдения. Наблюдение — это слежение за кем-нибудь или чем-нибудь со вниманием и умением подмечать. Другая наука, другой язык. Придется поломать голову, чтобы это как-то уварить. Начну с конца. Стоит ли сохранять выражение "умение подмечать"? Что такое вообще это "подмечание"? Слова такого нет. Есть Подметить — то есть заметить, увидеть (мало заметное). Заметить — это 1. увидеть, обнаружить; 2. отметив в уме, запомнить, обратить внимание на кого-что-нибудь. Далее: Заметный — 2. очевидный, явный; 3. такой, который ощущается, чувствуется, видный. Замечаться — проявляться, обнаруживаться. Что я сейчас делаю? Я обращаюсь за помощью к самому наблюдательному и самому знающему существу, которое мне ведомо. К русскому народу. У меня не хватает ни своих мозгов, ни знаний, чтобы решить задачу, точнее, ответить на вопрос, что такое наблюдение. Я знаю, что народ наблюдал миллионами глаз тысячи лет. И все свои наблюдения закрепил в языке. В том числе и наблюдения над наблюдением. Причем сохранилось в языке только то, что потом можно было использовать. А это значит, что оно соответствовало действительности. Правда, как историк и немножко языковед, я знаю, что значения слов текут и меняются в истории народа. И теперешнее значение часто вовсе не соответствует звучанию, сохранившемуся с древних времен. И наоборот. Но это поправимо, если провести сопоставительное исследование. По крайней мере, иногда исходное значение слова можно найти. Особенно в тех случаях, когда слово является общеупотребительным, а соответствующее ему понятие не исчезало из жизни. Наблюдение — это не название какого-нибудь древнего орудия или обычая. Оно живо. Так что его должен отражать и живой русский язык. Но я чуть позже обращусь к истории языка. Пока же определенно видно, что слово «подмечать» позволяет выявить несколько понятий, которые, вероятно, еще помогут нам понять, что такое наблюдение. Я не буду их включать в определение, но исходное слово сохраню. К тому же словарь связал его с понятием «умения». А оно явно имеет самостоятельную ценность, потому что ставит вопрос о том, чем является наблюдение, совсем в другом ключе. И поскольку появилось слово «является», то я вправе предположить, что с Наблюдением в нашем мире являет себя нечто из совсем иных пространств. Нечто настолько непростое и неочевидное, что строить на нем научный метод, не дав себе даже труда приглядеться, очень похоже на преступление. Как строить город на спине чудо-юдо рыбы-кит, которая явила себя над поверхностью глубочайших вод удобным и уютным островом. Так что же получается: наблюдение являет себя кому-то восприятием, кому-то слежением, а кому-то умением. Можем ли мы уверенно сказать, что понятие «восприятие», столь уважаемое психологами и философами, определенно перекрывает своим значением понятие «слежения»? Вряд ли. «Слежение» определенно дает какое-то понимание того, что есть наблюдение. И если посчитать, что одного слова «восприятие» будет достаточно, мы что-то утеряем. Что же касается «умения», тут слишком явственно видно, что это слово совсем не относится к «восприятию». Скорее, наоборот. Восприятие может считаться одним из умений. Во всяком случае, язык естественно принимает словосочетание: тебе надо улучшать умение воспринимать. Учись. Но тогда возникает еще одно понятие, близкое к «умению». Способность. Тебе надо развивать способность восприятия. Так же как и способность к наблюдению. И все-таки, что первично? Конечно, восприятие. Умение и способности в данном случае не определение, не имя восприятия, а его качество. Иными словами, восприятие дается изначально, и не как умение или способность, а как свойство нашего сознания или души, если говорить на языке психологии. Восприятие доставляет душе впечатления с помощью органов чувств, то есть органов восприятия. Душа же, хотя я бы предпочел пока говорить сознание, воспринимает впечатления. Вот эта восприимчивость сознания к впечатлениям и есть его свойство, называемое восприятием. Когда ставишь вопрос так, возникает ощущение, что допустимо использовать и слово «способность», потому что душа способна принимать впечатления. Однако, если задаться вопросом, что такое способность, то станет ясно, что способности избирательны. Иначе говоря, способность может быть, а может и не быть. В то время как «свойство» является чем-то неотъемлемым. Можем ли мы считать, что живое сознание может не обладать восприятием? Я таких наблюдений не знаю. Следовательно, пока они не обнаружатся, восприятие следует считать свойством сознания. Но это относится к сознанию вообще, к сознанию как к явлению действительности. А вот что касается отдельных людей, у них, и это явно видно из опыта, свойство это проявляется по-разному. И тут мы вполне можем говорить о разных способностях у различных людей. За этим скрывается хитрая вещь. Способности к тем или иным видам восприятия говорят не о способности к восприятию — само такое выражение звучит по-русски странно, — а о способности преодолевать помехи восприятию. Условно говоря, исходно все наделены одинаковой силой восприятия, равной свойству сознания воспринимать. Но воплощение сознания в тело идет болезненно и с накоплением помех. Вот они-то и определяют способности, которыми люди отличаются друг от друга уже с рождения. В том числе и способность к наблюдению. Поэтому я предложу такое промежуточное определение наблюдения: Наблюдение — это намеренное, целенаправленное непосредственное восприятие, выражающееся во внимательном слежении и различающееся у разных людей качеством, зависящим от врожденных способностей. В этом определении не разобрано только понятие «внимания». А оно ощущается чрезвычайно важным и чуть ли не основным, точнее, как раз тем, что превращает восприятие в наблюдение. Жаль, что психологи совсем не учли его в своем определении. Впрочем, если поглядеть определение внимания Психологическим словарем, станет понятно, что и со вниманием Психологии пришлось не просто: Внимание- сосредоточенность деятельности субъекта в данный момент времени на каком-либо реальном или идеальном объекте (предмете, событии, образе, рассуждении). Внимание характеризует также согласованность различных звеньев функциональной структуры действия… Вообще-то в мире все связано и все присутствует во всем, А значит, и все в мире можно определить через действия. К примеру, Сознание — это то, что заставляет действовать и тут же отвлекает от деятельности. Ну, а внимание — это сосредоточенность деятельности. Почему я считаю это определение бредовым? Да потому что определение должно использовать обязательные черты явления, иначе оно просто не определение. И если внимание — это качество деятельности, то значит, без деятельности внимание невозможно. Пожалуй, это даже верно, если считать само внимание деятельностью. Это даже кажется очевидным: направил внимание — произвел действие, значит, деятельность. Собрал внимание, сосредоточился, произвел действие — деятельность! Такие очевидности признак того, что в Психологии как науке до сих пор конь не валялся и никто не занимался ее наукоучением. Деятельностью при сосредоточении внимания, является сосредоточение, а не внимание! Ты что-то делаешь со вниманием, но внимание — не деятельность. И уж тем более не сосредоточение деятельности. И если даже внимание есть некое сосредоточение, без указания того, что сосредотачивается, выражение "внимание есть сосредоточение" — считаться определением не может. Хотя язык и использует выражения «сосредоточься», «соберись» для обозначения чего-то связанного со вниманием, а проще — собирания, направления и удержания его, но сосредоточение есть способ управления вниманием, но никак не само внимание. Внимание явно относится к сознанию. А выражения, вроде "сосредоточения внимания" показывают, что кроме самого внимания мы еще обладаем способностью им управлять. Да и само внимание ощущается, в отличие от восприятия, не свойством, а способностью. Но это, скорее всего, ошибка. Просто мы переносим на само внимание то, что думаем относительно способности его использовать. Само же внимание встречается у слишком большого числа видов живых существ, чтобы можно было предположить, что кто-то им не обладает. Скорее всего, это свойство сознания. Причем, если вглядеться в его имя в русском языке, то в нем видны корневая основа «имать», «нимать», которая, как мне кажется, указывает на некое забирание, вбирание, которое делает сознание. Иначе говоря, внимание, это что-то вроде усиленного восприятия. В этом смысле в-нимание — это почти калька вос-при-ятия. Но язык не создает разных слов для обозначения одного и того же явления. Раз имена разные, значит, и явления эти чем-то отличались в глазах народа. И кстати, в самих словах эта разница ощущается. Приятие — это состояние без усилия. В приятии ты просто позволяешь чему-то прийти или случиться, не противодействуя, но и не способствуя. Имая, ты действуешь, ты прикладываешь усилие. Из-за этого психологическое определение внимания через деятельность может показаться не столь далеким от истины. Но если это и деятельность, то по усилению восприятия и только его. Но и это неверно, если приглядеться. Внимание все-таки не деятельность — внимание — это усиленное восприятие, то есть восприятие по существу. Оно может считаться деятельностью лишь в том случае, если деятельностью является восприятие. Восприятие можно сделать деятельностью, если захотеть. Но является ли восприятие деятельностью в сущности, исходно? Нет. Это свойство. И значит, наблюдение тоже есть свойство, усиленное способностью. Свойство это проявляется подобно сужению зрачка в зависимости от внешних раздражителей. Это наглядно видно при непроизвольном внимании. Нечто, значительно отличающееся от привычного окружения, непроизвольно привлекает наше внимание, что, по сути, означает, что привлекает наше восприятие, делая его направленным. Поскольку подобные случаи непроизвольного собирания внимания оказываются полезны для выживания, мы начинаем тренировать свою способность собирать восприятие в пучок, то есть собирать внимание и удерживать его. И доводим эту свою способность до того, что она становится произвольной и даже обученной. Вот эта обученность внимания, я думаю, и становится основой наблюдения. Как видно из самого слова, оно содержит корневую основу блю- ту же, что и в блюду, блюсти, то есть нечто близкое к слежу. Получается, что наблюдение — это слежение, положенное на обученное сосредотачиваться внимание как способность сознания усиленно воспринимать. Это определение оставляет вопрос о том, что воспринимается. Но в рабочем определении мы можем ограничиться очевидным ответом — впечатления. То есть отпечатки с предметов и явлений внешнего мира. По сути, они окажутся образами. И значит, если попытаться создать рабочее определение, то получится: Наблюдение — есть намеренное слежение, использующее обученное сосредотачиваться внимание как способность сознания усиленно воспринимать, то есть создавать образы только избранного участка мира. Причем, любого мира из доступных нам — как настоящего, так и воображаемых. Признаюсь честно, я совсем не доволен этим определением. Я его создал только затем, чтобы исследовать и понять, где оно не соответствует действительности, а тем самым уточнить. Иными словами, это определение нужно не затем, чтобы успокоиться, потому что неведомое получило имя, а значит, усмирено магическими средствами, а как раз наоборот, чтобы начать движение к познанию наблюдения. Глава 3. Наблюдение есть блюдение Как вы заметили, я завершил определение наблюдения на основе, скорее, языковедческого определения Ожегова, чем определения психологов. Вкратце оно звучит так: Наблюдение — есть внимательное слежение. А почему не намеренное восприятие? Во-первых, потому, что я изначально заявил, что хочу извлечь пользу из своего исследования. В данном случае это означает, что я хочу научиться наблюдению. Чтобы вести самонаблюдение. Попробуйте преднамеренно и целенаправленно воспринимать себя. Вам понятно, что делать? А теперь попробуйте следить за собой, за тем, что делаете и думаете? Есть разница? Она не только есть, но она с очевидностью показывает, что психологи, да и философы, давая свои определения, имели целью не наблюдение, а неуязвимость в глазах других ученых. Поэтому они делали то, что нужно Науке — наукообразность, — а не то, что нужно наблюдателям. Но это первое. А есть и второе. Вглядитесь в само слово. Оно явно состоит из двух частей: на — и — блюдение. «Блюдение» — это несуществующее в современных словарях существительное от глагола блюсти. А что такое блюсти? Академический "Словарь русского языка" (1985) дает такое определение: Блюсти, блюду, блюдешь, охранять, беречь. 2. устаревшее. Следить, смотреть за кем-чем-либо; наблюдать. И приводит пример из Гончарова: "И всех и все в доме она [бабушка] блюдет зорким оком и видит из одного окна- свою деревню, поля, из другого — сад, огород и людские". В этом примере я выделил бы два образа, которые помогут понять самонаблюдение. Во-первых — "зоркое око". Мы вполне можем принять его как некое условное наименование для какого-то органа, которым производится наблюдение. Хотя в народе чаще применялось выражение "Око души". Впрочем, это пока можно опустить, потому что однажды народной психологии придется посвятить полноценное исследование. Итак, возвращаясь к этимологическому исследованию, как видите, даже если сейчас значения слов несколько сместились, блюдение определенно понималось как слежение. Кстати, у Срезневского и Даля, то есть в середине XIX века, слово «блюдение» указано как живое. Правда, блюсти у Даля понимается только как хранить, оберегать, стеречь, беречь. Но при этом приводятся примеры вроде блюсти посты, которые не соответствуют его определениям. А понимаются они, скорее, как: следить за тем, чтобы не нарушать посты, чтобы выполнять правила постов, — или близко к этому. Кстати и блюсти порядок, блюсти достоинство, блюсти законы — это вовсе не охранять их от нападений, а следить за тем, чтобы они не нарушались. Следить. Блюдение есть вид слежения. Это определенно. Вид особого, напряженного или внимательного слежения с заинтересованностью. Значения "сторожить, охранять" я опускаю, как вторичные, потому что это виды деятельности, использующие внимательное слежение или приглядывание. "Этимологический словарь" Преображенского связывает «блюсти» через корень буд перетасовывающийся в ojyd-блюд с бдеть, бодр, будить. "Историко-этимологический словарь" Черныха развивает эту связь: Старо-славянское блюсти. Индоевропейский корень «bheudh» (bhoudh, bhudh) — «бодрствовать», "наблюдать". А также приводит соответствия из древнегреческого, авестийского и древнеиндийского языков, которые звучат как: «разузнаю», "получаю сведения", «расспрашиваю», «разузнает», «выясняет», «просыпается», «воспринимает», "наблюдает". Среди этого перечня значений, есть два, которые ощущаются очень важными. Первое — это, конечно, пробужденность, бодрствование, которые ощущаются необходимым условием наблюдения даже без понимания того, что же это такое. Второе — это «выяснение». Точнее, скрывающееся за ним понятие «ясности». Каким-то образом наблюдение то ли использует ясность, то ли создает ясность, то ли увеличивает ее. Оба эти понятия требуется понять прежде, чем давать окончательное определение наблюдения. Кстати, как и определения души и сознания. Я этого сейчас сделать не смогу. Судите сами — бодрствование, оно же пробужденность, явно сродни буддовости или просветлению. Понять это, хотя бы на уровне достаточном для создания рабочего определения, будет вовсе не просто. "Ясность" же явно, с одной стороны, имеет отношение к сознанию. С другой же, для меня, по крайней мере, прокидывает мостик к созерцанию. Еще одному сложнейшему орудию, которым должен владеть начинающий самопознание. Созерцание же, как мной ощущается, родственно наблюдению, но в каком-то смысле превосходит его. Возможно, в смысле чистоты сознания, его свободы от личности и ее усилий. Созерцание указывается и одним из высших достижений всех школ, занимавшихся раскрытием скрытых человеческих возможностей и достижения приобщения к иным мирам. К той самой "глубокой реальности", о которой мы уже говорили ранее. Глава 4. Наблюдение есть восприятие Чтобы сделать свое исследование представительнее, отражающим представления всей Психологии, я было хотел начать этот разговор с того, что думает о восприятии современная американская психология, но сломался. Все, что у меня осталось — ощущение радостного возбуждения, которое испытывают американские психологи, говоря о своих теориях. Понимает ли их остальной мир — им дела нет: а куда они денутся? Мы чемпионы! Захотят публиковаться в Америке — будут говорить по-нашему. Сопоставить с американцами можно разве что жутковатые попытки Бехтерева говорить о внимании как о рефлексе сосредоточения органов восприятия. Думаю, что вся официальная Американская психология обречена обогатиться и умереть, как умерла Советская психология. К науке как поиску истины они обе имели весьма отдаленное отношение. Все это узнаваемое американское трескучее и шумное саморасхваливание совершенно не позволяет понять, что же такое восприятие. Зато ты довольно быстро понимаешь, кто умнее, и кто у кого должен учиться. Однако, если объяснение нельзя понять, то это что-то да должно значить. Например то, что ответ скрывают. Или еще хуже — что ответа вообще нет. То ли король голый, то ли одежды без короля, но что-то не так с восприятием. А что? Да то, что это понятие — одно из самых сложных в психологии, и до сих пор, несмотря на почти двести лет усилий, психология, что такое восприятие, не знает. Еще в середине семидесятых ведущий советский специалист по общей психологии, которая начинается и вырастает из теории восприятия, А. Н. Леонтьев неоднократно заявлял, что проблема восприятия в психологии не решена и дальше представлений Гельмгольца продвинуться не удалось: "В послегельмгольцевский период экспериментальное изучение процессов перцепции ознаменовалось огромными успехами, так что психология восприятия наводнена сейчас великим множеством разнообразных фактов и частных теорий. Но вот что удивительно: несмотря на эти успехи, теоретическая позиция Гельмгольца осталась непоколебимой" (Леонтьев А. Н. Личность, мышление, деятельность. — М.: Полит, лит., 1976, с. 134). Гельмгольц свои основные работы писал в 60-70-х годах XIX века. Пересказывать его идеи о роли мышечных движений и ощущений в формировании пространственного образа или "доктрину о специфической энергии органов чувств" я не буду. Мне важнее пока сделать очевидным, что определять наблюдение через восприятие, которое само на деле не определено, — это не наука. Кстати, если я правильно понял Леонтьева, то все огромные успехи, которыми ознаменовалась деятельность психологии восприятия после Гельмгольца, можно вывести вот из этой его фразы: "Итак, какие же фундаментальные проблемы открыло это замечательное продвижение в психологии, которое состояло в том, что восприятие стало пониматься как процесс порождения образа мира?" (Там же, с. 109). Иными словами, все продвижение состояло в том, что восприятие то ли создает, то ли осуществляется при помощи Образа мира. Последние годы это явление стало очень модным, и о нем много пишут. Но я, пожалуй, воздержусь от этого разговора… А то, что восприятие по-прежнему не просто не понято, а похоже, представляет из себя некую сложнейшую ловушку для психологической мысли, подтверждают и гораздо более поздние работы, чем труды Леонтьева. К примеру, в 1991 году А. Пашутин, посвятил целую книгу задаче обосновать саму возможность психологически исследовать восприятие. Работа называлась "Восприятие и наблюдение". Она хороша уже тем, что она в первой же строке определяет цели исследования. "Цель этой книги — дать научное обоснование методу наблюдения, а это, естественно, связано с интерпретацией восприятия, поскольку в этом способе приобретения знаний главным является применение восприятия в научных целях, то есть наблюдение" (Пашутин, с. 3). На деле Пашутин так и не добирается до разговора о наблюдении как таковом, что, впрочем, может быть оправдано в рамках его понимания. Если наблюдение есть восприятие в научных целях, то никакое собственно наблюдение не имеет значения. Главное — понять восприятие. И он честно посвящает восприятию все исследование, довольно заумное, но отнюдь не пустое. Однако все не так просто: "Сложность здесь в том, что сама проблема восприятия, которая входит в предмет психологии, до сих пор остается нерешенной" (с 3). Далее Пашутин, по сути, обращается к возможности философского обоснования познания восприятия. Потребность в таком обосновании возможна лишь в том случае, если оно отсутствует в Научной психологии. Именно это и доказывает исследование Пашутина — Научная психология до сих пор не создала исходных рассуждений, объясняющих, как может вестись исследование восприятия. Рассуждения Пашутина слишком сложны, чтобы можно пересказать их кратко. Но для того, чтобы было понятно само исходное сомнение, я задам вопрос: видим ли мы то, что видим? Начнем с физики. Если мы видим красную вещь, то является ли вещь "красной"? Что такое красный цвет? Присущ ли он вещи? Ведь это всего лишь выражение качества вещи, позволяющего ей отражать одни лучи, и не отражать другие. Иными словами, цвет вещи, ее температура, вес и многое другое, что мы о ней знаем, на поверку оказывается чем-то совсем иным, а не тем, чем мы привычно считаем. Тот же звук, например, вообще отсутствует во вселенной. Есть лишь колебания, возникающие при взаимодействии предметов, распространяемые средами и улавливаемые барабанными перепонками. Вселенная нема. Но мы ее слышим, и даже научились наслаждаться обилием звуков, называемых музыкой. Человечество буквально охвачено болезнью меломании, тут и там ручейки поклонников музыки стекаются в бушующие озера, а то и моря концертов. Радио и телевидение вообще превратило человечество в единый музыкальный океан, наслаждающийся чем-то, но только не музыкой! А чем? Волнами! Волнами мы наслаждаемся, как и полагается океану. Это так естественно для океана созерцать себя через волны… Это первый уровень сомнения в нашем представлении о восприятии. На втором уровне мы можем задать вопрос: что мы видим? То ли, что отразилось на сетчатке глаза? Если то же, что видит глаз, то внутри нас должен быть некто, "маленький человечек", гомункулус, который рассматривает эти образы. Но «рассматривает» их мозг. Это мы знаем точно. Понимать может и душа и ум, но рассматривает мозг, потому что эти зрительные образы, попавшие на сетчатку, затем перекодируются в нервные сигналы, и по нервным путям поступают в мозговую ткань. И получается, что по-настоящему «видит» нечто, что рассматривает эти участки мозга. Но что? И как это происходит? Пашутин приводит наблюдения над этим, сделанные еще Галилеем, Декартом и Ньютоном. К примеру, Галилей писал: "Никогда я не стану от внешних тел требовать чего-либо иного, чем величина, фигура, количество и более или менее быстрые движения для того, чтобы объяснить возникновение ощущения вкуса, запаха и звука. Я не чувствую разумной необходимости, чтобы она (материя. — А.П.) была белой или красной, горькой или сладкой, звучащей или беззвучной, обладала приятным или неприятным запахом… Вкусы, запахи, цвета и т. д. являются по отношению к объектам не чем иным, как только пустыми именами и имеют своим источником только наши чувства. С устранением живого существа были бы одновременно устранены и уничтожены эти качества" (Цит. по: Пашутин, с. 33). Вывод из всего этого делается грустный. К счастью, для Пашутина он оказывается лишь началом его собственного исследования: "Хотя психологическое представление о восприятии делает невозможным научное обоснование метода наблюдения, тем не менее все воспринимаемые или наблюдаемые факты введены в науку. Дело в том, что психологическая концепция восприятия, помещая этот вид образования знаний не туда, где он на самом деле происходит, естественно не влияет на ход реального восприятия, из-за этого человек не слепнет и не глохнет. Соответственно, если психологической концепцией восприятия нельзя обосновать метод наблюдения, он не исчезает из науки" (Там же, с. 15). Я бы сказал так: понимает наука, что такое восприятие, или не понимает, понимает ли она, что такое наблюдение, или нет, это не только не помешает нам наблюдать, но не помешает и разобраться с тем, что же такое наблюдение. И даже если разобраться до конца не удастся, полагаться на заведомо неверные определения официальной науки — ошибка. Лучше искать и ошибаться самому. На этом пути хотя бы есть надежда. Глава 5. Раздумывая о восприятии А. Н. Леонтьев, один из самых маститых русских психологов советского периода, в своей лебединой песне — "Лекциях по общей психологии" 1973-75 годов, — говоря о восприятии, изначально признает, что это проблема. И проблема, психологией не решенная. И там же он объясняет, что одна из главных сложностей этой проблемы — это понятие образа. В чем суть этой сложности? А дело в том, что мы действуем, как бы имея перед собой воображаемую картинку того, что хотим получить, и того, как надо этого достигать. Мы весьма отчетливо видим внутренним зрением, как, к примеру, сейчас закроем с хлопком книгу, отложим ее в сторону, шлепнув по твердому столу, встанем и будем упруго махать руками, делая восстановительную гимнастику, пока не почувствуем утомления в мышцах и не запахнет потом. Тогда мы сбросим одежду и бросимся под контрастный душ, и будем попеременно наслаждаться жаром и холодом, задерживая дыхание… Вот так мы представляем себе образы. В основе — зрительное представление самого себя, точнее, своего тела внутри пространства, соответствующего помещению или месту, где я сейчас нахожусь. Причем то, что мое представление о пространстве соответствует действительному пространству, а мой образ внутри воображаемого пространства действует так же хорошо, как и внутри настоящего, убеждает меня в том, что мой образ себя соответствует действительности, то есть моему телу. Вернее, что он точно отражает и тело, и его способность двигаться. Соответственно, способность моего тела двигаться по действительному пространству после того, как я отработал эти движения в пространстве воображаемом, точнее, воображаемой копии окружающего меня пространства, делает очевидным, что я сумел воспринять окружающее пространство верно. Ну а поскольку я его вижу в тех самых по преимуществу зрительных образах, заставляет меня думать, что именно так я его и воспринял. Вот так, приблизительно, мы представляем себе восприятие при первой попытке о нем подумать. Психолог — это человек, который не остановился на первой попытке и сделал вторую. Эту вторую современный психолог, собственно говоря, сделал в Декартовской психологии, а еще вернее, в философии Беркли. Я уже приводил классическое рассуждение о том, что глаз не может передавать в мозг те зрительные образы, что отпечатываются на сетчатке. Мозг требует совсем другого языка. Это первое. Второе — это то, что действительность совсем не такова, как мы ее видим, слышим и ощущаем. И если довести этот подход до своего предела, то получится, что того мира, который мы видим и воспринимаем, нет совсем. Это все — всего лишь наше воображение. А что же есть? Что-то все-таки определенно есть. Иными словами, даже если считать весь этот мир сном моего разума, что-то все равно есть. Хотя бы сон. Далее. Мы можем исходить из того предположения, что все есть лишь наше воображение. Доказать, что мир не снится мне, невозможно. Но можем исходить из того, что мир вокруг настоящий. Это всего лишь выбор. Выбор очень важный, потому что если вокруг меня нет мира, а я сплю, то это стоило бы обдумать, потому что в таком случае я хотел бы знать, что мне делать. Но для того, чтобы начать думать о себе и мире так, мне нужно быть уверенным в том, что все есть сон. А пока меня в этом ничто не убеждает, кроме игрушек в логические парадоксы, то есть в слова. В то время как отношения к миру как к действительности подтверждается всем моим разумом. Эта уверенность в истинности мира может быть очень большой ошибкой. Настолько большой, что ее невозможно охватить взглядом меньшей широты, чем целая жизнь. Иными словами, возможно, мы спим и видим сны длиною в жизнь, но не можем этого осознать, потому что нам не хватает жизни. Возможно. Но тогда я хочу понять природу этого сна, потому что ощущаю его ловушкой и хочу вырваться. Если же мир — действительность, тогда я оказываюсь перед другим выбором: считать ли мне себя смертным и одноразовым, простите, или же после смерти я могу рассчитывать еще на какое-то бытие? И тут я снова могу избрать то, что мне больше по нраву. Материалисты почему-то избирали до пены у рта и крови из глоток доказывать всем, что они смертны и очень злились, когда им предлагали поискать бессмертия. При этом они так ничего и не доказали. Почему? Да просто потому, что всем очень жить хочется. Я не идеалист и не спиритуалист, как, впрочем, и не материалист. Я просто очень хочу жить. И мне глубоко плевать на такие психологии, физиологии и философии, которые поставили себе целью описать устройство мира и человека. Я хочу иметь науку, которая в этом действительном мире сделает своей задачей поиск бессмертия для меня и других людей. Это значит, что я исходно готов изучать все — действительность, сны, материю, дух, — лишь бы при этом они точно и понятно сказали мне, что надо делать, чтобы продолжить жить после смерти. При таком подходе, как вы понимаете, можно изучать как душу, так и тело. Но исходно одно — я избираю считать, что я могу быть бессмертным. И вопрос распадается на две составляющие. Либо мы изначально обречены на бессмертие в наших душах, либо мы можем достичь его, сделав что-то с собой. При этом, если моя душа в любом случае будет жить после смерти, то что надо сделать, чтобы жить душой лучше, и что лучше для души? А если возможность бессмертия надо заработать, то как? И если даосы считают возможным бессмертие в теле, то ясно, что для такого бессмертия нужно делать что-то иное, по сравнению с душевным бессмертием. Что? Вот эти выборы относительно бессмертия позволяют, на мой взгляд, упростить и вопрос о действительности окружающего мира. Мне, собственно, все равно, настоящий он или воображаемый, — мне надо понять, возможно ли в этом окружающем мире бессмертие. И если он сон, то я умираю в конце этого сна. Правда, мне могут сказать, что потом я буду видеть новый сон. Но это слова. Если в мой разум еще можно заронить сомнения в том, что я воспринимаю действительность, никто меня не убедит, что моя жизнь не кончится смертью, и никто не даст мне уверенности, что после этого наступит новая жизнь или новый сон. Следовательно, все сомнения в том, что этот мир настоящий, — ложны, даже если этот мир воображаемый. Для меня это единственная действительность, потому что она конечна против моего желания. И поэтому я буду рассматривать ее как своего рода противника, который несет мне смерть. Я не называю действительность смертельным врагом, потому что я люблю его дар — жизнь, и еще потому, что я подозреваю, что он не враг, а учитель и воспитатель, который создал для меня учебную ловушку с задачей на выживание. Но он противник, а цена поединка — жизнь. Смертельного противника надо изучить, понять и победить. Или, это будет вернее, преодолеть. А как мне его изучить и понять, если единственными орудиями моего познания являются способность восприятия и разум? Я должен буду сначала понять, как же я воспринимаю свое окружение, а затем, если это потребуется, улучшить свою способность познавать, доведя ее до своего предела. Точно так же мне придется понять, как же я думаю, и вероятнее всего, поработать над совершенствованием своего разума. Все разговоры об интуитивном или запредельном восприятии я пока опускаю, потому что они и возможны только после того, как ты добрался до предела своего разума. А я до него не только не добрался, я даже его не ощущаю. Следовательно, избрать, развивать в себе что-то сверхчувственное, было бы для меня в начале пути ложью. Хотя, возможно, моя работа над собой, то есть над способностями думать и воспринимать, — как раз и приведет меня к раскрытию каких-то особых способностей. Но пусть это случится как итог естественного развития, а не как способ перепрыгнуть через трудные места. Способности думать, то есть Разуму, я намерен посвятить особое исследование. Пока продолжу разговор о восприятии. При этом я считаю, что это восприятие действительности, потому что ловушка, в которой я нахожусь, действительна и доступна мне лишь в восприятии и его осмыслении. Это моя единственная возможность из нее вырваться — считать ее действительной и пройти насквозь, как пленку или слои тумана. И я пока не буду гадать о том, что же там, за туманом восприятия. Я намерен копать, а не скакать мыслью по предположениям. И я отбрасываю держащие меня в неопределенности и бездействии сомнения, и копаю. Что же за сомнение позволило Леонтьеву признаться, что проблема восприятия не решена в психологии? Это было сомнение в том, что данные нашего опыта самонаблюдения совместимы с данными современной нейропсихологии. Будем честными, даже изгоняя понятие самонаблюдения из психологии, Психология при этом постоянно исходила из представлений, полученных самонаблюдением. А что такое само понятие «образ», так заинтересовавшее Леонтьева, как не описание самонаблюдения? Попытки рефлексологии и объективных психологии вообще обойтись без самонаблюдения и даже заменить свой язык на совершенно объективный, то есть не учитывающий самонаблюдения, приводили к таким жутким нагромождениям, что читать книги той поры вообще невозможно. При этом разумная нейрофизиология, а за ней и нейропсихология, в своих описаниях работы нервной системы и мозга в двадцатом веке пришли к тому, что стали использовать язык кибернетики, тем самым уподобляя мозг и нервную систему компьютеру. Точнее, сейчас бы это было названо локальной сетью. Частенько использовалось и введенное бихевиористами понятие "черного ящика", не знаю, кем и у кого заимствованное. На фоне этих физико-подобных описаний основания, на котором развивается психика, психология выглядела беспомощной. Образ никак не совмещался с нервными импульсами и разрядами нейронов и их связями. При этом нейрофизиологам, особенно после Павлова, все казалось очень просто: есть рефлекторная дуга, и ею объясняется все поведение. Стимул из внешнего мира — восприятие чувствительным нервным окончанием — сигнал, бегущий по центростремительному нерву к мозгу — обработка сигнала в соответствуюшем центре — сигнал, бегущий по центробежному нерву к соответствующей мышце — действие. Вот нейрологическая схема восприятия. В ней психологи просто не нужны, и Павлов так прямо и говорил. За употребление психологических слов он даже штрафовал деньгами у себя в лаборатории. Для психолога в этой схеме нет места. И когда Сеченов требовал передать психологию физиологам, он в этом нисколько не сомневался. И когда Павлов резал собак, нарабатывая у них слюноотделение, тоже казалось, что до решения последних загадок души остались считанные минуты. А потом немцы начали работать с обезьянами и поняли, что дальше слюноотделения у собак и центра удовольствия у американских последователей Павлова рефлекторная дуга не работает. Тогда они придумали слово «Гештальт», которое, как с восхищением объяснял студентам Леонтьев, так сложно, что на другие языки не переводится, а поэтому его лучше и не переводить, а наслаждаться им по памяти. Это страшный порок психологии — заимствование множества непонятных и непонятых терминов, которые не переводятся. Не переводится, значит, не понимается, потому что перевод — это прежде всего понимание. Гештальт — это всего лишь образ, но образ, понимаемый немецкими психологами чуть сложнее, чем понимался остальными психологами. Это была, так сказать, третья попытка понять, что такое образ. И она тоже не удалась, если верить Психологии. Но если задуматься, то она сказала одну очень определенную вещь: образ — это нечто, что надо понимать иначе, чем мы привыкли. И вот это «привыкли» и надо было понять и даже исследовать. А как мы привыкли, и что во мне привыкло понимать, что такое образ? Ответ, как видите, лежит в самопознании, а это как раз то, что в Психологии оказалось недопустимо, как дурной тон. Это я привык считать, что образы — это то, что я вижу в своем воображении, когда думаю о себе или о том, как я буду сейчас действовать в окружающем меня пространстве. И эти представления во многом зрительны. Почему? Для дальнейшего разговора я использую материалы этнопсихологии, которой занимался много лет. Глава 6. Этнопсихология восприятия Это меня так увлекло, что я решил переспециализироваться на этнопсихолога и получил психологическое образование. То, что я делаю сейчас как психолог, в первую очередь, есть дань благодарности обучавшим меня мазыкам. Можно сказать, что и самопознание, и все попытки докопаться до действительных корней психологических явлений — это решение задачи, оставленной мне в наследство простыми учителями из народа. Я пришел к психологии через историю, точнее, этнографию. Одно время я довольно много ездил в этнографические экспедиции, собирал ремесла и обычаи. Эти поездки привели меня в 1985 году к людям, которые называли себя мазыками. Они жили на Владимирщине — это теперешние Владимирская и Ивановская области — и знали то, что местные жители считали чародейством, а я посчитал народной психологией. На деле мои информаторы, как принято у этнографов называть тех, с кем беседуешь и от кого получаешь свои знания, утверждали, что они потомки особой группы внутри офеньского сообщества — мазыков. Офени же — это те самые коробейники, торговцы вразнос, о которых поется в народных песнях. Но я расскажу о мазыках в другом месте. А сейчас просто воспользуюсь собранными тогда материалами. Мне вспоминается образ, которым один из дедов объяснял мне, как происходит восприятие. Случилось это после рыбалки на Клязьме. — Тебе раньше случалось ловить рыбу? — спросил он меня. — Или долго собирать грибы? — Конечно, случалось. — А помнишь, что стоит у тебя перед глазами, когда ты потом их закрываешь? Я вспомнил. Долгое время после рыбалки меня мучил клюющий поплавок. А после грибов — листья, трава и мелькающие среди них грибы. — Вот это у нас называется — грибки клюют, — засмеялся дед. — Так болеет твое сознание… Сознание болеет после того, как я долго заставлял свое внимание усилием удерживаться на определенном образе или предмете. Поплавок — это предмет внешний по отношению ко мне. Наблюдение за поплавком — это чистой воды восприятие. Поиск грибов — это сличение внутреннего образа, точнее, нескольких, со всеми возможными образами внешних предметов с целью узнавания. И ты все время удерживаешь в сознании целую картотеку образов, которую пробегаешь внутренним взглядом раз за разом, когда восприятие подсовывает что-то похожее. При этом внимание раздвоено и направлено то на внешний мир, то внутрь. Собственно говоря, и при наблюдении за поплавком происходит то же самое. Только вместо множественных предметов есть множественные состояния одного. Но и эти состояния удерживаются в сознании как набор картин или кадры. Итогом такого перебора образов и одновременно напряженного удержания внимания оказывается перенасыщение сознания образами, и они словно бы выпихиваются или выдавливаются сознанием из себя во время отдыха. При этом, как говорил тот же старик, происходит поражение сознания, то есть нанесение ему раны — от слова «разить». И слово «образ» происходит от того же корня. Единственное, что добавляется, это ограничивающая приставка об-, как в слове об-рез. Означает она некий о-хват, о-граничение. Иными словами об-раз — это поток восприятия, имеющий предел. И предел этот узнается сознанием, как граница полученного впечатления, то есть отпечатка. Как вы понимаете, это означает, что мазыки понимали сознание отнюдь не так, как современная психология. Не как некие мыслительные операции, грубо говоря, а как среду, вроде вощеной дощечки Сократа. Среду вполне материальную, но очень тонкую, наподобие физических сред, описанных в последних достижениях физики. Оставлю пока без обсуждения, возможно ли такое, хотя я уже писал во "Введении в культурно-историческую психологию", что сложности нейропсихологии с поиском материального понятия энграммы, — то есть отпечатка, составляющего основу памяти, — не решаются без выдвижения новых гипотез. В частности гипотезы об иной природе памяти, не являющейся итогом межнейронных взаимодействий или химической активности внутримозговой жидкости, глии. Иная природа памяти — это и есть иная природа сознания. Пока без всяких попыток что-то утверждать, просто посмотрим, как видели восприятие в одной из традиционных культур. Возможно, мазыки ошибались, но отбросить их представления труда не составит. Мы уже многое отбросили только потому, что этого нет и быть не может! Так вот, каждый образ, который воспринимается человеком, на самом деле воспринимается его сознанием. И воспринимается как отпечаток. При этом сознание очень бережно к самому себе. Оно не делает повторных отпечатков. Вернее было бы сказать, что за этим следит разум, как способность сознания творить и использовать образы, но это, пожалуй, будет слишком непонятно без дополнительных объяснений. Так что остановимся на том, что сознание имеет возможность проверять, есть ли уже в нем воспринимаемый образ. И проверяет оно это каждый раз, когда происходит восприятие. И если образа еще нет, оно делает с него отпечаток, а если он есть, то сознание его узнает. Это значит, что нового отпечатка делать не надо, этот образ уже есть. Но вот я долго и напряженно слежу за поплавком. Что происходит с моим сознанием? Оно постоянно узнает образы поплавка и как бы отбрасывает их: уже есть! А я постоянно усилием заставляю узнавать их снова и снова. А потом мне страшно закрыть глаза, потому что перед внутренним взором плавает и клюет этот проклятый поплавок, а мне некуда от него деться! И это боль. Только я не привык так называть подобные ощущения и как бы ее не чувствую. — А как, по-твоему, — спросил меня мой дед, — а когда у тебя глаза открыты, ты этот поплавок не видишь? Честно признаюсь, меня даже испариной прошибло от стыда, когда я это услышал. Ну, конечно же, я вроде бы и знал, что образы эти идут как кино у меня перед глазами постоянно, — хоть с закрытыми глазами, хоть с открытыми. Просто я их вижу только в темноте. Но почему деревенский старик этим владеет, а я, такой умный и ученый, это упустил и не сообразил сам?! — Конечно, вижу… — Ну, как видишь? — улыбнулся он. — Если бы видел, так непременно сказал бы. Значит, не видишь. Знаешь, понимаешь, что они и сейчас у тебя перед глазами, но не видишь. И опять он был прав, хотя теперь я принял свое маленькое поражение спокойнее, потому что его перекрывал появившийся вопрос: А какова механика того, что, даже насмотревшись на поплавок или грибы, я начинаю их видеть только когда закрою глаза? — Не мучай себя. Начни просто: привычка! Вот так я впервые столкнулся с тем, что за привычка мешает психологу видеть устройство своего сознания, ума или то же самое восприятие. Тогда в разговоре моя мысль рванулась представить себе, как же так получилось, что я, зная, что образы, болезненно навязанные моему сознанию, продолжают мерещиться мне не только с закрытыми глазами, но и постоянно, тем не менее, совсем их не замечаю, пока глаза открыты? Я попробовал увидеть эти образы с открытыми глазами, благо, разговор происходил как раз после долгой рыбалки, и я действительно сумел почувствовать их присутствие словно бы в глубине моего видения. Иными словами, вопрос заключался в направлении моего зрения. При открытых глазах зрение устремлялось во внешний мир, точно от этого зависела сама моя жизнь. Что, кстати, вероятно, близко к истине. А при закрытых его подменяли другие чувства. Зрение же углублялось в то, что подсовывало ему сознание. Вот только было ли это зрение глаз? Как вы понимаете, это тот же самый вопрос о том, каков же настоящий мир. Если я вижу поплавок лишь с закрытыми глазами, значит, я вижу его не глазами! Значит, такой мир, к какому я привык, это точно не то, что видят глаза… Но старик не дал мне особо углубиться в это исследование. — Потом, потом сам докопаешься, — остановил он мое самоуглубление. — Ты, главное, пойми одну вещь. Вот ты сейчас согласен со мной, что когда грибки клюют — это болезнь? Да, к этому времени я уже ощущал, что это состояние нездоровое и даже сам допустил мысль, что я ощущаю, как болит само сознание. Это было очень странное допущение, что я могу ощущать непонятно каким органом боль в таком странном и бесплотном явлении, как сознание, но я ее чувствовал. — Так вот, главное, — заключил он, — эта боль еще не боль. Есть хуже. Я подумал, что он ведет к каким-нибудь перегрузкам или хитрым воздействиям, но ответ опять выбил меня из себя: — Главная боль — это обычное состояние сознания. Я был озадачен, а он помолчал и добавил: — Ты ведь так к нему привык, что и мысли не допускаешь, что обычное состояние — это больно. А ведь это тоже образы, значит порезы в сознании. Вот погоди, ты еще начнешь чувствовать, что когда работает разум, тебе больно… Мне потребовалось пятнадцать лет, чтобы понять, о чем он говорил… Но это я опущу как вещь бездоказательную и трудно доступную. Зато мы теперь можем продолжить разговор о восприятии. Итак, я гляжу на поплавок, он меняет свои состояния — то спокойно стоит в воде, то начинает шевелиться, то вдруг ныряет или скользит в сторону. Я жду и сравниваю его движения со своим знанием о том, как должен себя вести поплавок. Но в какой-то миг я дергаю удочку — подсекаю. И на конце лески ощущается сопротивление. Или не ощущается. И если оно не ощущается, я понимаю, что неправильно прочитал поведение поплавка. Там, в глубине воды, — черный ящик, об устройстве которого я могу догадываться лишь по его поведению. По эту сторону разделяющей нас поверхности, в глубине пространства, другой черный ящик, об устройстве которого я могу догадываться лишь по его взаимодействию с первым ящиком. Не хватает только Джуанцзы и бабочки, которой он снится… Рыба… какое мне дело до рыбы?! Мне нужно от нее только одно — чтобы она поймалась. А для этого я должен перенести то ошибочное узнавание образа движений поплавка из разряда: Подсекай! — в разряд: Еще жди. Заметьте, появилось уточнение: образ движений поплавка. Это значит, что у меня, кроме чисто зрительного образа поплавка, который, в общем-то, очень понятен, есть еще такое странное образование — образ движений поплавка. Что такое образ движений? И вообще, в состоянии ли мы видеть движения? На самом деле, говоря о движении, мы чаще всего говорим о перемещении. Движение нам почти недоступно для наблюдения, как, например, энергия или душа. Мы судим о движении по его проявлениям. Движущееся перемещается, и это мы видим, потому что предмет, перемещаясь, меняет положение относительно других предметов. Если, конечно, можно назвать предметом поверхность воды или волны. Скорее, это явления. Явления воды. Так она себя являет наблюдателю. Следовательно, взглянув на воду с поплавком в первый раз, я запоминаю ее поверхность и положение поплавка. Потом я запоминаю, как он может менять свое положение относительно поверхности воды. А потом я запоминаю, при каком его положении мне надо подсекать. И когда он оказывается в этом положении или положении близком к этому, я подсекаю. Само это положение как бы спускает спусковой крючок. Восприятие — импульс — сигнал — ответный импульс — сокращение мышц — и я подсекаю. Так что же спускает этот крючок? Картинка того, насколько погрузился поплавок в воду? Один из множества подобных кадров? Вроде бы так. Но какова подробность этого кадра, то есть картины, необходимой для того, чтобы заработала "рефлекторная дуга"? Уточню вопрос. Насколько избыточной является для действия та картина водной поверхности с водорослями, волнами, живностью и отражениями, которую привычно нарисовало наше воображение? Насколько избыточно и изображение поплавка — объемного, раскрашенного, потертого и поцарапанного, со спичкой торчащей сверху и даже с сидящей на ней стрекозой? Спрошу иначе. Является ли это тем образом, который узнает сознание, чтобы подсечь? И как много лишних одежек мы можем снять с него, чтобы при этом узнавание подсечки все равно происходило? Я знаю, вы уже раздели и поплавок и воду почти от всего, что я перечислил. Но я помогу вам еще. Я приведу еще один пример из числа тех, что приводил мой старый учитель народной психологии. Скажите, вы можете видеть плотность? Это как с движением, которое скрыто в перемещении. Я говорю не о плотных вещах, а о плотности, скрытой в них. Я знаю, сейчас вы в недоумении и не понимаете, как можно видеть плотность… Тогда сделайте упражнение. Я его уже давал в других книгах и знаю — оно работает. Прямо сейчас закройте мою книгу, поверните ее ребром к себе и резко ткните углом в глаз. Не смейтесь и не думайте, что я дурак. Дурак — это всего лишь тот, кто задает такие вопросы, которые другие не задают. Просто попробуйте ткнуть. Знаете, что у вас получилось? Я опишу. Вы сложили книгу и двинули ее уголок в сторону глаза. Но поскольку вы не дурак, ваша рука замерла так, что уголок книги оказался близко от глаза, но его не коснулся. Почему? Да потому, что он плотный. А это означает боль. Вот первое наблюдение. А теперь повторите упражнение, и понаблюдаем еще раз. Вот вы приготовили книгу. Вы ее узнаете — у нее все тот же образ, что вы помнили. Теперь вы быстро тыкаете книгой. Она замирает перед глазом, и вдруг вы замечаете, как в ее образ возвращаются черты, детали, и вообще полнота восприятия! В миг, когда книга приблизилась к глазу на опасное расстояние, она начала раздеваться. И чем ближе она была к боли, тем бесцветнее и бесформеннее становилась, пока вы вдруг не почувствовали, что дальше будет действительно больно, и не нажали на спусковой крючок: подсекай! И ваша рука получила импульс: мышцам стоп! Рефлекторная дуга замкнулась почти коротким замыканием. Еще немного и вы бы увидели искры. Но уже сейчас вы видели плотность в чистом виде. Что же такое тот образ, который мы вылавливаем из огромной и перенасыщенной картины, которую видим как Образ мира? Глава 7. Нейробиология восприятия Итак, что же такое образ, который воспринимается нами, как часть Образа мира? Приглядитесь, это нечто сходное с крошечным разрядом энергии, достаточное для управления микросхемой, состоящей из платы, сделанной даже не из силикона, а, возможно, из тончайшей среды, какая только существует в этой вселенной — сознания, если его понимать по-мазыкски, — и из нескольких связей, несравненно тоньше волосков. Связей, задачей которых является всего одно крошечное действие, как у диода — замкнуть цепь условного рефлекса: подсекай! Для управления такой микросхемой не нужны громоздкие картины окружающего мира. Они ее просто перегрузят или сожгут. Это первое. Второе. Ощущается разумным ожидать, что если на выходе был тончайший разряд энергии, точнее, биоэлектричества, насколько я это понимаю, то и на входе должно быть нечто однородное. Однородное, хотя бы не обязательно тождественное, потому что плата эта может служить как преобразователь. Улавливая более тонкие воздействия, она превращает их в сигнал, достаточный для запуска биоэлектрических сервомеханизмов нашего тела. Я прошу прощения за язык, которым я здесь пользуюсь. Я не люблю биоэнергетику и ее язык, но такой образ облегчает понимание. Он для меня не ответ, а скорее перст, указующий на луну, то есть на возможный ответ. Во всяком случае, он позволяет перейти к разговору о восприятии на материале современной нейропсихологии. Для этого я все-таки воспользуюсь американской книгой, написанной в конце 80-х двумя крупнейшими чилийскими ней-робиологами Матураной и Варелой. Книга эта хороша только тем, что она писалась профессионалами для простых людей и потому читается легче. По содержанию она от русской нейрофизиологии ничем не отличается. Основное ее название "Древо познания", но подзаголовок передает ее суть вернее: "Биологические корни человеческого понимания". Интересующую меня тему они начинают с описания той же рефлекторной дуги, правда, заменяя ее понятием "двигательного нейрона", который "активируясь, способен вызывать сокращение мышцы" (Матурана, Варела, с. 141). Тут мы имеем общее в представлениях. Далее идет определение восприятия, как его видит обычное мышление: "Обычно принято думать, что зрительное восприятие — это некие действия с отражением, возникающим на сетчатой оболочке глаза, в процессе которых это изображение затем трансформируется внутри нервной системы" (Там же, с. 143). И это, как видите, совпадает и не очень интересно. А вот дальше начинаются собственные взгляды этих нейробиологов. "Однако он (этот подход — А.Ш.) совершенно непригоден при рассмотрении феномена зрения" (Там же, с. 143). И далее следует длинное объяснение на таком языке, который призван, как я думаю, показать на собственном примере, что мозги при таком подходе просто перегрузятся. Но зато после этого нейробиологи переходят к объяснению поведения, а, соответственно, и к управлению им через восприятие. Определение поведения, правда, из разряда нейробиологи-ческих. "Поведение — это производимое наблюдателем описание изменений состояния системы относительно окружающей среды, с которой взаимодействует данная система" (с. 144). Чтобы оно хоть как-то заработало, стоит заменить «систему» на «человека» и немножко подправить: "Поведение — это изменение своих состояний относительно окружающей среды, производимое человеком благодаря «описанию» этой среды, которое он делает, наблюдая ее". Вот так бы я это перевел с языка нейрофизиологии на человеческий, хотя понятно, что понятие «описания» стоило бы объяснить отдельно. Но авторы это сделают сами, хотя и на своем языке через понятие "сенсорная поверхность": "Сенсорная поверхность включает в себя не только те клетки, которые мы видим извне как рецепторы, способные воспринять возбуждение, поступающее из внешней среды, но и клетки, которые может возбудить сам организм" (с. 144–145). Первое, что требуется сделать после этого заявления, это дополнить определение поведения, добавив одно уточнение: "Поведение — это изменение своих состояний относительно окружающей среды, производимое человеком благодаря «описанию» этой среды, которое он делает, наблюдая ее и себя". Как вы понимаете, это крошечное дополнение является нейрофизиологическим обоснованием самонаблюдения. Это первое. Во-вторых, если задуматься над этими словами нейробиологов, то станет ясно: описание, которое делает наблюдатель, пишется возбуждениями! Если сейчас позволить специальному нейрологическиму языку, который знаком каждому психологу, утянуть нас внутрь нейрофизиологических понятийных построений, откровение потеряется. Кто же не знает, что рецепторы возбуждаются! Забудьте на время этот язык. Посмотрите на их слова философски. Скорее всего, они и сами не поняли того, что сказали. Попробуйте понять слово «возбуждение» в том смысле, в каком оно используется в психологии, точнее, в науке о поведении. Как, например, в выражениях: животное возбудилось от запаха крови. Или: он вернулся с работы возбужденным. Опасность возбуждает меня. Сенсорные поверхности, рецепторы, нейроны, электронные платы, бионические датчики — какой еще дребедени нужно насовать в простое наблюдение, чтобы оно выглядело неуязвимым и окончательно научным?! Поведение определяется и даже диктуется возбуждениями, которые мы испытываем, воспринимая изменения, происходящие в окружающем мире. Я гляжу на поплавок, а вижу движение, я гляжу на приближающийся острый угол, а вижу плотность, я гляжу на мечущегося по клетке медведя, а вижу опасность… Но это вижу я, а мое восприятие видит только возбуждение. И образ его оно всегда и передает в мозг, как в головной компьютер, управляющий телом. А дальше: "нервная система функционирует как замкнутая сеть изменений в соотношениях активности между ее компонентами. Таким образом, испытывая надавливание в какой-либо части тела, мы как наблюдатели можем сказать: "Ага! Сокращение вот этой мышцы заставит меня поднять руку". Но с точки зрения функционирования самой нервной системы происходящее всецело сводится к постоянному поддерживанию определенных соотношений между сенсорными и моторными элементами, испытавшими временное возмущение в результате надавливания. Поддерживаемые соотношения в рассматриваемом случае довольно просты: это баланс между сенсорной активностью и мышечным тонусом" (Там же, с. 145). Если сказать это проще, то восприятие оказывается очень механической вещью — там, где-то на самых глубинных уровнях освобождения образов от красочной шелухи, оно воспринимает возбуждение из внешнего Мира и передает мышцам, телу. Сколько приняло — столько передало: главная задача восприятия — баланс, то есть равновесие. Своего рода поведенческий гомеостаз, если называть такое равновесие научно. И здесь скрывается ответ на вопрос, что же такое образ по своей сути. Только этот ответ так прост, что его не скажешь словами. Это труднее, чем перевести слово гештальт. Его, скорее, надо не говорить, а показывать. Вот поэтому и не удавалось психологии дать определение образа. Но, тем не менее, понятие его создастся, если вглядитесь в то, как приходит возбуждение из внешнего мира через восприятие и как оно передается, лишь слегка изменившись, по нервным путям, а потом вспыхивает в мышцах. Но вспыхивает лишь затем, чтобы уступить место или, точнее, влиться уже в совсем другие образы. Какие? Например, в Образ мира. А это значит, что и весь этот такой красочный образ, в котором мы узнаем окружающий мир, совсем не передает его действительной и яростной красоты. Ведь если вдуматься в то, что мы делаем каждый миг, то вся наша жизнь превращается в постоянное перерабатывание и использование энергий, складывающихся в стихии, как возбуждения — малые образы, — в большие образы, Образы миров! Включая Мечты и Картины мира наук. Равновесие, как и возбуждение, звучит очень просто, а в жизни мы знаем, что ответное поведение может быть очень сложным и разнообразным. Как кажется, просто возбуждение не может обеспечить такого разнообразия. Но это фокус все той же привычки видеть, а точнее, не видеть что-то очень важное. Поведение только вызывается и прекращается возбуждением и равновесием. Разнообразие же его определяется образами. Образы, правда, теперь уже не восприятия, а поведения или, точнее, действия, — об-резают, о-пределяют действия. То есть создают их рисунок, в котором предел есть воплощенное равновесие, а возбуждение — движущая сила. Возбуждение преобразуется в нашей плате из поведенческого в биоэлектрическое. В этом значении оно, как я думаю, приближается к тому пониманию, что используют нейрофизиологи. Но это означает, что и снаружи нас есть лишь нечто, похожее на биоэлектричество, по крайней мере, настолько ему единородное, что сознание может его преобразовывать в то, что обеспечивает жизнедеятельность тела. Кстати, я ошибся, когда хвалил язык чилийских нейробио-логов. Он ничуть не лучше, чем у русских нейропсихологов. А чтобы не быть голословным, вот вам последнее определение восприятия. Восприятие — есть вид познания, но "любое познание есть не что иное, как создание сенсорно-эффекторных корреляций в области структурного сопряжения нервной системы" (Там же, с. 147). Подводя итоги своему маленькому исследованию образа, я хочу сказать, что дальше его можно продолжить только в прикладной работе, позволяющей проверить выдвинутые предположения и гипотезу о материальности сознания как среды, творящей образы. Только это даст возможность по-настоящему понять, что же такое образ. Что же касается наблюдения, то и о нем, в сущности, можно рассуждать дальше, только поняв, как может сосредоточиваться сознание, управляя потоком восприятия как потоком возбуждений. Глава 8. Продолжая о восприятии Тот образ восприятия, что я создал, является не только чрезвычайно обобщенным, но и не содержит в себе ничего нового, ничего такого, что не было бы известно нейрофизиологам уже сотню лет назад. По сути, он сводится вот к такой схеме нашего общения с миром. При таком видении работы восприятия, нервная среда должна быть подобием той физической среды, на восприятие которой настроен соответствующий рецептор, то есть орган восприятия. Ну а мозг, соответственно, должен в каком-то смысле соответствовать самому миру, который он отражает через две передающие среды. Конечно, это не прямое, а опосредованное соответствие, причем, опосредованное на 2-х уровнях. При восприятии идет перекодировка "внешних сигналов", в механическое или химическое движение рецептора. Рецептор при этом оказывается, условно говоря, творением внешней среды, которую отражает. Конечно, на самом деле он есть итог приспособления тела именно к такой среде, но воспринимать он может лишь в том случае, если однороден с передающей средой. При этом средой для слуха оказывается вроде как бы воздух, из которого барабанная перепонка вылавливает колебания, волны. Воздух как среда должен лишь обеспечивать достаточный уровень давления на перепонку. Для обоняния средой вроде как бы снова оказывается воздух, но передающий химические соединения запахов. Следовательно, у этой среды должны быть какие-то другие показатели, в отличие от воздуха слуха. Что является средой зрения? Опять воздух, передающий свет? Или пространство? Или же сам свет заполняющий пространство? Можно ли считать свет средой? Вообще-то, нейропсихологи и физиологи не слишком любят этот вопрос и обсуждают его в редких книгах. Чаще они относятся к свету как к некой данности, проходящей по ведомству физики, которая от них не зависит, но с очевидностью существует и обеспечивает зрительное восприятие. В тех же редких книгах нейропсихологов, которые берутся рассуждать о природе света, психологическое исследование света как среды восприятия подменяется кусочком эрудиции. Проще говоря, в таких книгах нам подсовывается соответствующий кусочек из физики. Так, к примеру, поступает американский исследователь Р. Грегори, чья книга "Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия", была одобрена Лурией и Зинченко. Он посвящает свету целую главу, где рассказывает об истории понимания света физиками, начиная с Ньютона. Рассказ этот доведен до начала двадцатого века:
Следовательно, свет вполне можно считать средой. А вот что считать средой для осязания? Нашу кожу? Но тогда средой слуха окажется сама барабанная перепонка. Или же не окажется, потому что слух улавливает то, что происходит в отдалении, а кожа и сразу предназначена для восприятия лишь того, с чем соприкасается. Как бы там ни было сложно дать понятие той среды, из которой органами восприятия получаются "внешние сигналы", они все имеют очень разную природу, но потом перекодируются в чрезвычайно однородные сигналы нервной системы. Перекодировка эта, кстати, тоже дело не простое. Другой одобренный в России американский нейрофизиолог Д. Хьюбел дает такое перечисление уровней перекодировки зрительного сигнала:
В любом случае при разговоре о первом или внешнем уровне восприятия будет не лишним отменить понятие "внешний сигнал", потому что ясно, что снаружи нам никто не сигналит. Вместо него нам придется видеть внутренний отклик, выражающийся в движениях воспринимающей поверхности в ответ на движения, происходящие в соприкасающейся с нею среде. Затем, как вы уже видели, физическое или химическое движение воспринимающей поверхности перекодируется в электрический сигнал, который и передается нервной системой в мозг. У меня есть соблазн предположить, что это электричество, которое используется нервами, отличается от используемого в электрических приборах не только количественно. Но я пока даже не представляю себе, как сделать подобное предположение. Да оно и не важно. Важно то, что при подобном представлении восприятия мы имеем множественные перекодировки, что на русском языке означает перетолковывание происходящего снаружи. В силу этого мы очень похожи на людей, сидящих в пещере, описанной Платоном, и судящих о настоящем мире лишь по теням. Вот только настоящим оказывается даже не мир Богов, а обычный мир, в котором мы живем, и на который пытаемся глядеть то ли из глубины своего мозга, то ли из глубины телесности. Это первый уровень восприятия. Но на этом перетолковывания не завершаются. На втором уровне опосредованного восприятия должна произойти проверка его верности. И проверяется оно телесным ответом. Представьте себе, что внутри той схемы, что я нарисовал, назову ее схемой равновесия или спокойного восприятия, появляется возбуждение. На самом деле возбуждения могут быть разных видов, например, отталкивающие и «сосущие», требующие. 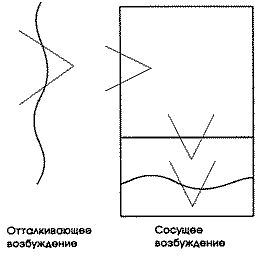 Отталкивающее возбуждение — это опасность, а сосущее — голод. Опасность — снаружи тела, а голод внутри. Что надо сделать, чтобы устранить опасность? От нее надо оттолкнуться: 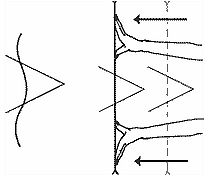 Если, к примеру, вас придавили боком к острому углу, то надо выставить вперед руки и отодвинуться от угла ровно настолько, чтобы он больше не чувствовался. И тогда снова наступает равновесие и покой. Если же мы чувствуем голод, то ощущаем как бы сосущую пустоту, которая образовалась в нашем теле. Ее надо заполнить, и покой возвращается. То же самое с жаждой, дыханием, одеждой, вещами, общением, зрелищами… Я хочу сказать, что хоть приведенными примерами возбуждений все их виды не исчерпываются, тем не менее, они дают представление о том, как работает "рефлекторная дуга", пока на нее глядишь из научной Картины мира, построеной на Ньютоновской механике. А это именно так, как глядели физиологи во времена головокружений от успехов. В чем выражалось это головокружение? Для нас с вами — в прекрасном в своей простоте представлении о том, что есть образ. Объясню. Со времени френологии Галля, то есть с самого начала XIX века, физиологи были уверены, что мозг разбит на определенные «центры». Вернее было бы сказать, что разные участки мозга отвечают за определенный вид деятельности или, как назвал Галль, психические способности. С такой привязкой начинали спорить еще в XIX веке, но, тем не менее, она дожила как общее представление чуть ли не до нашего времени. И даже работы А. Лурии, жизнь положившего на борьбу с «локализационизмом», не до конца вытравили такое понимание из голов физиологов и психологов. Почему? Потому что видеть жесткую связь между миром и его отражением в мозге человека было очень и очень удобно. Судите сами: во-первых, это полностью соответствует механической физике, а значит, ничего не надо менять в мировоззрении. Мы правильно себе представляем как устроен мир. Не надо думать, не надо ничего выдумывать, просто множь количество научных исследований, и однажды оно перерастет в качество и само объяснит то, что пока еще непонятно. Во-вторых, такая жесткая связь: внешний раздражитель — рефлекторная дуга — мозговой центр — тело, — позволяла напрочь исключить из рассмотрения все лишние сложности, которые привносила с собой психология в строгие построения физиологов. Приглядитесь, где в этой схеме есть потребность в психологии? Бритва Оккама, принцип достаточности рассуждения, требует выкинуть все, без чего можно обойтись. И единственное, чего физиологи не сказали, а может, и сказали, только я пропустил, — это то, что образом при таком подходе являются сочетания клеток головного мозга в определенной связи. Вот это и было материалистической основой всей нейрофизиологии! Если образ воплощен прямо в клеточную ткань — психологию должен делать физиолог. И это бесспорно. Это было такое простое и красивое в своей технологичности решение того, что есть человеческая душа, а ведь именно она считалась носительницей образов, что физиология потратила не меньше столетия на перепроверку отрицательного результата. Не менее сотни лет целая наука и много тысяч, пожалуй, сотни тысяч ученых топтались по всему миру на месте, не желая расставаться с мечтой и двигаться дальше… Задача восприятия — это обеспечение мозгу возможности ответить на изменения, происходящие во внешнем мире. Чтобы он мог ответить, ему нужно получить сигнал — опознать или узнать его. Узнать, значит, и знать, как отвечать. И если восприятие тоже "локализируется в определенном центре мозга", то есть его нейронах, значит, за узнавание отвечают нейроны. Они становятся субстратом, как говорили, то есть носителем памяти, а точнее, воспоминанием, или узнаванием — энграммой. И даже если эти нейроны обучаются помнить, перестраивая себя или свои связи, все равно именно они-то и становятся тем самым образом. Это точка зрения физиологии. Вот этого никак не могли вынести психологи, потому что отчетливо ощущали, что образы — это что-то иное. Это что-то такое, что и не снилось вашим мудрецам. Тогда родился наш ответ Чемберлену и Сеченову в виде новой науки — нейропсихологии, созданной Лурией. Александр Романович Лурия (1902–1977) был очень уважаемой, почти культовой фигурой в Психологическом сообществе. Да он и до сих пор вне критики, как говорится. Лурия, в отличие от Леонтьева, нашел "честный путь" в Науке, и не пошел на сотрудничество с властями. Так считается. А про его нейропсихологию многие думают, что она была создана, чтобы уйти от политических и общественных вопросов в чистую науку, где к ученому просто не за что придраться. Думаю, уход в нейропсихологию был больше вызван потребностью двигаться дальше в своих исследованиях. И это было непростое решение. Во всех своих работах Лурия зачем-то клялся заветам Ильича. То тут, то там заявлял: "В течение долгого времени решение вопроса о локализации функций в коре головного мозга оставалось в кругу мучительных попыток "систему беспространственных понятий современной психологии наложить на материальную конструкцию мозга". Только в последнее время в связи с успехами современной (особенно русской и советской) физиологии и материалистической психологии стал обозначаться перелом в подходе к этому вопросу…" (Лурия, Высшие корковые, с. 7). Говоря о материализме, ссылаясь на Павлова и Сеченова, Лурия, тем не менее, воевал с Физиологией. С Физиологией не как наукой, а как сообществом. Если гора физиологического сообщества не хотела идти навстречу Психологии, Психология вынуждена была создавать науку, которая владела бы всем инструментарием физиологии, но при этом исходила из потребностей психологического исследования. Лурия совершил великий переворот — он позволил Психологу больше не зависеть от Физиолога. И это был удар, потому что физиология мгновенно потеряла свою значимость. Теперь все хотят быть психологами, а о физиологах как-то и не слыхать. Физиология заняла полагающееся ей место — где-то среди медицинских наук, изучающих тело человека. А все, что нужно для дальнейшего поиска психологу, он теперь может добыть сам, освоив нейропсихологию. И как сообщают научные отчеты, добывает и добывает. К сожалению, ни о каком продвижении далее того, что сделал сам Лурия, я не знаю. Возможно, это секретные разработки. Нет, это не значит, что я не читал современных нейропсихо-логических исследований. Я не говорю, что нейропсихология не действует и не создает товар на гора, я говорю о том, что я не знаю, является ли это действительным движением дальше. Возможно, является. Но это стало так сложно, что почти ничего нельзя понять. Даже когда, к примеру, пишут о таких интереснейших вещах, как Биологическая обратная связь (БОС). А что такое эта БОС? Да та же самая теория восприятия, только на совсем других уровнях образности и, как кажется, без теории восприятия. Я оставлю эту тему, потому что она требует особого разговора и много слез. А мне пока есть чем заняться. А чем? Да тем самым вопросом, который заставил начать разговор о восприятии: почему психология не разработала тему наблюдение? Нужны ли какие-нибудь ответы? Просто вглядитесь в то, как исходно нейрофизиология видела восприятие, и вам станет ясно, что в этой схеме нет нужды в Психологии и нет возможности для разговора о наблюдении. Где может возникнуть наблюдение, когда есть: раздражитель — нервный сигнал — мозговой центр — нервный сигнал — мышечная реакция? Какое наблюдение? Мне это напоминает школьный анекдот. Сын прибегает после занятий домой возбужденный: — Папа, папа, мы сегодня на химии изучали пиротехнические вещества! — Ладно, ладно, а что у тебя в школе-то? — В какой школе, папа?! Какое наблюдение, если Психология не нужна. Как вообще выживала наука, которая постоянно кричала и до сих пор еще кричит, что у нее было великое прошлое, нарисованное Сеченовым, когда физиология вообще лишь недоуменно пожимала плечами по поводу этой кучи невнятного хлама… Отсутствие понимания многих психологических явлений, путаница, невнятность — все это наследие прошлой политизированной парадигмы, как это теперь принято говорить. Причем, парадигмы, которую сейчас психологи тайком пытаются пересмотреть, замалчивая и наличие последствий и сами эти попытки. В общем, пора бы открыто заняться перетряхиванием всего чулана. И это я говорю не как теоретик науки, а как прикладник, который крайне нуждается в рабочей теории. Вот хотя бы в теории наблюдения. Так что мне делать с наблюдением? И что вам с ним делать? Сами видите, чтобы ответить на этот вопрос научно, нужно писать еще одну большую книгу, а то и не одну. Так что наблюдайте, как знаете, как можете. Наблюдение — это внимательное слежение за тем, что избрали, и никакого восприятия! Заключение. Мечта, вера и научный метод Ну, вот, наконец появилась хоть какая-то возможность завершить попытку исследовать Мечту. Попытку далеко не полную, да и не совершенную, но, я надеюсь, дающую возможность для движения дальше — в самопознание. В самом начале книги я поставил вопрос, точнее три вопроса: что такое мечта, как она овладевает мною и как заставляет действовать? Описывая это явление, я осознанно ограничил себя только теми видами мечты, которые можно было показать на примере людей науки. И что же оказалось? Во-первых, Мечта — это образ. Поскольку я осознанно брал лишь те мечты, что было проще заметить, то есть мечты больших ученых, то получилось, что я описал мечты о Науке. И они на поверку оказались Образами мира — всегда желательного, то есть того, который ученый хотел бы воплотить или построить на Земле. Ну и в котором хотел бы жить, занимая достойное или хотя бы теплое место. Тут выявилась одна хитрость — Миры создают Боги. По крайней мере, так считается, что творение Миров — дело божественное. Соответственно, Мечты о творении Мира, то есть о воплощении Образа мира, оказались то ли Мечтами о достижении собственной божественности, то ли Мечтой о служении какому-то Богу, воплощающемуся на Земле. Это и есть ответ на второй вопрос: как мечта овладевает мною? Утраченная божественность проявляется в нас в виде потребности в возвращении то ли этой самой божественности, то ли Рая или Небес. И неважно, признает ли современная академическая Психология наличие такой потребности. В любом случае она еще ждет своего исследователя, а пока правит миром через Мечты. А это означает, что научная, на первый взгляд, деятельность, если она не осознается как поиск истины и только как поиск истины, оказывается жреческим служением. А сама Наука — полнейшим подобием Религии, только с противоположным знаком. А Религии, как мы знаем, поиском истины не заняты, они возникают после того, как она найдена, открыта или провозглашена. Соответственно, появляется возможность предположить, что и Науки, несмотря на все заверения, заняты отнюдь не поиском истины. Естественно, такое видение Науки ставит вопросы о том, а что же она делает и зачем нужна подобная деятельность людям? А ведь она определенно очень и очень нужна, как показывает жизнь. Значит, людям нужна и та деятельность Науки, которую я бы назвал храмовой составляющей. Но поскольку это постоянно скрывалось, то ответ негде получить готовым и можно только найти. И тут, если отбросить все рассуждения о пользе научных исследований, в которых сами ученые сомневаются, предпочитая говорить о наслаждении, то психологически достаточным будет, пожалуй, разве что предположение, что задачей Науки в обществе является обеспечение покоя, в котором должны пребывать люди, чтобы не разрушить тот Мир, который устроился. Это парадоксально: утверждая Образ нового мира на Земле, то есть творя Революции и перевороты, Наука тем самым успокаивает человечество. Вероятно, отвлекая людей кровью и зрелищами от более разрушительных вопросов. А может, даже удерживая их взор направленным и привязанным к чему угодно, лишь бы они не озирались и не смотрели себе за спину, то есть сквозь себя в ту бездну, которая разверзается тьмой и бесконечностью прямо за тонкими пленочками век, стоит только закрыть глаза. Разверзлась бездна, звезд полна, звездам числам нет, бездне дна… Такое понимание сверхнаучных задач Науки позволяет ответить на третий вопрос: как Мечта заставляет меня действовать? Покой этот оказывается все тем же равновесием, которое поддерживается в человеческом сознании между восприятием и деятельностью, только в масштабе не человеческих, а божественных тел, который сейчас принято называть планетарным. И поддерживается это равновесие с помощью все тех же образов, которые в самом простейшем виде являются всего лишь квантами или вспышками возбуждения, а доведенные до предела сложности превращаются в великие Мечты, перекраивающие планету и заливающие ее морями крови и счастья. Тут уместно снова вернуться к вопросу о действенности образа как такового. Показав, что в основе того, что мы зовем образами, лежит возбуждение, я пытался сказать, что образы, понятые так, не могут не быть очень действенными. Они подобны парусам, которыми звездная птица по имени человек улавливает космический ветер, путешествуя по Мирам и Вселенным. Посмотрите сами, если именно через образ возбуждение, возникшее во внешнем мире в виде разнообразнейших возмущений, улавливается мозгом как электрический сигнал, а потом, пройдя через ряд преобразователей, обретает новый образ, который воплощает эту энергию в телесные движения, значит, мы столкнулись с явлением, которое способно превращать физическое в духовное и наоборот. Причем с силой, которой впору удивляться. Образ, понятый так, не может не быть действенным, как и не может быть чисто «идеальным» явлением. Либо он обладает некой материальностью, либо же мы неверно понимаем и идеальное, и материальное. Если быть последовательным материалистом, то давно бы уже пора признать, что идеального нет вообще. Есть воображаемое, то есть сотворенное в образах. Но идеальны ли сами образы? Или же они есть некие тонкоматериальные оболочки для того, что мы творим своим воображением из энергии возбуждений? Думаю, что материалистическая мысль не шла в этом направлении потому, что не хотела. А не хотела исключительно из политических соображений: признать материальность образов — признать материальность той среды, которая их в себе содержит. Тут один шаг до признания души, которую психологи поклялись не допустить в психологию. Пусть души не совсем в религиозном значении, но все равно неприятно. Так обгадиться! Недолго и в служанках у Церкви оказаться. Да может, и нет ее, души-то этой, чего заранее глаза закрывать?! Давайте, просто исследуем это предположение, как полагается ученым или искателям истины. Ведь не объясняются же теорией высшей нервной деятельности (ВНД) ни восприятие, ни память, ни вообще поведение человека. Казалось бы, такое очевидное предложение: если ты ученый и избрал исследовать действительность, чтобы познать истину, давай начнем с главных вопросов, которыми человечество болеет уже тысячелетия. Но я точно знаю, что в ответ на эти мои слова получу недоуменное пожимание плеч и кривые улыбки. Кто-то из психологов не поймет, о чем я говорю и из-за чего кричу, потому что психология именно этим и занимается. Кто-то высокомерно объяснит, что Наука уже давно высказала мнение по этим вопросам. Кто-то просто сделает вид, что ничего, кроме программы, не читает… И помашут перед моим носом мощным и толстым бананом, который прижился в их органе восприятия… И я точно знаю, что к их душам не прорваться, потому что она прикрывается толстенной броней Мечты. Какой? В "Записках психолога" Артура Петровского я нашел потрясающий образ Мечты, какой она жила в душах советских психологов и была унаследована новорусской психологией. Академик Петровский, который в жизни весьма преуспел, в этой книге очень часто выступает этаким наивным простецом. Это древний литературный прием с очень сильным воздействием. В рассказе о советско-психологической Мечте потрясает и сама Мечта, и действительность нашей психологии, то, чем она живет на самом деле в глубине своих нор и кабинетов. "Задолго до принятия решения посвятить себя не очень перспективной в те годы науке — какой была тогда психология — я после лекции спросил у Григория Алексеевича Фортунатова: "Бесспорно, очень интересно узнать о закономерностях памяти и мышления, особенностях темперамента и предпосылок развития способности детей, но так ли много мы узнаем о психологии людей, тех самых, с которыми мы каждый день встречаемся не только здесь, в институте, но и на улице, в метро, магазинах? Есть ли отрасль научной психологии, которая, по возможности, могла бы нам рассказать о них?" Мой учитель, помолчав некоторое время, сказал: "Если у нас ее нет, то она должна быть!" Я обратил внимание на то, что слова "у нас" он произнес явно их выделяя. Это было логическим ударением. Затем Фортунатов продолжил: "Вы видели у нас на кафедре приборы для психологических исследований?" Я, конечно, их видел — эти медные цилиндры, циферблаты и другое оборудование, которое применялось в часы практических занятий по темам «ощущение», «восприятие», «внимание», «память» и так далее. Не вспоминая более об этом реквизите, Григорий Алексеевич пояснил свою мысль: "Знаете, где я нахожу наилучшую лабораторию для психологического изучения? На рынке! Именно там обнажается психология человека частенько во всей ее неприглядности. Вам известно, как играет «джаз» на базаре?" Я растерялся. Трофейный аккордеон на базаре можно было услышать, а то и купить. Ну, а джаз? Это что-то другое… Последовали разъяснения: "Джаз" — это группа мошенников, действующая по отработанному сценарию. Участники «джаза» — опытные физиономисты, фактически психологи — высматривают в толпе подходящую особу. Один из них предлагает купить у него часики: мол да, виноват, женины это часы, но душа горит — продам дешево. «Особа» колеблется — не за тем пришла на рынок, но и соблазн велик — за такие гроши и такие часы! В это время к нему бросается другой "джазист": "Ты что делаешь? — кричит он на продавца. — Да я тебе за эти часы в два раза больше дам! Гони ее прочь! Пользуется тем, что тебя приперло". Однако продавец демонстрирует честность и принципиальность: "Ей первой обещал — ей и продам! Чего ты своими деньгами размахиваешь?" "Особа" уходит с рынка со своим «выгодным» приобретением. Впрочем, в дальнейшем нередко оказывается, что часы без механизма… — Ну какое это имеет отношение к научной психологии? — Пока у нас, — опять это странное логическое ударение, — никакого. Однако когда-нибудь вы, быть может, будете участвовать в разработке того, что я назвал бы конкретной исторической психологией человека. — Конкретная историческая психология? Как это понимать? Психология повседневной жизни людей? — Да, скажем так: психология жизни, а не рассказ об отдельных психологических функциях. Уверен, вам это будет более интересно, чем то, что я читаю по утвержденной программе" (Петровский. Записки психолога, с. 131–132). Жаль, что в ту пору прекрасную жить не придется ни мне, ни тебе… Так что же такое и чем в действительности занимается Наука психология, если внутри нее психологи мечтают о психологии?! Что еще стоит сказать о понятии «Мечты», так это то, что ученые имеют настолько разные Образы миров, которые бы хотели воплотить на земле, что эти Образы приходят в противоборство, заставляя людей сражаться и класть жизни. При этом происходит то самое парадоксальное ослепление, когда великолепный ученый, про которого говорят как про величайшего психолога, оказывается не в состоянии принять, что жизнь опровергает его психологические построения. Почему он не принимает действительность и "не сдается"? Да потому, что он каким-то хитрым психологическим образом обязан быть ей — Мечте этой — верным. Как Мечта заставляет нас хранить верность себе? Является ли это следствием нашей привычки хранить договора? Или же за этим скрывается сила? Сила желания? И тот, и другой вариант возможны. Привычка хранить договора подкрепляется понятием о чести. Не в этическом, а в психологическом смысле этого понятия. Честь — это сила, которой общество принуждает нас быть людьми, а не космическими странниками. Этимологически «честь» может быть приравнена к понятию «часть». Часть добычи, а потом часть общественного богатства, и вообще — часть мира, удел, — счастье, которым наделяет тебя общество. Принуждение честью — это угроза позора, не потеря достоинства, а принуждение угрозой быть изгнанным тем обществом, которому ты пообещал нечто, с которым, стало быть, ты договорился, что сделаешь что-то, за что тебе будут благодарны или восхищены. И выделят долю, например, место за пиршественным столом или возле кормушки. Это очень действенно. Про то же, как может понуждать страстное желание, и говорить нечего. В любом случае, эти психологические механизмы работают. Но сквозь них постоянно проступает что-то еще, что-то будто из другого, горнего мира, то ли свет, то ли воспоминания. И ты рвешься туда, с одной стороны подгоняемый понятными психологическими движителями, но с другой тебя манит и влечет нечто, что только и можно назвать словом Мечта, в истинном его значении. И вот вывод: чтобы понять, что такое действительная Мечта, нужно освободиться от всего, что ты понимаешь под мечтой по привычке. Все эти «мечты» — лишь помехи твоему видению или созерцанию. Но этого не сделать без умения очищаться и созерцать. Да, кстати, и наблюдать. Хочу я того или не хочу, но эти условия — очищение и обучение себя приемам исследования самого себя — необходимые условия движения дальше. Без них никакая смена мировоззрения, установок, парадигм не позволит приблизиться к истине. Всего лишь сменится Мечта, иными словами, рабство останется, хотя и станет другим. Я приведу пример. На рубеже XXI века Субъективная психология так далеко отошла в прошлое, что уже не вспоминалась. Но за ней была некая потребность, свойственная человеческой природе — потребность заглянуть в себя и смотреть на мир сквозь себя. Тот самый субъективизм, который был одновременно лучшей и худшей частью прежней науки. Этим она выигрышно отличалась от академической Психологии, которая была столь механистична, что человек с его вечными вопросами мешал ей делать науку. Вполне естественно, что ищущая мысль, отрицая академическую Мечту, то есть академическое мировоззрение с его Образом мира, устремлялась к некой его противоположности и оказывалась, по сути, почти возрождением Субъективной психологии. Возрождением, конечно, весьма условным, так сказать, на новом витке научных знаний об устройстве мира. Тем не менее, это новое психологическое мировоззрение вполне можно считать Современной субъективной психологией. И его очень важно понять и рассмотреть, потому что оно теперь начинает править умами и, возможно, скоро будет вершить судьбы планеты, как недавно вершило мировоззрение объективно научное. Я уже приводил размышления американского психолога Уил-сона. Он определенно субъективный психолог в современном смысле. Я приведу теперь мысли русского мыслителя — Василия Васильевича Налимова. Он не психолог — доктор технических наук, но жизнь и научные интересы заставили заняться психологией. Налимов прекрасный мыслитель, и я хочу посвятить отдельное исследование его пониманию сознания. Но пока я ограничусь лишь примером того, как Мечта мешает ясности мысли. Я воспользуюсь лишь небольшим рассуждением В. Налимова, составляющим основу Введения в одну из самых ранних его книг "Реальность нереального". Сам автор писал, что "все последующие разработки философского характера базируются на материалах этой книги" (Налимов, с. 4). Иными словами, эта книга является философским фундаментом, определяющим качество всех последующих философских построений Налимова. Читая слова Введения, вы, я думаю, легко увидите, во-первых, сходство Налимовского понятия «бессознательного» с "глубокой реальностью" Уилсона. А его критику ограниченного научного подхода соотнесете, соответственно, с той, что я позволил себе после разговора об Уилсоне. Во-вторых, столь же отчетливо, мне кажется, будет замечено и то, что Налимов горит идеей «Бессознательного». Но идея эта — есть Образ, который выражает какую-то его горячую Мечту. Почитайте: "Наука прошлого была прежде всего проникнута глубокой верой в рационализм. Безусловно логичной считалась научная мысль, и несомненно логическим представлялось само мироустройство. Рационализм был доминантой научной парадигмы. Конечно, подспудно в европейской мысли всегда в той или иной степени сохранялся критицизм по отношению к всеобъемлющему рационализму. Но в последние десятилетия этот критицизм стал приобретать неотвратимо грозное звучание. Мы со всей отчетливостью увидели, что за нашим сознанием стоит бездонность бессознательного, понимаемого теперь значительно более широко, чем подсознательное Фрейда. В бессознательном готовы теперь искать истоки как научной мысли, так и общественной жизни со всем многообразием ее конфликтов и со всей сложностью ее идеологического обрамления" (Налимов, с. 5–6). Возникает вопрос: что же такое это широко понимаемое бессознательное? "Бессознательным можно называть все то многообразие проявлений нашего сознания, которое находится вне его логической структурированности, или, иными словами, это то, что сохранится у нас после того, как мы мысленно отбросим из сознания все, что может быть передано ЭВМ. Изучение глубин нашего сознания заставляет нас обратить свой взор на то, что Тиллих назвал предельной реальностью Мира. Человек не может быть понят вне его сопричастности Целостности мира" (Там же, с. 6). Яркое, но не очень внятное утверждение о передаче чего-то ЭВМ я опущу. Из остального же можно сделать вывод, что Я делюсь на Сознательное и Бессознательное. И Сознательное — это то, что логически структурировано, наверное, в моем сознании. Обращение в себя, по сути, оказывается взглядом сквозь себя в Предельную реальность или глубины истинного Мира. И человек через свое бессознательное сопричастен каким-то образом этому Цельному миру. Как видите, эта мысль стала общей мыслью новых субъективных психологов конца двадцатого века. Кстати, и последующая тоже: "Возникает и совсем дерзкая мысль: почему мы должны видеть Мир, воспринимая его только через физические приборы, созданные человеческими руками? Не являются ли глубины нашего бессознательного тем особого рода приемником, который открывает возможность непосредственного взаимодействия с иной реальностью?" (Там же, с. 6). Этот вопрос стоит запомнить. Он ощущается как исходный вопрос всего исследования, да, кстати, и той Мечты, что движет Налимовым. Вопрос этот явно психологический, и он перевернул всю жизнь доктора технических наук, заставив сказать: "Казалось, такая книга могла бы, скорее всего, быть написана профессионалами-психологами. Но так не получилось. Наша позиция оказалась слишком далеко отстоящей как от официальной психологии, так и от философии" (там же, с. 4). Как вы понимаете, доктор технических наук не оставляет своего дела и не бросается в новое и неизведанное очертя голову, если его что-то действительно не захватит. Нет, автор явно одержим своим предположением и надеется в ходе исследований вскрыть у себя или других людей способность быть приемниками для взаимодействия с иной реальностью. По крайней мере, так понимаются мной все его горячие высказывания. За "дерзкой мыслью" о возможности видеть мир не через приборы, а с помощью бессознательного приемника, следует еще один ярчайший образ: "Наука признавала право на познание природы с помощью физических приборов — за ними стояла породившая их логическая мысль- но не давала права человеку выступать в качестве прибора. Человек создается генитально — за этим стоит природа, а не логическая мысль" (Там же, с. 6). Я бы для себя не видел иной возможности понять это заявление, как сомнение в построенном на логике научном способе рассуждать. Если это так, то теперь последовательная мысль должна усомниться в логике, как в своего рода приборе для рассуждений, уже встроенном в сознание ученого. Но мысль Налимова движется иначе. Сначала он задается вопросом: "Что знает современная наука о бессознательном?" (Там же, с. 16). И отвечает: "…можно утверждать, что науки о бессознательном нет, она не могла возникнуть хотя бы уже потому, что этому препятствовала парадигма (будем ее здесь понимать как научное мировоззрение — А.Ш.), которая, с одной стороны, позволяла считать реальностью только то, что может быть редуцированно к физическим или химическим явлениям, а с другой- требовала концептуального упорядочивания всего наблюдаемого в системе жестких логических построений" (Там же, с. 6–7). Что я извлекаю из этого рассуждения? То, что наука о бессознательном нужна и желательна. И для меня это является естественным продолжением предыдущей мысли о том, что, если научиться видеть мир иначе, чем видят физические приборы, если научиться видеть через приемник бессознательного, то так можно стать сопричастным Целостному Миру. А для того, чтобы этому научиться, бессознательное нужно постичь и понять. Ну и не менее естественным кажется, что постижение это должно идти каким-то другим способом — не логикой. Однако, читайте: "Здесь во всей своей остроте встает вопрос: как нечто, действующее вне логики, могло быть описано так, чтобы описание приобрело концептуальное звучание? Пытаясь ответить на этот вопрос, прежде всего заметим: ниоткуда не следует, что критицизм, направленный против всеохватывающего рационализма, должен обернуться иконоборчеством. Речь может идти отнюдь не об отказе от логики — вряд ли, игнорируя ее, можно высказать что-либо серьезное, — а о том расширительном ее употреблении, которое позволило бы обсуждать внелогическое в форме понятной для нас, людей, воспитанных в культуре логики" (Там же, с. 7). Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Как говорится, за что боролись. Кстати, а за что боролись? Точнее, за что боролся этот борец с Наукой? Помните, он все время упоминает парадигмы и какое-то концептуальное оформление? Что это такое? Оформление — это форма, то есть образ, который чему-то надо придать. Иными словами, речь снова идет об образе, который предлагается воплотить взамен Научной картины мира. Это и есть Мечта, воплощающаяся сквозь Налимова. Если мое исследование верно, большая Мечта всегда настолько велика для человека, что он вынужден собирать все свои силы и все свое видение в узкий пучок, тем самым упуская то, что не оказалось в фокусе. "Логическое противоречие", когда логика объявляется причиной всех бед, но тут же признается тем инструментом, который будет использовать сам автор, — на самом деле не признак его слабости. Это случайная оговорка, при желании Налимов легко выявил бы и показал слабости логики. Но он не может себе этого позволить по вполне определенной причине. Логика — это основа науки, потому что на ней строится научное рассуждение. Следовательно, Наука — это то, что строится на логике. Убрать логику — уничтожить Науку. Налимов утверждает логику, ругая Науку. Значит, он строит другую Науку, и там ему без логики не высказать ничего серьезного. Кстати, как вы воспринимаете последнее выражение? Что такое серьезность? Слово это не русское, привившееся у нас заимствование из английского. Никогда не пробовали понять, что оно значит? Я пробовал. И признаюсь, не смог найти ничего, кроме: без шуток, без смеха! Попробуйте, поищите. А что получится, если мы переведем все выражение Налимова на русский? А получится следующее: создавая науку, нельзя отказываться от логики, чтобы не говорить вещей, за которые осмеют. Как дурака, добавляю я. Почему как дурака? Да потому, что именно так решалась проблема открытия бессознательного и иных миров в народной культуре. И так же решается задача логики. Налимову почему-то кажется, что он воспитан в логической культуре. Если вспомните начало его рассуждений, он там много использует слова «логично», «логический». Но как раз эти выражения и показывают, что человек говорит в народной культуре, а не в культуре логики. Да, в нашей народной культуре принято использовать красивые, звучные слова, вовсе не вкладывая в них тот смысл, что вкладывали Аристотель, Фома Аквинский или "Логика Пор-Ро-яля". Эти слова заменили какие-то родные нам слова только потому, что были модными и позволяли побеждать в споре, опираясь на авторитет самой Логики! Это даже не слова, а словечки. А означают они, например, — последовательно или не последовательно, противоречиво или не противоречиво. Налимов пишет далее: "Язык, основанный на логике, заставил признать бытие логики в самом Мире. Принцип логической непротиворечивости приобрел онтологический статус (то есть вошел в наш быт — А.Ш.). Неизбежная необходимость такого постулата была ясна уже Фоме Ак-винскому" (Там же, с. 14). Вот завернул. А без Фомы Аквинского мы, конечно, были дикими, ходили в шкурах, жен себе умыкали и противоречий в сказанном не видели. Может быть, "логическая непротиворечивость" и стала известна кому-то из простых людей из книжек, но давайте ее отграничим от простой или разумной непротиворечивости высказываний. Они могут быть очень похожи. Они могут быть вообще одним и тем же. Но в таком случае выражение "логическая непротиворечивость" есть всего лишь название для одного из приемов или способов работы разума. И привилось это выражение только потому, что его узнали в том, что уже использовали и применяли в быту. Так сказать, не будь науки логики, мы бы никогда не узнали, что говорим прозой. А не узнай мы это, так и говорили бы, противореча себе на каждом шагу. Без логической-то культуры тяжело и вообще не жизнь простому интеллигентному крестьянину! Почему простому крестьянину? Да потому что именно в крестьянской, или шире — народной культуре, тысячелетиями существовал способ выйти в бессознательное, даже отказавшись от законов разума. Назывался этот способ — дурак. В научном звучании — трикстер. Трикстер — он же шут — дурак русских сказок — это существо, выходящее за рамки и логики и даже человеческого разума настолько, что часто оказывается животным — лисом, вороном, койотом. Но сквозь все эти формы или образы просматривается божественность, которую народ и пытался познать своим приемником бессознательного. Вот почему мне бросилось в глаза заявление Налимова о том, что он боится быть осмеянным. Он, конечно, мог ничего не знать о культуре смеха, о понятии перевернутого мира, скомороше-нья и юродства, — всего не охватишь, — но если бы он искренне хотел решить задачу познания бессознательного и пойти далее, осмеяние его не остановило бы, как не останавливало искателей и мудрецов из народа. А то, что это были искатели и философы, причем, искатели именно приобщения к иной реальности, с очевидностью показывает хотя бы пример во Христе юродивых. Люди уходили в юродство после многолетних философских поисков и попыток приобщения к иному через иночество. И, кстати, не только в Христианстве. Факиры, дервиши, дзенские монахи, йоги — все находятся на этой грани. Налимов делает Науку. Свою. Новую и непохожую ни на кого. И это вполне приемлемо. Это хорошая и большая Мечта. Если ему это удастся, я пойду к нему учиться. Но его Мечта страдает не только противоречивостью, но и "логической противоречивостью". Налимова точно лихорадит по мере того, как одержавший его образ вылезает наружу и постоянно отменяет только что сказанное: "Человек в этом видении Мира (научно-логическом, конечно — А.Ш.) — это лишь блок вещества, переосложнившийся до того, что овладел логикой, заложенной в основе самого бытия. Человек оказался в ранге микрочасов (макрокосм отражается в микрокосме- концепция, идущая еще из Египта, от герметизма). Но микрочасы были испорчены той субъективностью поведения человека, которая не описывается языком логики. Представление о человеке как об испорченном механизме уходит своими корнями в традиции иудаизма. В Ветхом Завете дан Закон, по которому должен был бы жить человек, но реально существующие люди не подчиняются Закону полностью, поскольку на начальном этапе развития человечества произошло грехопадение, нарушившее автоматизм поведения человека. Миф о грехопадении всегда занимал центральное место в иудео-христианском мировоззрении западного мира. На симпозиуме в Тбилиси (Международный симпозиум по бессознательному, 1979 г.) постоянно произносились заклинания, направленные против редукционизма в психологии, но далее говорилось о существовании объективных законов бессознательного. Последнее утверждение на самом деле есть проявление все того же редукционизма, но только теперь уже в скрытой форме. Если объективные законы бессознательного действительно существуют и если рано или поздно мы их познаем или хотя бы приблизимся к их пониманию, то бессознательное утратит свой статус — оно будет описываться формальной логикой и управляться через познанные нами законы так же, как управляются ими устройства, созданные нами в физическом мире. Грехопадение, выраженное в незнании истинного Закона, будет преодолено через новое знание. Человек станет управляемым автоматом" (Там же, с. 14–15). Автомат тут — это не приемник иных реальностей. Тут автомат — это плохо. А все высказывание — призыв: не отдайте бессознательное науке, дайте мне, а то она его изучит! Почему? Да потому, что если мы познаем объективные законы бессознательного или поймем его — наука все себе присвоит, описав формальной логикой. Логика Налимова — это подарок! Если вопрос стоит в том, чтобы стать приемником иных миров, какое мне дело, опишет Наука что-то формально или нет. Главное, что я пойму и познаю, как устроен этот приемник и как мне им стать! Это, конечно, если такова и есть моя цель. Мечты, мечты, где ваша сладость?.. Что вы с нами делаете? А Наука ошибается, и Налимов ошибается, и я ошибаюсь, — не тем языком пишу, не так лечу, и не так свищу… А потом придут другие люди, которым будет дело до чего-то настоящего, выберут из того, что мы все пишем, полезное, отбросят язык и пойдут дальше. Но это если цель — идти. А если цель — Мечта о Науке? Мечта, ты — лучшее, что у меня есть. Как мне уберечься от тебя? |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Вверх |
||||
|
|
||||
