|
||||
|
|
Часть IIIСтановление и динамика российского профессионального светского исламоведения Глава 1Виктор Розен: дерзновенная попытка трансформации массива исламоведческого знания в единую когнитивную целостность Читателю предшествующих томов стало, наверное, ясно, как значительно активизировались в России конца XIX – начала XX вв. процессы, связанные с изучением отечественного и зарубежного ислама1. Актуальность этих проблем – и, соответственно процесс их концептуального осмысления – в свою очередь прямо обусловливались неспособностью царской администрации (и всех вообще разновидностей официальной, официозной – и внеправительственной консервативной2 – идеологий) создать механизмы внутренне согласованного функционирования – или «коллективного движения» – этноконфессиональных компонентов Российской империи. Вплоть до самых последних своих дней царизм противился стремлениям поднять роль «инородческой» (в том числе мусульманской) интеллигенции – даже в органах местного самоуправления3 – и ввести на национальных же окраинах обучение на родных языках. Напротив, либералы активно ратовали за эту меру – не без оснований полагая, что лишь таким путем удастся предотвратить переход нерусских народов в лагерь леворадикальной оппозиции4. Заметный уже в 60-80-е годы конфликт между консервативными и либеральными платформами в так называемом инородческом вопросе5 постоянно расширялся и углублялся. Он все масштабней захватывал и сферу исламоведения, интенсивно ее политизируя и приводя к довольно быстрой замене универсально-интегративных принципов альтернативными парадигмами и прочими атрибутами содержательного и методологического плюрализма, новыми концептуальными детерминантами и дисциплинарными регулятивами, серьезными переменами ее научного и социального статусов. Те исламоведы, которые концентрировались в мире подчеркнуто-либеральной по всем своим параметрам академической науки, пытались отмежеваться и от своих ультраконсервативных коллег и от явно протежирующего многим из них государства, создав целенаправленную, высокоорганизованную и высокопродуктивную форму профессионального объединения – или его сущностного аналога – с таким нормативным этическим кодексом, который бы выполнял эффективную защитную функцию. Функция же эта в принципе соответствовала идеальной модели сциентизма как такового: существование науки ради самой себя; элитарный характер научного труда и разобщенность науки с другими видами человеческой деятельности; невозможность контроля и ограничения научного творчества; наличие у представителей профессиональной группы ученых особых личных моральных и профессиональных качеств6 и т. п. Можно, наконец, с уверенностью говорить и о том, что в целом для профессиональной светской исламистики было характерно стремление – пусть и робкое, непоследовательное, слабо эксплицируемое – к изменению самого типа религиозности: пассивной на динамическую, интеллектуально углубленную, открытую позитивным ценностям земного бытия, в наивозможной степени терпимую. Было бы, впрочем, серьезной ошибкой полагать, будто все та же, стремящаяся к статусу самодовлеющего и автономного культурного института, профессиональная светская исламистика одновременно демонстративно уходила от многих политических, религиозных, моральных и прочих треволнений повседневного бытия, пыталась добиться своей независимости тем, что давала какую-то гарантию невмешательства в деятельность государственных органов и в той или иной степени оппозицирующих им общественных организаций и идеологических движений. Культурный и политический конформизм русских дореволюционных исламоведов, господство в их культуролого-профессиональном мышлении установки на получение идеологически и морально нейтрального знания вещь, конечно, бесспорная. Но и преувеличивать ее нет сколько-нибудь веских оснований, ибо в общем и целом процесс становления не только понятийного и методологического арсеналов, но и явных и латентных политических устремлений русской профессиональной светской исламистики оказался в громадной мере детерминированным позитивизмом, как таким мировозрением, которое в описываемый нами период оказалось в целом имманентным либерализму – или, точнее, его наиболее антиклерикальным, антифеодально– и иерархическо-бюрократическим, и, соответственно, эгалитаристским и толерантным, ответвлениям7. При всех своих бесчисленных ценностно-мировоззренческих, методологических, методических, концептуальных и прочих изъянах позитивизм был для интенсивно складывавшейся во второй половине XIX в. европейской исламистики в общем-то благодатным приобретением8, хотя бы потому, что, возводя в культ методологию естествознания, стимулировал и, главное, обосновывал атаки на те в высшей степени тенденциозные интерпретации мира ислама, которые в изобилии создавали как христианско-миссионерские его обличители, так и мусульманская и промусульманская апологетика. Позитивизм9, наконец, немало способствовал переходу от изучения индивидуальной деятельности того или иного представителя когорты Grossen Menschen к анализу структур и различных форм и сторон истории общества, в частности к историко-экономической и особенно историко-культурологической проблематике. Виктор Розен (1849–1908) был первым в России исламоведом, для которого она стала (и прежде всего под влиянием Альфреда фон Кремера) доминантной. Но и такой метаметодо-логический рывок нес в себе серьезные политические импликации, явственно противостоявшие политическим же следствиям реликтов средневеково-христианской картины ислама10 – картины, полной неимоверных деформаций, искажений и ошибок и четко нацеленной на разжигание антимусульманских страстей и эмоций11. Как видим, в конечном счете соперничество всевозможноликих когнитивных и эпистемологических программ подчинялось основной – межполитической прежде всего – конфронтации. А это было довольно точным отражением социокультурной эволюции России, где постепенно – как и на Западе – множество сосуществующих, близко связанных и в то же время автономных социальных институтов замещало собой единый интегрированный комплекс социальных структур, образующих ткань доселе монолитного общества, а также опыт живущих в нем людей12. В итоге и такая категория, как «российская культура», превращалась в совокупность частей, каждая из которых обретала собственные импульсы и пути развития, и отдельные «культурные ресурсы» интегрировались в совершенно различные зачастую стратегии действия. Но все эти и политические столкновения, и им сопутствующие (или же прямо ими генерированные) попытки изменения на позитивистской основе традиционных регулятивных принципов познания – попытки, также зачастую принимавшие драматические формы, – отнюдь не следовали по каким-либо одним более или менее строго очерченным путям. Напротив, они характеризуются зигзагообразностью, отходами в ту или иную стороны, повторением казавшихся привычно-архаичными траекторий, тупиками, петлеобразными движениями, скрещиваниями всевозможных направлений «погони за истиной» и т. д. и т. п. Я ранее пытался показать, что плюралистическая природа процесса накопления исламоведческого знания выражалась в открытии множества поисковых путей, в привлечении различных наборов гносеологических средств при решении одних и тех же в основном задач, в пролиферации все резче и резче отталкивающихся друг от друга супертеоретических оснований. Словом, угрожающе расширились темпы дивергенции в концептуальной области, дивергенции, неизбежно затрагивавшей и эмпирический уровень. Дело в том, что выдвигавшиеся гипотезы (хотя и не считавшие себя таковыми, а безапелляционно претендовавшие на ранг теорий и даже абсолютных истин), предлагая различные модели ислама, определяли не только их, моделей, различное содержание, но и различные же методики. Учтем, однако, что до появления профессиональной светской исламистики (концентрировавшейся прежде всего на факультете восточных языков в Петербургском университете13) нельзя было всерьез говорить о том, будто и сосуществовали и взаимопротивоборствовали такие когнитивные и эвристические системы исламоведческого знания, которые можно было бы с уверенностью назвать атрибутами собственно русской культуры. Как помним, для миссионерской исламистики главными врагами из стана немусульман были те западные ориенталисты, философы, социологи, которые идеализировали ислам – или отдельные компоненты его теологии, этики, права, те или иные моменты его прошлого и особенно его роль в будущих судьбах человечества. Гнев миссионеров обрушился и на русских единомышленников этих западных авторов, у которых первые заимстововали, по существу, и всю теоретическую экипировку, и фактологический резервуар. Надо, следовательно, тщательно реконструировать общеевропейский исламоведческий контекст, который хорошо знали русские авторы14 и с которым они пытались соотносить свои решения насущного для России «мусульманского вопроса», онтологические, гносеологические и методологические фундаменты своих теоретических конструкций, их эпистемологический статус и т. д. Я, однако, тут же хочу указать на очень большую условность термина «теории русских исламоведов». Таковых, в сущности, не было: все, что охватывается понятием «теория ислама», являлось, так сказать, импортированным товаром15, хотя и на нем русские ориенталисты то ставили собственные клейма, то, всего чаще, осознанно и критически адаптировали к «местным условиям» считавшийся абсолютным критерием западноевропейский концептуальный эквивалент. И даже в 1954 г., когда еще в полной силе было идейное наследие сталинизма, в том числе культ «оригинальности и всестороннего превосходства русской науки», весьма ортодоксальный советский автор (Н.А. Смирнов в «Очерках изучения ислама в СССР». М., 1954. С. 96–97) вынужден был признать: «Нет слов, некоторые ученые (русские дореволюционные исламоведы. – М.Б.) работали, и очень успешно, над общими проблемами ислама и создали ценные труды. Но наряду с таким положительным явлением надо отметить и тот факт, что многие крупные русские востоковеды нередко вместо самостоятельных исследований в области ислама ограничивались обработкой и переводом произведений восточных авторов или западноевропейских ученых. В частности, арабист Н.А. Медников, обладавший огромной эрудицией, ограничился переводом четырехтомной «Истории ислама с основания до новейших времен» (СПб., 1895–1896) Августа Мюллера. А работавший до Октябрьской революции в Москве проф. А.Е. Крымский, автор большого количества работ, в том числе по исламу, выступал преимущественно в роли переводчика и компилятора и целиком находился во власти своих иностранных источников. Даже такой видный исламовед, как А.Э. Шмидт, написавший в 1912 г. очень ценную работу «Очерки истории ислама как религии», хотя и дал много оригинального, все же в основном следовал «Лекциям по исламу» И. Гольдциэра». Итак, с одной стороны, шло восприятие в рамках единых в принципе и для западной и для российской исламистик мировоззренческих, методологических и даже идейно-политических («академическая беспристрастность»; «секуляризм»; «либерализм»; «толерантность» и т. п.) парадигм различного рода концептуальных конструкций о мусульманском Востоке. С другой стороны, беспрестанно слышались высокомерно-шовинистические декларации со стороны русских востоковедов типа Василия Григорьева, которые резко – хотя и далеко не всегда последовательно16 – отрицали какую-либо значимость для отечественной науки трудов западных ученых. Из всего этого обширного и сложного идейного материала – как отечественного, так и чужеродного – в основном представленного пока не нормативами, а лишь гипотезами, следовало: – отобрать варианты теорий перспективных, т. е. обладающих способностью выступать в качестве отправного пункта последующих вариантов; – одновременно твердо отсечь варианты тупиковые, неспособные осуществлять динамический синтез исходных данных, методологических подходов, теоретических посылок. Надо было, далее, не только еще последовательней разводить конфронтирующие точки зрения на ислам в целом, но и – что всегда было наиболее трудной задачей – доказать псевдоальтернативный характер казавшихся полярными представлений об этой религии, найти способ их объективно обусловленного согласования и соединения, сопровождающегося обычно их взаимной коррекцией. Такая коррекция как раз и позволила бы устранить из них те компоненты, которые стали причиной неоправданной дивергенции и столкновений данных воззрений – притом не только на данных этапах их формирования (что является в общем-то типичной ситуацией), но и на более поздних фазах их сравнительно автономного функционирования. Вновь хотел бы подчеркнуть, что в первую очередь здесь могла идти речь о миссионерских и светских интерпретациях ислама. В соответствующих разделах настоящего труда я доказывал, что развитие познавательного процесса русской литературы об исламе привело к тому, что разногласия между ее светским и миссионерским направлениями завершились объединением их основных когнитивных, предметных и методологических параметров. Объединение это, однако, далеко не во всем было конгломератным, механическим. 1. Историко-теоретическое (методологическое) отступлениеДелаю его, чтобы вскрыть причины в высшей степени интересного феномена, позволяющие уяснить многие важные вехи истории европейского исламоведения. Существенным свойством «высокой культуры» русского вестернизированного постпетровского общества была ее неконтинуальность: в ней наличествовали «трещины», «щели», ее отличала несбалансированность – словом, все то, что превращало ее в нестабильную и потому способную к разносторонним трансформациям структуру17. Однако даже к концу XIX – началу XX в. эта структура оставалась «поляризованной средой». В ней каждый сегмент испытывал настолько мощное интегративное воздействие всех остальных, что вопрос о его сколько-нибудь интенсивной автономной динамике оказывается практически нерелевантным. Есть еще одно объяснение этому. И секуляризм и конфессионализм – важнейшие (хотя и не равномощные) механизмы самосохранения русского общества и, следовательно, исторически релевантные категориальные системы. Но и та и другая вполне допускали возможность того, чтобы представители каждой из них руководствовались во многом общими культурными моделями, эпистемологическими регулятивами, когнитивными установками и даже политическими идеалами18 и лояльностями (в особенности к «единой и неделимой Руси», а значит, и к программам ассимиляции и русификации мусульман и прочих «инородцев»19). Взаимоотношения между секуляризмом и конфессионализмом (в лице их исламистик) далеко не ограничивались критическим диалогом между соответствующими стратегиями восприятия и объяснения мусульманских феноменов. Как и на современном ей Западе, в России – во всяком случае, в XVIII – первой половине XIX в., т. е. до этапа сравнительно широкомасштабной модернизации, – наука не опиралась в своих доводах на какой-либо единственный источник знания, а использовала целый спектр таковых, в том числе и теологического характера. Вновь зафиксирую то обстоятельство, что светская и конфессиональная трактовки ислама непрестанно попадали в зону массивного взаимооблучения – даже тогда, когда вторая стала воспринимать и интегрирующие и дифференцирующие умения первой, и ряд ее фундаментальных генерализаций (переводя все это, впрочем, на иную – насыщенную провиденциализмом – эпистемологическую платформу). Если описать только что сказанное в терминах семиотики, то станет ясным, что обе эти исламистики оперировали одними и теми же оппозициями дискурсии – притом такими, члены которых неравноценны, составляя поэтому иерархические пары20. Ведь в них позитивный член («русский социум», «русская культура», «православное христианство») господствует над подчеркнуто негативным («нехристианский Восток», «Азия», «мусульманский мир», «ислам»), привлекает к себе большее внимание. Это и создает механизм власти в дискурсии21, поскольку признается большая важность позитивного (присутствующего) члена. Как бы то ни было, «типичный русский интеллектуал» оказывался – несмотря на некоторую секуляризацию культуры – включенным в формально разные, но в сущностном плане далеко не во всем резко отличающиеся друг от друга культурные общности. Такой явно слабый вариант «структурного перекрытия» тормозил зарождение и универсализацию абстрактного мышления, интерпретацию «реляционизма». Под последним понимается (К. Mannheim)22 осознание возможности различных точек зрения на бытие, возможности, вытекающей из различия позиций в стратификационной системе. Наличествовало, таким образом, некое подобие «универсальной» методологической платформы. Это, с одной стороны, вооружало исламоведческую мысль прочным идейным каркасом, оберегало ее от центробежных и сепаратистских тенденций ультра-эмпирических импульсов, создавало хорошо структурированную и централизованную научную парадигму, в рамках которой не возникала четкая контроверза светской и миссионерской исламистики. Но с другой стороны, эта же самая «универсалистская» – и, значит, в сильной степени и унифицирующая – методология делала неопределенными гносеологические статусы каждой из этих дисциплин, блокировала развитие их теоретического (и методологического) потенциалов, их институциональное размежевание и друг от друга и от ярко актуализируемых и политизируемых социальных ценностей, которым в России неизменно отдавался абсолютный приоритет перед ценностями индивидуально-познавательными. Если исходить из того, что такое явление как «русская исламистика» должно быть постигнуто как самостоятельное целое и описано в собственных терминах, а не посредством телеологических понятий других, принципиально снимающих все этнические и прочие «партикуляристские» характеристики феноменов – «мировая исламистика», «мировое исламоведческое сообщество» и т. п., – то придется признать, что ее культурно-историческое бытие в описываемый здесь период протекало в формах, исключающих продуцирование подлинно концептуальных конструктов, строгих аксиоматических и дедуктивных систем23. Вот почему даже в профессиональном востоковедении на всем, пожалуй, протяжении его предреволюционной истории Абстрактная Теория Ислама не рассматривалась как фундаментально значимая по статусу. Напротив, он, этот статус, отводился преимущественно конкретным моделям (особенно аналоговым), хотя по своей природе они могли быть полезны лишь для эвристических (или дидактических) целей. Подчеркнутая социальная, морально-этическая, политическая ангажированность русской науки в целом24 вела к падению в исламистике удельного веса интеллектуально-познавательного аспекта, к лимитированию зоны порождения и легитимизации категориально-субстратных инноваций. Как и в других сферах культуры – в первую очередь в литературе, искусстве, всевозможных гуманитарных науках и т. д., – наибольшие симпатии вызывало не столько приращение аналитической искусности и профессионального мастерства, сколько стремление к прямой публицистичности и философичности, к последовательности и определенности в утверждении как собственно научных, так и гражданских мировоззренческих убеждений. Трудно разъять корпус текстов русской светской профессиональной исламистики на четко отмежеванные друг от друга куски, приспособить их – многозначные, как правило, по своей природе – для однобоких, схематических представлений, упростить напряженное взаимодействие заключенных в них явных и потаенных смыслов. Ведь точка, в которой находится, скажем, Бартольд, – Бартольд не как «просто исламовед», а как мыслитель, методолог, политолог, наконец, – включает в себя не только целый ряд кажущихся на первый взгляд шаблонными («позитивист», «поклонник точных фактов» и не более, «либерал») координат, но и многие иные, и потому неизбежно будет смещена за пределы обычного поля зрения. Но при всем отличии его от других тогдашних светских русских исламоведов – например, от сравнительно сильно политически аганжированного (он был убежденным украинским националистом) А. Крымского – вектор устремлений у всех них был один: попытка вырваться из чрезмерно тесных для них рамок узкой специализированности и из «работников» одного и только одного направления культуры превратиться в ее деятелей – притом таких, которые судят не об одних лишь исламоведческих проблемах, а о действительности в целом, указывают и как писать о мусульманских сюжетах, но, и главное, как надобно жить и самим приверженцам Аллаха, и русским, и прочим населяющим Государство Российское народам и нациям. Подобно другим обществоведческим наукам, даже такая экзотическая наука, как исламистика, начала претендовать не только на осмысление, но и на переосмысление, перестройку культурных, глобальных и локальных ценностей; она стала смотреть на самое себя как уже и на культуротворческую силу в условиях грядущего динамического, развивающегося и самообновляющегося российского общества. Но какими бы благородными нравственными императивами и этико-социальными сверхзадачами не диктовались соответствующие вербально-мыслительные и предметно-практические операции, они неминуемо вели к угасанию последовательно-теоретического мышления, к пренебрежению Специальной Большой Теорией. Понадобилось немало времени для того, чтобы под воздействием свершившихся на Западе концептуально-методологических рывков в российском востоковедческом сообществе возрос авторитет разнообразных онтологически-метафизических и неонтологических (онтических) систем знаний. Им же надлежало прочно связываться с узкоспециализированным исламоведческим знанием. И тем не менее стойко сохранились не только – и не столько даже – внешние, сколько интимные связи между наиболее секуляризованными ответвлениями и светской (причем не только русской, но и всей вообще европейской) и конфессиональной исламистик25. Я имею здесь в виду прежде всего общность теоретико-систематизирующего ядра их мировоззрений – или, вернее, имманентную всей тогдашней европейской культуре «онтологию тождественности», исходившую из идеи безусловной сводимости Иного к Наличному. Тождественность самому себе, возведенная в ранг онтологического постулата, низводила Иное (в нашем случае – Не-Христианство, в т. ч. и ислам) до статуса случайного проявления. В целости оставалась, следовательно, высокомоделирующая функция во всех сферах культуры смысловой оппозиции Христианство – Ислам, даже если у светской мысли она выступала как оппозиция Цивилизация – Не-Цивилизация. Тем самым укреплялось господство тех теорий, которые видели в исламе лишь производное от других, более фундаментальных (христианство, иудаизм), сущностей26. И далее. И секулярное и конфессиональное исламоведение являли собой идеологический стиль мышления с его постулатом, что понять сущность индивида, исходя исключительно из него самого, невозможно, что это достижимо лишь через раскрытие его природы как члена той или иной группы, и только как представителя определенной «коллективной личности». Следствием было то, что понятийный компонент таких слов, как «мусульманин», «азиат» (опять-таки отождествлявшийся, как правило, с термином «приверженец ислама»), оказывался идеологически окрашенным (несмотря на красноречивые – а нередко и совершенно искренние – попытки светских востоковедов доказать свою полную объективность при трактовке инорусских и инохристианских феноменов). Но тогда же имела место и иная любопытная тенденция. Именно потому, что светское начало не стало в России (да и не только в ней) полностью отделенным от явных и латентных импликаций конфессионализма, оно существенно подрывало имманентное последнему дихотомическое видение мира в жестко разграничиваемой системе категорий. Этот вывод, конечно, покажется парадоксальным. Попробую объясниться. Ведь светская исламология27 (и ее философия28) должна была по-иному, нежели конфессиональная, подходить к понятию «мусульманин – российский подданный». Воспользуюсь для дальнейшего анализа моделями концепции «размытых (или нечетких) множеств» (Zadeh L.O. The Concept of State in System Theory // Views on General System Theory. New York, 1964). Исходным понятием обычной теории множеств является понятие принадлежности элемента х (в нашем случае – «мусульманин» или даже «отдельная мусульманская община»), некоторого множествах (в нашем случае – «все российское мусульманство») к определенному подмножеству АсХ (в нашем случае – «весь мусульманский мир»). В основе же теории «размытых (или нечетких) множеств» (и, соответственно, «логики нечетких понятий») лежит представление о том, что составляющие множество элементы, обладающие общим свойством (т. е. «все мусульмане»), могут обладать этим свойством различной степени и, следовательно, принадлежать данному множеству («весь мусульманский мир») с различной степенью. Напротив, уже сам факт вхождения и длительного функционирования данного элемента («мусульманин» или «отдельная мусульманская община») в качественно иную («русско-православную») систему неизбежно подвергал его трансформациям особого рода. Именно последние заставляли, с одной стороны, считать его принадлежащим одновременно к этой, второй, системе (или «подмножеству») и признать онтологически правомочным тезис о множественности степеней истины, свойственных не просто человеческому мышлению как таковому, но и тому, которое действует в его, так сказать, российско-имперской, разновидности. В итоге все большее и большее внимание стало уделяться уже и динамическим аспектам, и истории конкретных компонентов мусульманского Востока. Как видим, именно светскому, заявившему о себе и в исламистике, мышлению – которому чаще всего приходилось принимать решения при нечеткой исходной информации – оказалась все более свойственной опора на многозначную, а не на классическую двузначную логику, этот явный атрибут жестких вариантов конфессионализма29. В свою очередь, она, эта многозначная логика, требовала предельного расширения такой формы концептуализации исламоведческого знания, как рационализация. В описываемые здесь времена она выступала – и прежде всего у Виктора Розена с его подчеркнутым поворотом в сторону западной позитивистской науки – как ориентация на естественно-научную точность. Вследствие этого рациональность отождествлялась с дискурсивно-логической формой мышления, за пределами которой оставались понимание, связанное с языком образов и символов, подтекстные концепты и т. п. Конечно, ни Розен, ни все тогдашнее русское академическое исламоведение, увлеченные лишь одной задачей – с корнем вырвать в сфере своей профессиональной деятельности малейшие ростки «субъективизма» (= «дилетантизма»), наиболее мощным оплотом которого представлялась им миссионерская исламистика, – не учли, что интеллектуальная деятельность на уровне «язык образов – естественный язык» весьма фундаментальна. Ведь в глубинах этого строя порождаются доконцептуальные прообразы явлений и парадигмы операций с ними; вырастают различные направления концептуализации, существенно отличающиеся друг от друга, – чего, однако, быть не может при господстве онтологических импликаций дискурсивно-логической формы мышления. Но, повторяю, до осознания важности подобного рода гносеологических ситуаций было еще очень далеко, и поэтому борьба за демиссионеризацию (= «десубъективизацию», «истинную профессионализацию» и т. п.) и за бесповоротное утверждение в русской исламистике одних только «строго научных» (= «западноевропейских») критериев30 и нормативов велась довольно настойчиво, широкомаштабно, многогранно. Одним из плодов ее стало торжество того, что можно назвать «функциональной идеологией академического мира». Она поддерживает как традицию коллегиальности с корпоративными решениями, так и оценку индивидов в соответствии с их компетентностью и свершениями31. Но именно поэтому нужен был прежде всего человек, бескомпромиссно избравший себе в качестве «референтной группы» своих западных коллег и, что не менее важно, совмещающий в своем лице Культуртрегера (западно-исламоведческих научных стандартов и научных достижений) и Критика. А последний должен выполнять по крайней мере четыре функции: информационную, рекомендательную, разъяснительную, – чтобы вернее поместить тот или иной труд на сложной «карте» тогдашних исламоведческих школ и направлений – и, главное, умело «программировать» развитие отечественной исламистики. Критик32 осуществляет связь не только в системе «автор – текст – издатель», но и в системе производства, распределения, рецензирования исламоведческого произведения. Критик выступает как представитель исламоведческой читающей публики, как профессиональный и компетентный читатель. Его влияние распространяется и на метакоммуникационный уровень, поскольку в выступлениях о специальное литературе, об авторах, об издательских планах и т. п. он формирует исламоведческие нормы и суждения, на которые могут ориентироваться участники исламоведческого коммуникационного процесса. Хочу, однако, дополнить сказанное весьма существенной, на мой взгляд, деталью. Еще «дорозеновская» исламистика являла себя как живая самоорганизующаяся система, способная к активному использованию поступающих извне воздействий в функции ориентировки и к их переработке. В принципе такая система оставалась инвариантной к смене ее конкретных носителей (а тем самым – их субстратных свойств), ибо она должна была непрерывно осуществлять сигнально-ориентировочную деятельность в быстро меняющихся мирах и российской и мировой исламистик33. Но с течением времени становилось все яснее, что выполнять роль полноценной копии Оригинала (вновь и вновь напомню, что речь идет «только» о теоретико-метаметодологическом ядре) западной исламистики русская исламистика сможет лишь тогда, когда она будет активно реализовывать и перерабатывать применительно к своим специфическим условиям и требованиям предметное значение идущей извне фактологической и особенно концептуальной информации, адекватно осознает и положительные и отрицательные стороны ее динамического субстрата и предложит действенные каналы его перекодировки из одной – «западной» системы кодов – в другую, «русскую»34. Для реализации всей этой сложнейшей задачи нужен был высококвалифицированный творческий коллектив со следующим ролевым распределением функций внутри него35: «генератор» (формулирует проблему и намечает возможные пути ее решения); «организатор» (осуществляет разработку конкретной исследовательской программы); «критик» (выявляет наиболее слабые места предложенных вариантов решения проблемы); «эксперт» (выносит оценку каждому пройденному этапу исследования и определяет перспективы дальнейшего продвижения вперед); «коммуникатор» (обеспечивает эффективный информационный обмен внутри группы и ее связь с другими исследовательскими коллективами); «антрепренер» (доводит полученные результаты до стадии практической реализации) и, наконец, «руководитель» – способный органично совмещать административно-организаторскую и научно-исследовательскую деятельность, направить в нужное русло процесс коллективного научного поиска. Лишь Розен смог успешно совмещать в себе все эти функции, ибо обладал одновременно даром и интегратора, и аналитика и потому лучше, чем кто-либо иной из тогдашних русских исламоведов, мог вычленить проблему из беспорядочного массива данных, дать целостное представление о ней, уловить реальные связи между кажущимися вначале совершенно независимыми друг от друга ее элементами. Таким образом, Виктор Розен стал – как, впрочем, и полагается истинному мэтру – «интегративным звеном», стягивающим в единый узел запутанные переплетения интересов, мнений, воли своих единомышленников и последователей. Созидаемая им собственная «научная империя» пропагандировала идею необходимости свободного потока информации, полагая, что лишь подлинное знание может способствовать рациональному и успешному принятию государственной важности решений касательно тех или иных мусульманских проблем36. Уже одно это обусловливало расширение разноаспектной дистанции между теми особыми ракурсами трактовки мусульманского Востока, которые предлагали миссионерская и академическая исламистики, в то же время уплотняя имманентную каждой из них систему ценностных убеждений, препятствуя дальнейшему субстанциональному и фундаментальному их взаимопроникновению, – при всем при том, что каждая из этих исламистик была не статистическим единством, а феноменом диалектичным и динамичным и поэтому, следовательно, реально и потенциально открытым для творческо-конструктивного диалога с целью получения единого и многоаспектного видения реального мусульманского Востока. Задачу собственной – или искренне рассматриваемой как собственная – методологии розеновская школа видела в объективном изучении специфически исламских структур, в анализе того, как они сформировались в истории Востока, как существуют и функционируют ныне, а не в попытках втиснуть это реальное содержание в прокрустово ложе столь характерных и для миссионерской исламистики, и для дилетантско-романтической школы априорных методов и моделей, диктуемых ограниченными гносеологическими и логическими установками. При этом еще раз хочу акцентировать, что в те годы еще не стали подлинной угрозой для исламоведения многие онтологические и эпистемологические болезни позитивистского направления37: абсолютизация эмпирических наблюдений; неадекватность существующих форм объяснения для многих не укладывающихся в категорию «закономерность» явлений и аномалий; «объективность» по отношению к острым социальным проблемам; в общем-то довольно грубая рентификация мира межличностных отношений; биофизический редукционизм человеческого поведения (и вообще физикалистский редукционизм в обществоведении) и т. д. и т. д. В конце XIX – начале XX вв. добродетели позитивизма превысили его дефекты, и потому, повторю это со всей категоричностью, лишь на его основе русская исламистика могла свершить прыжок в категорию «Мировая наука» – каковой и становились доселе во многом разрозненные, но в период перед Первой мировой войной начавшие интегрироваться западноевропейская и североамериканская исламистики38, – перепрограммировать свой ценностно-смысловой каркас, создавать новые парадигмы, притом такие, которые не носили бы императивный характер. Это позволило бы, следовательно, научно-исламоведческому мышлению ассимилировать и какие-либо кажущиеся парадоксальными объекты мусульманского Востока – так, чтобы не было преград и чисто аксиологического порядка, – и те, которые более или менее явственно служили интеллектуальной формой выражения исторического гегемонизма европейского мира39 с его семантическо-одномерной ментальностью. Именно рефлексивная «вооруженность» становилась буквально практической потребностью для едва ли не каждого из тех примыкавших к Розену исследователей (в первую очередь – из Петербурга40), кто пытался глубоко понять фундаментальные константы исламского мира, – понять прежде всего через труды ведущих западных исламоведов второй половины XIX – начала XX вв.41. Под их воздействием – и, конечно, в силу внутренних потребностей – определенную значимость стало получать самосознание, функционирующее посредством особого компонента рефлексивных механизмов, т. е. представления и понятия о методах научного исследования, формах и структурах исламоведческого знания, наборе соответствующих операций и приемов, критериев оценки действий по формированию и развитию профессионального мастерства и т. п. Но в те времена не удалось до конца свершить последующие – притом логически необходимые – акции: – универсализировать совокупность процедур и предписаний, направленных на получение и концептуальную обработку исходного эмпирического знания об исламе; – исследовать содержание отдельных понятий частных мусульмановедческих дисциплин и возникающих при их анализе познавательных ситуаций (в частности – касающихся принципов селекции и гармоничного восприятия знаний из других областей науки, общих предпосылок содержательного характера и т. п.). 2. У истоков светского профессионального исламоведенияТут-то и сказались те дефекты позитивизма, которые до поры оставались как бы в тени успехов им же развернутой интеллектуальной революции в исламистике. Так, все тот же Розен, типичный представитель позитивистского направления, был в общем-то совершенно чужд любой разновидности страстной, эмоционально напряженной, работы духа – особенно той, которая была проникнута религиозно-экстатическим пафосом. Являя себя стойким защитником одних лишь логико-рефлексивных процедур, он не мог стать подлинным интегратором всех – не только «рационалистических», но и, что не менее важно, «иррационалистических» (в лице хотя бы миссионерско-антимусульманской литературы) – ценностно ориентированных форм исламоведческой активности, которые лишь в ходе взаимосотрудничества и взаимоконфронтации могли бы создать полнообъемные картины мусульманского Востока. Между тем Розен, как никто другой, мог бы выполнить задачу подобного масштаба и сложности – и прежде всего вследствие своих уникальных и интеллектуальных и психологических качеств Лидера. И. Крачковский сравнил его42 с Христианом Даниловичем Френом (1782–1851). Немец по происхождению (как, впрочем, и множество других российских востоковедов43), Френ остался в истории российского мусульмановедения44 не только как видный нумизмат, но и как человек, много сделавший для институционализации этой дисциплины (основная его заслуга в этом направлении – создание Азиатского музея45), для ее совершенствования в соответствии с тогдашними считавшимися передовыми научными критериями46. Самого же Розена столь видный ориенталист и лингвист, как Николай Яковлевич Марр, назвал «Spiritus movens» нашего востоковедения»47, а Крачковский счел громадной заслугой Розена то, что именно его учениками и продолжателями на поприще руководства и организации этой науки стали такие люди, как Сергей Ольденбург, Василий Бартольд и сам Марр48. Еще один ученик Розена – А.Э. Шмидт – справедливо увидел в нем «яркого представителя того научного течения, которое стремилось освободить востоковедение от служебной цели (курсив мой. – М.Б.) и создать из него новую восточную филологию (не только ее, но и новые политическую историю, историю культуры и т. п. – М.Б.) со своими самостоятельными задачами»49. Разумеется, Розену удалось решить последние прежде всего потому, что его служебный статус всячески благоприятствовал его же реформаторской деятельности: окончив в 1870 г. факультет восточных языков Петербургского университета, он спустя всего два года стал там приват-доцентом, в 1893 г. – профессором и а с 1893 по 1902 гг. – деканом. В 1885 г. Розен, прибалтийский барон по происхождению, возглавил Восточное отделение Русского археологического общества, а с 1896 г. – им же созданные «Записки» этого научного подразделения (ЗВО). Я уже отмечал, что Розен конструировал свою «научную империю» буквально со всероссийским размахом, не ограничиваясь поэтому одним лишь Петербургом. Он проявлял постоянный – и в целом весьма результативный – интерес к периферийным ориенталистам. Как правило, это были непрофессионалы, вынужденные «в силу своей неподготовленности ограничиваться собиранием сырого материала»50, но тем не менее уже осознававшие – пусть и в смутной, еще далекой от строго научной экспликации форме – неадекватность многих традиционных концептуальных рамок и явную спонтанность своих исследовательских интенций. Активно привлекая их к деятельности «первого объединения востоковедов»51 в России – уже упомянутого Восточного отделения и его «Записок»52, – Розен тем самым пытался создать и своеобразный кадровый резерв, и широкую общественную подпорку за пределами столицы империи для рождавшегося светского профессионального исламоведения. История его «дисциплинарного оформления» заслуживает совершенно автономного исследования, и потому я остановлюсь здесь лишь на некоторых ее аспектах. Нет, конечно, никаких оснований отрицать важность для этой истории процессов профессионализации и институциализации. Однако российское светское исламоведение стало дисциплиной, еще не сделавшись профессиональной областью деятельности, и имело крайне ограниченную базу в лице небольшого числа востоковедческих университетских кафедр и нескольких любительских ассоциаций (вроде Палестинского общества53, Туркестанского кружка любителей археологии54 и др.55). Мимоходом замечу, что тем самым подтверждается справедливость мысли П.Л. Фарбера о том, что такие обычно акцентируемые факторы, как специализированное обучение, система проверки компетентности, коды профессиональной этики56 и т. п., нельзя считать универсальными атрибутами рождения научных дисциплин. В то же время надо всегда подчеркивать важность специализации, являющейся предметной основой интеллектуальной организации дисциплинарной деятельности и позволяющей устанавливать необходимые стандарты исследований и публикаций57. Под руководством Розена ЗВО как раз и пыталось посредством универсализации такого рода стандартов превратить исламоведение в сферу становящейся все более специализированной и профессионализированной деятельности, ускорить процесс кристаллизации из некогда единой области изучения мусульманского Востока ряда относительно автономных, предметно ориентированных дисциплин, связать их едиными коммуникационными сетями, установить единый интеллектуальный эталон и т. п. Словом, постепенно образовывалось и консолидировалось еще одно – исламоведческое – национальное дисциплинарное сообщество. Будущий исследователь его истории станет, несомненно, описывать и анализировать эту историю в широком контексте разноплановых факторов58 – таких, как: – предыстория изучаемого периода; – источники материальной и моральной поддержки востоковедческих исследований в России XVIII первой половины XIX в.; – влияние на их динамику интересов различных этноконфессиональных групп (особенно армян: такие их богатые и влиятельные представители, как Лазаревы59, создали в Москве знаменитый Лазаревский институт восточных языков60); – роль «универсальных» и локально-русских интеллектуальных традиций и влияний (в том числе великодержавно-российских амбиций); – коммуникативные возможности, содержательные проблемы и контраверзы российского востоковедения в целом; – личностные характеристики его наиболее видных представителей и их социальные роли; – институциональные особенности всей русской науки и политика по отношению к ней русских монархов, разнообразные формы характерного для них (и весьма эффективного нередко) институционального патронажа тем или иным научным исследованиям или направлениям, патронажа, вовсе не всегда преследовавшего одни только утилитарные цели. Розен, судя по всему, умел находить приемлемые для него как крупного администратора (декан; управляющий Восточным отделением носящего высокий титул «императорского» Российского археологического общества; редактор авторитетного специализированного журнала) формы сотрудничества с царскими властями, и поэтому нет никаких причин придавать его научной и общественной деятельности какой-то полудиссидентский характер. И разумеется, российским власть имущим, столь любящим выставлять себя в роли патронов науки, не могло не импонировать то, что Розен был подлинным эрудитом – «арабистом и исламоведом, византиноведом, знатоком арабской доисламской поэзии, персоведом» и т. д. (Н.Я. Марр)61; он «знал весь мусульманско-христианский феодальный мир средневекового Востока»62. Этот термин Якубовского – «мусульманско-христианский средневековый Восток» – кажется мне очень интересным, ибо верно фиксирует диалектический характер специфического для Розена процесса научного познания. Он не ограничивается изолированным рассмотрением вычлененных противоположностей – исламские и христианские социумы, – а доходит до осознания их единства, взаимопроникновения. Поэтому на смену строго-аналитическому подходу (вычленение односторонних, крайних моментов – т. е. все те же «мусульманство и христианство»63) у Розена с необходимостью приходит на престижную позицию «синтетическое отрицание», воссоздающее на новой основе целостность понятия – «мусульманско-христианский феодальный мир средневекового Востока». Понятие это осознавалось как единство противоположностей, находящихся не в состоянии покоя, а в движении и деятельности64. Нарисованная в соответствующих розеновских произведениях картина средневекового Ближнего и Среднего Востока проникнута духом динамизма. Розен показал, что в результате внутренних противоречий предысламские системы (византийские, персидские и др.) в этом регионе разрушались, но так, что в конечном счете создавались основы для возникновения новой системы, имеющей более высокую структурно-функциональную организацию, – той, которую привнесло с собой мусульманское господство. Элементы эрозировавших, т. е. доисламских, систем включались при этом в процессы функционирования и развития ново-возникшей, но не всегда служили базой для повышения уровня ее организации. И для того чтобы развитие всей совокупной структуры «мусульманско-христианский средневековый феодальный Восток» могло продолжаться, необходимо было сохранение таких компонентов отрицаемых (византийской, персидской и др.) систем, которые могли бы успешно ассимилироваться и преобразовываться либо внутри поглотившей их новой, исламской, системы, либо, сохраняя свой формально-автономный статус, трансформироваться под ее воздействием и в ее же интересах. Исследователь с высокоразвитым чувством историзма, Розен осознавал, что переход такой системы как ближне– и средневосточная цивилизация включает в себя как необходимый момент деструкцию, разрушение системы в целом или же каких-то ее подсистем, элементов, сторон. Диалектическое отрицание – т. е. только что описанный процесс – есть единство разрушения и созидания, деструктивности и конструктивности. Столь же необходимо оно включает в себя и момент преемственности, которому Розен уделяет если не первостепенное, то, уж во всяком случае, весьма значительное внимание. Все это были солидные предпосылки для создания фундаментальной теории взаимодействия ислама и христианства на мусульманском средневековом Востоке, теории, в основе которой лежало признание взаимодействия этих двух религиокультурных систем в качестве специфического процесса, имеющего свои законы, не сводимые ни к законам развития ислама, ни к законам развития христианства. Предполагается, следовательно, возникновение качественно новой особой системы – «Ислам – Христианство», выступающей в виде сложного многоуровневого образования, не исчерпывающегося этими двумя компонентами и обретшего собственные законы функционирования и изменения. Изучение ислама и христианства как относительно самостоятельных и вместе с тем внутренне зависимых друг от друга феноменов позволило Розену избежать сведения одного компонента к другому. Их единство, таким образом, предстает как единство многообразия – притом, что особенно важно, в принципе способного обеспечивать гомеостатическое равновесие. Снимается, таким образом, оппозиция исламо– и христианоцентризмов, утрачивающих самобытность каждого из взаимодействующих с ним верований, ибо и ислам и христианство начинают соотноситься с метасредой – «феодальным миром средневекового Востока» – не как простая часть с бесконечно превосходящим его целым, а как равноценные «микрокосмы», как полноправные эхо и зеркала универсума. Мера единства обеих этих религий раскрывается в ими же созидаемой духовной культуре, противоречивого и вместе с тем целостного континуума – ближне– и средневосточного ареала (он же – «мусульманско-христианский Восток»), Ни ислам, ни христианство не есть ее внешние предпосылки: они – ее неотъемлемые жизненные элементы, и каждый из них беспрестанно «втягивает» в себя наиболее ценные достижения другого. Как видим, Розен безусловно склоняется к идее коэволюционного взаимодействия ислама и христианства – идее, базирующейся на логике общения и диалога и, значит, отвергающей не только шаблонно-европоцентристские установки, но и логику антагонизирования, имманентную миссионерскому мировоззрению. Я, однако, вовсе не желал бы ограничиться еще одной констатацией этого факта. Поэтому позволю себе вновь отступление – на сей раз прямо касающееся проблемы «Как писать историю исламистики?». 3. В. Розен об истории исламистикиНастойчиво подчеркну прежде всего, что описание исламистики в качестве застывшей целостной системы, с постоянным набором свойств и признаков, в центре которой – история Мухаммеда и его Корана, не должно представлять для нас главного интереса, а являться изначальной данностью. По-видимому, доминирующая из всех задач – это показ того, как складывались, изменялись внутри одного и того же поколения ученых и передавались их последователям ключевые понятия нововозникающей науки – «Ислам», «Пророк», «Коран», «Сунна», «Шариат», «Суннизм», «Шиизм» и т. п., – понятия, составившие уникальный духовный климат мусульманского социума и в то же время несшие на себе зримую печать его понимания и репрезентации европейским миром идей и символов в семиотическом, информационном и формально-логическом аспектах. Прослеживая динамику в пределах исламоведческой традиции всевозможных – то ярких, то уныло-шаблонных – «вариаций внутри канона», но всегда памятуя о целостности конструктивно-методологического аппарата, можно будет легко убедиться в том, что вышесказанные ключевые термины нередко приобретают у современных нам авторов совсем иное значение, нежели у «отцов-основателей», что одни и те же понятия несут разную смысловую нагрузку. Вследствие этого исламистика есть процесс, а не набор законченных, замкнутых в себе мыслительных объектов. Каким бы банальным ни казалось теперь такое наблюдение, оно, однако, тут же требует жесткой фиксации в нормативном арсенале исламистики как функциональной и структурной системы по крайней мере двух положений, которые наделяют ее внутренним напряжением и динамизмом, вследствие упрочения взаимосвязи между временными и пространственными специфичностями: 1. История исламистики – это история смены значений и культурных функций повторяющихся ориентальных тем и мотивов, их видоизменения, трансформации и синтеза; это также и история вхождения в культурно-философское самосознание Европы благодаря исламоведческим штудиям не только наиболее значительных политических и культурных образов мусульманской цивилизации, но и некоторых ее ментальных и нравственных моделей. 2. Но, несмотря на все эти смены, сдвиги, переходы, несмотря на прогрессирующую эмоциональную и интеллектуальную интенсификацию традиционных для исламистики сюжетов, концептуальное ядро этой науки оставалось настолько широким и толерантным, что оно позволяло сочетать самые, казалось бы, разрозненные, несовместимые течения. Вследствие этого отображенные ими компоненты калейдоскопической, фрагментарной реальности тех или иных стран распространения ислама имели все основания рассматриваться как взаимозависимые части более высокой категории – «мусульманский Восток», категории сложной, многоступенчатой, но тем не менее с единым формообразующим принципом. И в данном случае не имело значения, что один ученый мог видеть в Истории прогресс, тогда как другой – лишь изменения форм, связывая их с циклической повторяемостью во все той же Истории, рассматриваемой как серия мутаций, но не прогрессивных перемен. Важней всего оказалось признание всеми представителями появившейся на свет профессиональной исламистики того обстоятельства, что мусульманский Восток находится в ситуации перманентной активности и трансформации. Постулирование для Востока возможности стать по многим своим характеристикам западоподобным, а для Запада – если и не востокоподобным, то уж наверняка способным постоянно воспринимать многие восточные метафизические построения, морально-этические изыски и т. п., следует, на мой взгляд, понять как стремление, делая упор на идее взаимопроникновения противоположностей, избежать, посредством их бесконечных метаморфоз, и духовной и даже физической гибели человечества. Поэтому Востоковед, блистающий отраженным светом сразу двух комплексов цивилизаций – европогенных и ориентальных – представал как бы медиатором, долженствующим превращать западные ценности в восточные и снова – во все те же западные по своей сути, но казавшиеся ему теперь куда более универсальными по своим структурам восприятия и осмысления глобального бытия. Розен в целом вписывается в эту модель – притом с гораздо большим на то правом, нежели любой из его российских же предшественников. Вслед за почитаемым им А. фон Кремером он поставил в центр своих научных интересов не политическую историю, а историю духовной культуры, а еще точнее – тот аспект ее, который непосредственно связан, как некогда точно отметил Н. Марр, с проблемой «международного обмена» разнообразными культурными ценностями65. В свою очередь, данный тематический круг требовал отказа от европоцентризма – во всяком случае, от тех его наиболее одиозных версий, которые доминировали не только в массовом сознании, но и в мировоззренческих подструктурах профессионально-востоковедческой ментальности, – и, значит, наивозможно более полной реабилитации всего того, что подпадало под категории и метакатегории «мусульманский Восток», «мусульманско-христианский Восток», «Азия», «Восток в целом». Розен недаром поэтому считает идеалом исследовательских интенций веющий от «Индии» Бируни «дух критики беспристрастной, вполне свободной от религиозных, расовых, национальных или кастовых предрассудков и предубеждений»66. Апология Бируни нужна Розену для громогласного утверждения тех принципов научного изыскания, которые он воспринял у своих западных коллег и которым стремился обеспечить окончательную победу в российской ориенталистике: нужна – и образец ее все тот же автор бессмертной «Индии» – «критика осторожная и осмотрительная, блистательно владеющая самым могущественным орудием новой науки, т. е. сравнительным методом, критика, ясно понимающая пределы знания и предпочитающая молчание выводам, построенным на недостаточно многочисленных или недостаточно проверенных фактах…». Судьба Бируни дает Розену повод и для грустных размышлений о том, что «толпа» всегда и везде «была, есть и будет далека от идеала и… мало число избранников, приближающихся, хотя бы только в некоторой степени, к нему, потому лишь, что они к нему стремятся всем мышлением своим»67. Я уверен, что и под «толпой», вечно «далекой от идеала» истинной науки и особенно под теми, кто склонен к «выводам, построенным на недостаточно многочисленных или недостаточно проверенных фактах», Розен имел в виду и тех представителей миссионерской исламистики, которые, по его категорическому мнению, оставались лишь беспомощными, хотя и в высшей степени амбициозными, безудержно-субъективными и даже злобствующими дилетантами68. Не случайно именно в одной из своих посвященных миссионерской исламистике рецензий Розен счел нужным изложить собственное исследовательское кредо: «К исторической истине ведет только один путь: установление исторического факта при помощи тщательной проверки относящихся к нему известий, другими словами, систематическая критика69. Путь этот один и тот же: идет ли дело об истории Китая или России, Турции или Испании, исследуется ли история политическая, религиозная, бытовая или же история текстов, литературных сюжетов, звуков, языков. Это есть для историка тот единственный прямой путь… вне которого нет спасения и всякие рассуждения и соображения, выводы и заключения совершенно праздны, пока этот путь не пройден»70. Он, этот «прямой путь», в принципе одинаков и для Запада, и для Востока71. Какими бы элементарными ни казались самому же Розену и эти и им подобные декларации, они, однако, были необходимы ему, в частности, для того, чтобы – вопреки вековечным стереотипам об антисциентизме восточных цивилизаций, – указать, что «Восток всегда относился с безусловным уважением к науке и ее представителям, – он только придает слову наука несколько другое значение, чем мы, более узкое, с одной стороны, более возвышенное – с другой»72. И еще один выпад – причем, как убедится сам читатель, довольно сильный – в сторону традиционного европоцентризма: «Уже понятно, что история человечества до тех пор останется фрагментарной, пока не будет как следует изучена история азиатских народов; уже понято, что поиски исторических законов, которые управляют судьбами человеческого общества, останутся совершенно бесплодным трудом до тех пор, пока они не перестанут основываться лишь на сравнительно небольшом числе фактов из истории Европы»73. Описывать и интерпретировать различные лики Истории – будь то западная (а в это понятие Розен безоговорочно включал и историю России) или восточная, – все ее структурные, функциональные, процессуальные элементы и факторы, ее явные и имплицитно-культурные нормы и т. п. надобно, согласно методолого-концептуальной модели Розена, в их данности, в их реальном действии и подлинной связанности, детально их реконструируя и эксплицируя, но ни в коем случае не привнося в этот Lebens welt (жизненный мир), как правило, чуждых ему мотивационно-смысловых блоков иноцивилизационной ментальности в виде субъективных вкусов, лояльностей и идеалов того или иного исследователя. Как бы мы теперь ни порицали позитивистскую историографию – в том числе и ее исламоведческую ветвь – за ее натуралистическую ориентацию, за ее утверждение о полном единообразии методов исследования природы и человеческого общества, все же, повторю это в очередной раз, в описываемой мной гносеологической ситуации только позитивистская методология и могла, ломая – несшие в себе обычно и антигуманистический настрой – догматические схемы, и выявить некоторые изначальные параметры, имманентно присущие бытию Homo Islamicus, во всех его бесчисленных расово-этнических и прочих вариантах, и нащупать хотя бы некоторые пути его взаимодействия со столь же бесчисленными социумами и культурами посредством круга соответствующих категорий, типизаций, понятий, норм, правил. Я хотел бы прежде всего отметить, что Розену (и, как я докажу позднее, и Бартольду) близки были в первую очередь лишь те феномены, которые несли в себе явственно-универсалистский потенциал, имели «общечеловеческие элементы»74 и познание которых поэтому требовало наибольшей объективности. Весьма показательным в данном отношении представляется мне отзыв Розена о книге уже известного читателю тюрколога (и одновременно – правительственного цензора) В.Д. Смирнова «Турецкие легенды о Святой Софии и о других византийских древностях» (СПб., 1898). Розен видит «методологическую ошибку В.Д. Смирнова… в том, что он… исходит не из того, что есть, а из того, что, по его мнению, должно быть». И далее серьезный упрек в бесплодности и даже вреде априорных генерализаций: «В.Д. Смирнов исходит из общих, так сказать, догматически высказываемых им положений, которые, правда, заключают в себе известную долю истины, но далеко не всю истину, и потому совершенно непригодны как исходные точки для очень прозаических исследований»75. В частности, Розену совсем не по душе такие «априорные генерализации», как тезис о «невежестве и варварстве» турок, о «бесплодности и бесцельности их более чем 400-летнего пребывания в таком чудном и замечательном месте, как Константинополь», как утверждение, что, овладев этим городом, «турки как невежды и мусульмане», у которых «невежественное и до крайности суеверное воображение», не в состоянии были понять высокий внутренний смысл доставшегося им от Византии богатого духовного и материального наследства. Розен полушутливо замечает: «Бедным туркам опять сильно достается»76, но на самом деле ему явно не по душе обличительные методы а-ля Смирнов, ибо они не основываются на глубоком изучении специфики влияния ислама на судьбы воспринявших его народов и, соответственно, их же роли в судьбах и отдельных регионов, и всего, наконец, человечества. А для этого необходимо отрешиться от стереотипного восприятия «мусульманской религиозной мысли» как некоего единообразного и неподвижного массива. Напротив, она, утверждает Розен, «на самом деле росла и растет, развивалась и развивается в весьма разнообразных направлениях, и исследование этого процесса – задача возникающей новой науки об исламе», наиболее выдающимися представителями которой он считает И. Гольдциэра и С. Снук-Хюргронье77. Задача столь крупных масштабов может быть, уверен Розен, решена и в России – но только при условии «строгого соблюдения правила о разделении труда, причем на долю местных деятелей (т. е. «провинциальных ориенталистов», деятельностью которых, как помним, всегда серьезно интересовался Розен78.-М.Б.), работающих большей частью без необходимых для всякой исторической работы книжных пособий, достается благородная задача точного, беспристрастного описания современного местного состояния умов и течения религиозной мысли»79. Особое значение, полагает Розен, имеет правильная оценка шариата. В рецензии на «Среднеазиатский Вестник» (Ташкент, 1896) Розен, отвергая – как невежественную и злобно-пристрастную к исламу – статью некоего Дингелынтадта «Неведомый мир. Современные мусульмане», доказывает (почти буквально повторяя здесь Гольдциэра и Снук-Хюргронье), что шариат «далеко не является безусловным и единственным регулятором современной мусульманской жизни, как он им не был и в прежние времена»80. Розен тут же спешит отметить и сугубо практический эффект этого своего взгляда на подлинный статус шариатских установлений в социокультурной и политической жизни мусульманских общин: у колониальной администрации должен исчезнуть (внушаемый ей, добавлю я тут же, предшествующими Розену авторами, в частности, Н. Ханыковым) «почти суеверный страх перед словом «шариат». В ходе исследований на местах, заявляет Розен, окажется, что «весьма многое из того, что считается или выдается муллами за шариат, или даже и входит действительно в шариат, в массах народных уже не считается за шариат и что, напротив того, другое, не имеющее ничего общего с шариатом, признается народом за святыню, которую нельзя трогать… Дальше такие наблюдения покажут, кого собственно следует считать настоящими духовными вождями народа, которым он верит и следует, официальных ли представителей шариата, вроде разных мулл, казиев и т. д., или же представителей дервишеских орденов, ишанов и тому подобных лиц. Все это одинаково важно и для науки и для жизни…»81 В данном случае правомочно говорить, продолжает Розен, об «уступках, которые теория вынуждена была сделать жизни»82. Но имеется в виду теория, предшествующая «новой науке об исламе», адептом и пропагандистом которой был сам Розен, – теория, казавшаяся по крайней мере дисфункциональной, потому что она пыталась редуцировать такую гетерогенную, полиморфную, обладающую своими особыми пространственными параметрами, своими временными ритмами, своей уникальной внутренней организацией, как ислам, лишь к одному из ее составных элементов – шариату, сколь бы ни была важна его и реальная, и особенно символическая значимость. Скорее интуитивно, нежели в ходе систематической методологической рефлексии, но в общем-то довольно отчетливо, Розен осознал, что целое – Ислам – характеризуемся такими специфическими чертами и закономерностями, которые не присущи отдельным его компонентам, и что поэтому его нельзя понять как функционирующий только на основе закономерностей составляющих его частей. Эта цельность обладает лишь ей имманентными типами устойчивости, которые могут более или менее безболезненно следовать друг за другом, благодаря, скажем, отходу от институционализированного ислама в лице прежде всего шариата в сторону суфизма. Иными словами, Розен с уверенностью включает в самый главный ряд познавательных установок российской ориенталистики идею эволюции мировоззренческих установок и ценностей, идеалов и нормативных структур, догматических каркасов и всех по существу формализованных и неформализованных звеньев категории «Ислам» – идею, всего тщательней обоснованную такими учеными, как А. Шпренгер, А. Кремер, X. Снук-Хюргронье и особенно И. Гольдциэр. Ведь тогда, когда формировалась «новая наука об исламе», становилось все ясней, что этой науке, стремившейся быть наукой точной, строящей свои выводы на основе строго доказанных положений, чужд актуалистический метод с его неоднозначными историческими экстраполяциями: решать проблемы эволюции мусульманского мира она могла только с позиций последовательно-исторического подхода. А таковой рассматривает саморазвитие, самоорганизацию и самоусложнение ислама и связанных с ним самых различных по своей структурной и функциональной организации, по своим сущностным характеристикам и многогранным потенциям явлений, как последовательный процесс, в основе которого в качестве «заводной пружины» лежит своеобразный механизм «естественного отбора». Он-то и двигает мусульманский Восток то по прогрессивным, то по регрессивным путям развития – путям, во многом детерминированными теми же историческими законами, которые определяют судьбы европейских и европогенных обществ. Ясно, что «логика изменения» неизбежно предполагала отказ от «логики абсолютных оценок», несводимых к предпочтениям и формулируемых обычно с помощью понятий «хорошо» (=«христиано-европейское») – «плохо» (=«исламо-восточное»), и оперирование «логикой сравнительных оценок», использующей понятия «лучше», «хуже» и даже «равноценно»83, – «равноценно»84, ибо становящаяся реалией мировая цивилизация в состоянии нивелировать национальные, исторически обусловленные специфические особенности различных субэйкумен и входящих в них этносов, сколь бы несводимыми друг к другу ни казались их аксиологические императивы85. Даже фрагментарное восприятие возникающего при «раскручивании» объемлющего этот сюжет клубка проблем заставляет Розена – хотя он далеко не всегда следовал истинным требованиям методологической корректности и имманентной логики воспринятой им исследовательской программы – выходить за пределы собственного предмета исламистики. Зачастую каждая из прорабатываемых им категорий – «экономика» (он недаром поэтому восхищался осведомленностью в этом вопросе А. фон Кремера86), «культура» и т. д. – оказывалась, по существу, категорией неисламоведческой. Собственно исламоведческий предмет оказывался равно принадлежащим иным, неисламоведческим, областям знания – философии, социологии, экономике, культурологии. Реликты испокон веков характерного для европейской ориенталистики культа филологии не оказались настолько сильными в розеновском интеллектуальном арсенале, чтобы он приносил им в жертву все прочие имеющие отношение к изучению мусульманского Востока научные дисциплины87: он вполне сознавал, что пограничный характер этого объекта естественным образом расшатывает предметный и поисково-операционный статус исламистики – «науки о религии – науки об исламе». Но как раз именно это обстоятельство и создавало мощное силовое поле методологической мысли, исследовательское напряжение, плодотворно способствуя формированию самосознания исламистики как науки, обретающей себя в драматическом перекрытии «исламоведческое-не-исламоведческое»88. Это был эффективный шаг, ибо: – позволял исламистике не только установить границы собственной сферы профессиональной компетенции (а тем самым – управлять темпами и тенденциями своего развития); – давал ей же возможность понять, что ислам – это не одно лишь «состояние», но и становление, осознанное самоизменение; – позволял ей же, исламистке, работать как важное средство оптимизации динамики востоковедческого знания в целом, превращаясь в междисциплинарную программу, которая синтезировала и обобщала результаты других, и традиционно-востоковедческих, и невостоковедческих дисциплин. А нормативная аксиология либеральной по своим политологическим и культурологическим импликациям «новой науки об исламе» должна была выступать как система ориентиров, к которым следует направлять деятельность тех, кто осуществляет данную программу. 4. Суть розеновского понимания исламаКак же конкретно отразилась она в розеновском освещении ислама и истории стран его распространения? При анализе этой проблемы нас ни в коей мере не должно смущать то обстоятельство, что по истории мусульманского Востока Розен не написал ни одной специальной работы: «он весь тут в рецензиях, систематически в ЗВО публиковавшимися»89, в материалах, очень небольших по объему, но несущих в себе, как правило, громадную и аксиологическую и методологическую нагрузку. Ведь, по сути, для Розена первенствующий интерес имела история христианского Востока90 – и ниже я постараюсь показать, что все это было совершенно логичным с точки зрения ведущих параметров розеновской теоретико-историософской модели (а тем более – тех моделей, которые функционировали за пределами институционализированного пространства научного сообщества профессионалов-исламоведов, да и то лишь такого, которое включало в себя преимущественно петербургских ученых). Читатель убедится, что при всей своей толерантности по отношению к исламу и прочим нехристианским верованиям Розен отказывается видеть в Weltgeschichte такой целостный живой организм, все стороны которого не только увязаны в единый узел, но и занимают равноправное положение касательно друг друга. А.Ю. Якубовский отмечает, что в истории халифата Розена интересовали два кардинальных вопроса: «Какова роль арабов в создании ряда исторических явлений, связанных с арабскими завоеваниями и распространением ислама? В чем сущность (политическая и культурная) аббасидского переворота в середине VIE в.?»91 Но этого, конечно, мало, ибо главное – выявить подлинное отношение Розена к исламу, а данный сюжет Якубовский фактически проигнорировал. Суть розеновского понимания ислама предельно четко раскрыта в следующем пассаже (из рецензии на издание «Индии» аль-Бируни): «Да не подумает читатель, что мы принадлежим к безусловным поклонникам ислама («мы» – это в данном случае «я, барон Виктор Розен». – М.Б.) и арабов и самостоятельной культурной силы этих исторических факторов. Мы вполне признаем сравнительную скудость и малосодержательность Мухаммедовой религии, неопрятность нравственной физиономии ее основателя, равно как и односторонность блестящего дарования арабской расы92. Но не в одном Мухаммеде и его идеях сила, и не в одном арабском духе суть значения того великого исторического поворота, которого начало относится к 16 июня 622 г. Сила и суть его в том, что он заронил новый фермент в застоявшуюся массу древних культурных рас, выпустил на арену свежих борцов, еще не зараженных той, так сказать, гипертрофией мысли, которой, несомненно, начинают страдать культурные ветераны, когда они слишком долго остаются без подкрепления новобранцами, необученными еще по всем правилам искусства, но сильными физической бодростью и страстной прямолинейностью молодости»93. Розену – хотя, конечно, и не ему одному – в общем-то остался чуждым методологический подход, согласно которому ислам имеет собственную внутреннюю структуру, исчезающую из поля зрения при всякой попытке разъять ее в соответствии с чуждыми ей классификационными схемами. Вот почему Розен вновь и вновь обосновывает свою кардинальную мысль о сугубо функциональной роли в судьбах Востока ислама и арабов как первых его приверженцев. Он видит в них лишь фактор, оказавшийся способным довести до точки плавления доселе разрозненные этносы и их культуры. Именно благодаря экспансии ислама и начался, согласно Розену, «процесс смешения старинной переднеазиатской культуры с новыми арабскими идеями и древних оседлых рас со свежими кочевыми пришельцами». В итоге выступает уже «новая, своеобразная при всех своих заимствованиях, сильная при всех своих недостатках культура, носителем которой не были уже ни арабы, ни сирийцы, ни копты, ни греки, ни персы в отдельности, а все эти национальности вместе, или, точнее, та новая смешанная раса, которая образовалась из слияния и смешения всех этих народностей. Если мы эту новую культуру и эту новую расу называем арабскими, то мы это делаем, с одной стороны, ради краткости – нельзя же ведь употреблять термин «греко-персо-сиро-копто-еврейско-арабская раса или культура», а с другой – ради того, что литературным языком этой расы оказался именно арабский язык, т. е. тот язык, который до сих пор не имел литературы»94. В другой своей работе – «Пробная лекция об Абу-Нувасе и его поэзии» – Розен считает, однако, нужным не умалять до конца значимость собственно арабского этнического элемента: «Персам и отчасти сирийцам обязана своим происхождением арабская наука, но все, что писалось по-арабски, и, таким образом, слава научной деятельности в период, когда в Европе господствовал совершеннейший мрак, осталась за арабами»95. И все же в конечном итоге вклад собственно арабов – как, впрочем, и каждого из остальных ближне– и средневосточных народов – в конструирование метакатегории «Мусульманская цивилизация» не следует, постоянно предупреждает Розен, преувеличивать. До ислама арабы были «полудикими кочевниками», и только. И еще: «Живя постоянно среди (лучше: «в условиях». – М.Б.) ожесточенной борьбы за существование, борьбы с природой и людьми, громадное большинство арабов (все тех же «доисламских». – М.Б.) не имело ни времени, ни охоты, ни способности предаваться созерцательной жизни, мечтать (лучше: «рефлексировать». – М.Б.) о происхождении мира сего и о цели существования на нем человека. Они не объясняли себе явлений природы причудливой мифологией и не создавали никакой религиозной системы, которая могла бы хоть в одной сфере служить объединяющим началом»96. И хотя оседлые арабы «были гораздо более доступны влиянию религии и (более) способны к искреннему религиозному энтузиазму»97, все равно в целостных характеристиках их ментальности Розен не идет дальше известных оценок ее Ренаном, Дози и прочими западноевропейскими ориенталистами: араб «всегда вполне поглощен настоящим и не может оторваться от действительности»; он «мало взыскателен… относительно логической связи одной мысли с другой»98; у него нет «творческой фантазии», вследствие чего в «древнеарабской поэзии отсутствуют мысли», – поскольку араб зависит «от отдельного… факта» и не способен подняться до осознания общечеловеческих проблем99. Что же касается так называемой арабской литературы, достигшей своего апогея спустя три-четыре столетия после смерти Мухаммеда, то она «не есть продукт чистой арабской расы, обитавшей в арабских степях и оазисах. Она – продукт такой смешанной расы, которая образовалась благодаря чрезвычайно быстрой ассимиляции, добровольной и принужденной, покоренных с покорителями, ассимиляции, совершившейся вопреки принятому догмату о поглощении народов с низшей культурой народами с высшею»100. Данному обстоятельству Розен придает первостепенное методологическое значение. Ему, ставящему во главу угла поиск явлений универсального масштаба и глубины – и потому сознательно пренебрегающему задачей систематического анализа влияния на социокультурное бытие расовых, этнических и прочих биологических факторов, – всего важней акцентировать, что и ориенталистам, да и всем другим историкам, надлежит изучать прежде всего интеграционные процессы и импульсы и возникшие в результате их своеобразные, отныне уже не сводимые ни к одному из образовавших их компонентов культурные феномены101 с имманентным лишь для них личностным субстратом. Последний, согласно позитивистскому кредо Розена, предстает исключительно в форме «типа»: нельзя ограничиваться, воссоздавая, скажем, историю арабоязычной литературы «лишь самыми выдающимися особями», ибо «нам нужны типы, а не отдельные личности»102, типы, отражающие динамичную природу нововозникших целостностей, а не тех или иных конкретно-национальных и прочих ярко локальных спецификаций. Сам по себе рывок – новый для России времен Розена, но для Запада же давно перешедший в разряд тривиальных – в сторону феноменологического понимания сущности такой целостности, как «средневековая мусульманская цивилизация» имел, разумеется, множество положительных для последующего развития исламоведческого знания аспектов. Он прежде всего в определенной мере подготавливал условия для восприятия им системного подхода. Восхождение от «отдельного» («арабы и их культура», «персы и их культура», «сирийцы и их культура» и т. д. и т. д.) к «системному целому» («мусульманская цивилизация» или даже «средневековая мусульманско-христианская цивилизация») было логической необходимостью завершения первого, по существу, витка спиралевидного процесса исламоведческого познания, ступенью – площадкой, представляемой категорией «системы», и требовало далее приступить к исследованию «отдельного» как системы. В принципе вообще любая отрасль научного познания начиналась с исследования изменений материальных и духовных образований и выявления их функциональных причин103. Обязанная своим рождением в основном позитивизму, «новая наука об исламе» опиралась на законы классической науки, представлявшей собой в целом функциональный этап познания универсума, в том числе разнообразных цивилизаций, субцивилизаций, культур, религий. Все открытые Кремером, Шпренгером, Ренаном «законы» генезиса и эволюции мусульманского мира – в том числе «закон борьбы в нем семитского и арийского начал»104, – оказывались фундаментальными «законами». Они претендовали на объяснение (на функциональном уровне) и предсказание поведения народов мусульманского Востока в условиях тех или иных причинных воздействий. Но понять, почему это поведение именно такое, какое предсказывают данные «законы», почему последние таковы, каковы они есть, – оказывается невозможным исходя из знаний, полученных «новой» (а в наши дни – уже «классической») исламистикой. Между тем только изучение глубинного, элементарного строения всех тех объектов, которые составляют метакатегорию «Мир ислама», позволяет нынешней исламистике приступить к более глубокому, по сравнению с функциональным, структурному, объяснению поведения этих объектов, включая и объяснение самих функциональных «законов» классической исламистики. Ведь вполне вероятно – хотя и строго не доказано, – что некоторые из них также лежат в основе всего поведения различных макрообразований («мусульманская средневековая цивилизация», «панисламизм», «панарабизм», «пантюркизм» и т. д.). Таким образом, самим «законам» классической (некогда – «новой науки об исламе») исламистики, примененным ею к функциональному по своей природе объяснению особенностей динамики исламских социумов, надлежит быть объясненными современной исламистикой в терминах структурного подхода. Есть, значит, основания представить историю исламоведческого познания как движение от исследования поведения объемлемых термином «Ислам» объектов к изучению их элементарного строения и к синтезу знаний о поведении этих объектов как «макротел» со знанием об их элементарном строении. Главной особенностью эпохи системного исследования является подход к любому объекту исламистики как к системе – единству его поведения как целого и его внутреннего строения. Заключается же он в исследовании этого единства. Генеральная линия развития исламистики – от «отдельного» к «системе» («системному отдельному»), от изучения поведения и строения какого-либо из «исламских объектов» в относительном отрыве друг от друга к совместному исследованию их как противоположных сторон этого объекта, к исследованию их единства. Опыт изучения такого, скажем, явления, как панисламизм, доказал, что механистическая по своей сути попытка сведения ислама к его частям и протекающим в них процессам, попытка представить Макроумму («мировой Ислам») как простую сумму его частей, «макроум» (=«локальных исламских общин»), объяснить его поведение (как целостного образования), как сумму того, что делают его отдельные части, не дала результата. Я хочу поэтому напомнить о факте, всем, казалось бы, очевидном, но не получившем, как представляется, должного историко-науковедческого толкования. В наши дни доминирует тенденция видеть в исламе не «просто религию», а «интегральный путь жизни», совершенно исключительный феномен, представляющий собой одновременно: 1) самореализацию арабской науки; 2) великую монотеистическую религию; 3) государство; 4) цивилизацию105; 5) номократию106, объемлющую не только религиозные, но и юридические нормы, тотальную систему, не знающую дифференциации религии и политики, морали и права, чуждую различию между «божьим» и «кесаревым». По-видимому, такая трактовка обусловлена, как я писал еще в 1971 г., следующим обстоятельством. Если для классического (во времена Розена – еще «нового») востоковедения, в значительной мере основывавшегося на механистическом методе анализа, было характерно стремление свести «целое» («ислам», «исламский мир») к сумме его частей и объяснять действия «целого» из действий его частей, то современная исламистика стремится именно «целое» брать в качестве отправной точки исследования, а в качестве исходных – законы, управляющие его поведением. Мы можем, следовательно, констатировать постепенное приближение к толкованию ислама как спонтанно активной системы, т. е. как организации, обладающей тенденцией сохранять и поддерживать себя через изменение, имеющей относительно автономное содержание и движущейся по внутренне детерминированным законам. Этот подход прежде всего означает, что ислам – не просто совокупность определенных единиц, где каждая управляется законами действующей на нее причинной связи, а совокупность отношений между ее фундаментальными составными элементами107. И само собой очевидно, что признание Ислама как Системы предполагает не просто перечисление богатства, разнообразия его форм, их «пригнанности» друг к другу, но и их порядок, устойчивость в изменениях на основе своеобразных механизмов саморегулирования. Нельзя не признать, однако, что в эпоху своего зарождения и классическая исламистика нередко приближалась к пониманию того, что в силу своих во многом уникальных (какими бы примитивными они на первый взгляд ни казались) черт ислам создал в завоеванных им странах Ближнего и Среднего Востока систему не аддитивную (конструируемую посредством простого суммирования элементов, их механического присоединения друг к другу), а органично-целостную (в которой изменения в одном каком-либо элементе немедленно сказываются и на функционировании всех остальных или, по крайней мере, некоторых108). Розен видит в исламе «новую, грандиозную по своей простоте и несложности религию, которая тем более пришлась по вкусу массам… что она почти везде являлась также и освободительницеи масс от тяжелого иноземного ига»109. И хотя слова «новая религия» и «пророк» берутся Розеном в кавычки, все-таки для него не подлежит ни малейшему сомнению, что «действительно понимать какой-нибудь народ можно, только изучив по возможности всесторонне его религиозную жизнь и развитие его религиозной мысли». Розен детализирует: «чем основательнее поэтому арабист исследовал историю арабской религиозной мысли, тем полнее и глубже будет его понимание арабской народности. Сама же эта народность не потому ведь стала «исторической» и приобрела одно из почетных мест в истории культурного человечества, что ее древние богатыри в вдохновленных песнях воспевали свои разбойничьи подвиги, ни даже потому, что она, смешавшись с покоренными ею расами, создала филологическую, историческую, математическую, медицинскую, философскую литературу, не даже потому, что в известной степени служила посредницей между греческой наукой и западноевропейским миром, в то время являвшимся столь же «отсталым», каким теперь считается мир восточный… Нет, право на свое место во всемирной истории арабская народность приобрела тем, что в ее среде возникла и, впоследствии, соединенными трудами элементов, входивших в состав смешанной, говорившей и писавшей на арабском языке расы, которую мы привыкли называть просто арабской, широко развилась одна из немногих действительно мировых религий»110. Итак, Розен, глубоко веря в доминирующую роль религии в судьбах всего человечества, также вынужден был создать понятийную систему, которая базируется на, говоря языком современной науки, атрибутном синтезе. Он предполагает объединение двух объектов таким образом, что один из них становится свойством другого. Так все, по существу, компоненты целого ряда завоеванных арабами – и, главное, ставших исламскими – народов являют себя уже не только арабизированными, но и исламизированными, т. е. произошел синтез этих объектов с другими («арабский язык» и «ислам»). Результат соответствующего атрибутивного синтеза – «арабизированные и исламизированные ближне-и средневосточные культуры». Но мы видели, что Розен не устанавливает взаимно однозначного соответствия между понятиями «арабский язык» и «ислам»: лишь за ним, за исламом, признает он статус подлинного субстрата системы111 – «средневековая мусульманская цивилизация». И сколь бы ни была существенной для Розена мысль о необходимости поиска реальной универсальной связи всевозможных объемлемых этой системой явлений и процессов и их взаимно функциональной зависимости, тем не менее, повторяю, он в выдвигаемой им соответствующей иерархии понятий выделяет в качестве порождающей субстанции религию – ислам. Я бы счел этот методологический ход одной из манифестаций понятия «странной петли» – феномена, неизбежно возникающего там, где движение вверх (или вниз) по ступеням иерархической системы неожиданно приводит нас в ту точку, с которой мы начали112. А Розен начинает и кончает исламом, поскольку ислам и только ислам – «вот настоящий аттестат зрелости, если позволительно так выразиться, арабской народности, вот главный вклад ее в культурную историю человечества, вот центр, из которого исходят все лучи арабского просвещения, и фокус, в котором они в большей или меньшей степени отражаются». Он не видит поэтому для арабиста-историка задачи более серьезной и благодарнейшей, чем «исследовать условия, при которых возник ислам, следить за разрастанием мало оригинальных мыслей арабского «пророка» в пышную религиозную систему, представляющую для почти двухсот миллионов людей то, чем они живы»113. А коли так, то надо учесть, что хотя «нынешние мусульмане слишком мало похожи на древних арабов-язычников и нынешний ислам – слишком далек от ислама Мухаммеда», все же нельзя понять ни один этап мусульманской истории без наитщательнейшего изучения других, какими бы архаичными они теперь ни казались. Но именно здесь всего опасней впадать в супердетерминистские соблазны, абсолютизируя роль «стартового состояния» системы в ходе ее последующей эволюции, – соблазны, которым легко поддались, в частности, представители русской миссионерской исламистики. Так, Михаил Машанов утверждал, что без знания жизни арабов в домухаммедовскую эпоху «нельзя себе объяснить исторического хода ислама на первых его порах (этапах. – М.Б.), его завоевательного характера, его быстрого распространения почти по всему миру, быстрого достижения арабами-мусульманами цветущего государственного и научного состояния и столь же быстрого упадка в мрак невежества, в каком коснеют и ныне все почти мусульмане, в том числе и арабы»114. Розен призывает к более трезвой позиции – позиции, учитывающей прежде всего минимизацию роли «арабского элемента» в судьбах постмухаммедовского ислама и сакрализуемых им культур. Имея в виду только что приведенные слова Машанова, он пишет, что для объяснения большинства названных миссионерским автором явлений знание «состояния арабов в эпоху Мухаммеда» играет довольно незначительную роль. Напротив, «преобладающее значение имеет исследование состояния тех стран и народов, которые подчинились исламу. С того самого времени, когда ислам вышел за пределы арабского полуострова, он начал освобождаться от влияния арабского элемента, который стушевывался все более и более. Связывать же «невежество», в котором будто бы (курсив мой. – М.Б.) коснеют теперь все (у Машанова, однако, читаем: «почти все»! – М.Б.) мусульманские народы, в каком бы то ни было отношении с состоянием арабов в эпоху Мухаммеда, нет уже решительно никаких оснований»115. Таковы, по Розену, плоды «истинно-научного подхода» к религии, подхода, за который – с кажущимся теперь мило-наивным оптимизмом116 – ратовали на страницах «Записок» его ученики, единомышленники и последователи117 и который он, как я уже, впрочем, не раз фиксировал выше, противопоставлял – как «объективный» – явным и неявным субъективистским воззрениям, в том числе миссионерским, и прежде всего тем, которые начисто отрицали за исламом (да и вообще за любой религией) сколько-нибудь позитивные потенции118. 5. В. Розен и миссионерская исламистикаНо здесь-то и нужен самый что ни на есть серьезный анализ проблемы «Розен и христианство», в том числе, естественно, и такого компонента ее, как «Розен и миссионерская исламистика». В литературе давно уже сложилось – и прежде всего благодаря А.Ю. Якубовскому119 – мнение, будто Розен был принципиально-неумолимым врагом этой исламистики, нанеся-де ей такие удары, после которых она уже не могла обрести ни малейшего автортета120. Попытаюсь доказать ошибочность подобного рода воззрений. Еще в первом томе издаваемых им «Записок» Розен пишет о развернутой казанским миссионерством атаке на ислам: «В Казани… уже давно ведется весьма энергичная духовная борьба с мусульманством. Борьба эта заслуживает гораздо больше внимания и сочувствия со стороны нашей образованной публики, чем ей обыкновенно уделяется, ибо тут дело о весьма важных государственных интересах. Заботясь о спасении душ своих мусульманских сограждан, казанские миссионеры и ревнители православия не только исполняют свою христианскую обязанность, но работают также в пользу дела великой политической важности, т. е. духовного слияния инородческих элементов наших восточных губерний с господствующею народностью»121. Розен нисколько не скрывает своей убежденности, что ислам – серьезнейшее препятствие на пути осуществления этой грандиозной цели. Благость ее он особенно подчеркивал в своих характеристиках средневекового мусульманского мира, успех которого в духовной сфере стал возможен лишь благодаря «смешению» этносов и их культур. В то же время Розен сомневается в действенности если не всех, то хотя бы некоторых из тех средств, которые предлагали миссионерские и близкие им апологеты культа «монокультуры», долженствующей уничтожить – или решительно подавить – «сорняки» в лице нехристианских (и даже неправославных) верований. Розен пишет: «Не подлежит никакому сомнению, что это слияние никогда не будет достигнуто, пока мусульманство будет держаться в народных массах так крепко, как до сих пор: оно (слияние) произойдет само собой, коль скоро авторитет ислама будет поколеблен в глазах мухаммеданской толпы. Нам лично кажется, что эта цель вернее и скорее может быть достигнута распространением среди мусульман общерусского образования, привлечением молодежи в русские школы и тому подобными мерами, чем полемикой о Коране и мусульманской догматике с учеными муллами»122. Розен явно осторожничает, не раз оговариваясь, что поскольку-де он незнаком с «местными условиями», постольку не чувствует себя компетентным во всем том, что касается специфически миссионерских проблем. Ему важно, однако, чтобы процесс их решения получил высоконаучное обоснование, ибо тем самым будет фундировано и дело универсализации в масштабах всей Российской империи ключевой для Розена ценности – европейской по своей природе системы образования с ее европейскими тож идеалами и нормами. Обратим первостепенное внимание на то, что Розен (как и все, пожалуй, другие российские либералы) не связывал европеизацию мусульман («духовное слияние инородческих элементов наших восточных губерний с господствующей народностью») с их переходом в христианство. Между тем, как это, бесспорно, интуитивно сознавал Розен, возможность перекинуть мостик со стороны российских мусульман к высшим плодам субстанционального движения всего, как он твердо веровал, человечества – к подлинно европейским социокультурным и политическим параметрам, – тормозится отвлечением исламоведения (в частности и в особенности миссионерского) от представляемых западной «новой наукой об исламе» концептуальных картин мусульманской действительности, от структурирующих эти картины категориальных форм мышления. Тот факт, что российская «донаучная» (=«дорозеновская») исламистика наделяла лишь эмпирическое бытие объекта – мусульманского Востока – особой ценностью, казался Розену резким ограничителем возможностей субъекта («стремящейся к унификации русской власти», «стремящейся к ассимиляции нерусских этносов русской культуры») по манипулированию с этим объектом. Розен, думается, сознавал, что ставшая превалирующей для миссионерской исламистики ориентация на односторонне-преобразовательную деятельность («массовая христианизация мусульман») исключала необходимость вводить в число категориальных элементов структуры «Ислам» ее внутренние противоречия, предполагать ее способность к самодвижению к историческому развитию, всерьез говорить о целесообразности ее строения, функциональной замкнутости ее частей, о наличии у нее развитой внутренней детерминации, опосредующей внешние воздействия и т. п. Но именно аккумулятором и глашатаем таких гносеологических процедур и выступала «новая наука об исламе», законным представителем которой в России чувствовал себя Розен. По самой своей сути эта «новая наука», с ее ярко историцистским взглядом на ислам, была во многом противоположна его миссионерско-христианским интерпретаторам и критикам, настаивающим на таком членении реальности, при котором можно было бы отвлечься от внутренней изменчивости Ислама, счесть его монолитом, элементы которого связаны одним только суммативным способом. И поэтому-то Розен настойчиво ратует за всестороннюю сциентацию миссионерской исламистики, за прочный союз между «теоретиками» и «практиками», как он называл миссионеров, всегда подчеркивая при этом социальную и нравственную ценность затеяной ими антиисламской кампании. Вот чем, к примеру, импонирует ему комиссия при Казанской духовной академии, которая с 1873 г. стала издавать «Миссионерский противомусульманский сборник»: «Исходя из совершенно правильного принципа, что для борьбы с каким бы то ни было противником прежде всего необходимо основательное знакомство с его силами, комиссия не задалась мыслью издавать исключительно полемические трактаты, а старалась по возможности содействовать ознакомлению с исламом путем научного исследования». И, явно имея в виду себя и своих единомышленников, Розен тут же добавляет: «Вот за это направление комиссия заслуживает полной признательности также и тех, которые посвятили себя изучению мусульманской истории и литературы, независимо от какой бы то ни было практической миссионерской или политической цели. При тесной связи между наукой и жизнью (как видим, в данном контексте термин «жизнь» охватывает и политику и миссионерскую деятельность. – М.Б.), нам… однако, кажется, что несколько большее общение между представителями «кабинетной» и «прикладной» (т. е. миссионерской исламистикой. – М.Б.) весьма желательно для обоих сторон. Обмен мыслями тут может быть очень плодотворен: ученый специалист (т. е. опять-таки «Розен и ему подобные». – М.Б.) найдет указания, в каком направлении ему приходится работать, чтобы найти то, чего в большинстве случаев у него нет, т. е. читателей, а практик, может быть, найдет указания на такие факты и соображения, которые в пылу борьбы легко могли ускользнуть от его внимания». Это тем более важно, что ислам – противник, обладающий самым разнообразным и сильным интеллектуальным оружием, в первую очередь «богословской наукой». Она же – «целое громадное здание, весьма солидно построенное, скрепленное цементом весьма искусной диалектики. Оно построено было не разом, а сооружалось исподволь в течение более чем тысячелетней жизни ислама среди ожесточенной умственной борьбы и под весьма различными иноверными и иноземными влияниями. Для того чтобы потрясти это здание в своей основе, недостаточно одного изучения Корана и указывания противнику на мнимые или действительные противоречия в нем: нужно глубокое знакомство с мусульманской экзегетической, догматической и апологетической литературой, чтобы поражать противника его же оружием. Других поражений он никогда не признает. Убедить его окончательно вам (прежде всего миссионерам.-М.Б.), может быть, и тогда не удастся; но вы непременно заставите его уважать ваши знания, признать в вас силу, а это даст вам авторитет и, при известных обстоятельствах, поможет вам подорвать авторитет «ученого» муллы в глазах массы, а это самое главное»123. С этой целью Розен призывает миссионеров обстоятельно овладеть арабским языком, детально ознакомиться – как бы это ни было трудно – с «литературой коранической, хадиса, усулей, фикха» и т. д. Это, конечно, очень обширный и сложновоспринимаемый информационный массив, но «противник (исламские апологеты. – М.Б.) должен бороться с теми же затруднениями, что и вы (миссионеры. – М.Б.). Вы же имеете перед ним громадное преимущество, располагая всеми открытиями и результатами современной науки, лучшим методом изучения и более глубоким взглядом»124. Розен, как видим, попытался теснейшим образом интегрировать в некий не только гносеологический, но даже в определенной мере аксиологический и праксиологический блок миссионерскую исламистику и «новую науку об исламе», игнорируя в принципе отличные одна от другой мировоззренческие составляющие каждой из этих дисциплин. Альтернативные выводы, полученные на основе одного и того же фактического материала, оказывались следствием различия в накладываемых на него концептуальных сетках, философско-методологических метапарадигмах, стратегиях идеологического и политологического поиска и т. п. Фетиш сциентизма – к тому же соединившийся в данном случае с абсолютизацией исторического метода125 – породил у Розена иллюзию возможности формирования такой динамической структуры взаимодействия светской и миссионерской исламистик, которая могла бы поддерживать оптимальный баланс негэнтропийно-энтропийных процессов в среде российских мусульман без существенных ограничений для развития всего имперского целого126, без того, чтобы переставала быть интрансигентной (не подлежащей компромиссному решению) ценность европейско-либеральных по своему духу «прав человека» и других видов морально значимых норм. Итак, забыв, что рано или поздно, но в конце концов неизбежно, уже в самой постановке и в решении связанных с мусульманством проблем проявляется разорванность, дихотомичность его образов, рисуемых соответственно светской и миссионерской исламистиками, Розен настаивает на многоаспектной кооперации с казанскими и прочими клерикально-христианскими обличителями ислама. Он – дает им советы, как аргументированней и глубже вести полемику с «учеными муллами» по таким проблемам, как «непогрешимость пророков, антропоцентризм, свобода воли»; – доказывает, сколь важны для исламистики в целом миссионерские исследования по чисто догматическим вопросам (причем одновременно надлежит убедительно доказать «зависимость мусульманской догматики» от христианской, дабы воссоздать совместно со светскими авторами «историю внутренней духовной жизни ислама»127); – высказывает пожелание, чтобы Казанская духовная академия «пришла на помощь ориенталистам-мирянам в разрабатывании этих вопросов. Богословское образование вообще, и значительное знакомство с творениями отцов церкви в особенности, служат лучшим подспорьем при подобных исследованиях»128; – публикует в «Записках» хвалебные отзывы своих коллег о деятельности русских миссионеров в Азии129 и т. д. Я еще раз напомню как нельзя более откровенные слова Розена об его отношении к исламу: религия «сравнительно скудная и малосодержательная», созданная человеком с «неопрятной нравственной физиономией». И тем не менее, постоянно убеждает нас Розен, надо с предельной тщательностью изучать все, связанное с категорией «мусульманство», учитывать каскад непосредственных последствий его динамики в том случае, если не удастся найти эффективных инструментов оптимизации системы «Русские – восточные инородцы», – инструментов, в ряду которых особо видная роль должна принадлежать востоковедению, как столичному, так и становящемуся под его воздействием все более научным провинциальному (в том числе и миссионерскому). Розен поэтому видит в таком, скажем, факте, как организация в составе Императорского Московского археологического общества Восточной комиссии, весьма красноречивое доказательство того, что осознание «великой важности и первостепенного значения востоковедения и для русской науки и для русского государственного организма начинает распространяться также и вне стен тех учреждений, в программу занятия которых оно входило с самого начала их деятельности»130. Розен надеется на «постепенное созидание кафедр главнейших восточных языков при всех наших университетах»131. И только тогда, торжественно заверяет он, «когда эта заветная мечта русских ориенталистов осуществится, русское востоковедение станет на вполне твердую почву, получит возможность успешного соперничества со старшими братьями на Западе и будет в состоянии основательно и целостно исследовать те поистине неисчерпаемые ориенталистические богатства, которыми обладает необъятное пространство России»132. То, что немалая часть этого «необъятного пространства» – исконно мусульманские земли, которые путем самой что ни на есть беззастенчивой агрессии включил в свою империю царизм, Розен, конечно, помнит. Но такого рода агрессию он воспринимает как нельзя более положительно и, более того, считает ее воодушевляющим примером и современникам и потомкам. Вот как рекомендует Розен («самым горячим образом»!) изданную в Ташкенте книгу о казахских султанах: в ней читатели, особенно «подрастающее поколение ориенталистов», найдут сведения о том, «ценою каких почти невообразимых страданий и какими поистине геройскими подвигами горстки военных людей достигнуто покорение и умиротворение той страны, в которую они въедут со всем комфортом в вагоне железной дороги»133. 6. Розен и другие авторы «Записок Восточного отделения» об исламе на мусульманских окраинах РоссииВ том же – апологетическом по отношению к русскому колониализму и его экспансионистским намерениям – духе высказывались и другие авторы «Записок», в частности известный ориенталист Н. Веселовский, оставивший книгу теплых воспоминаний о самом Розене134. Как помним, одновременно Веселовский был близок и В. Григорьеву – в частности, во взглядах на ислам и на политику по отношению к нему в казахско-киргизских степях. Веселовский обрушивается на тех представителей колониальной администрации, которые ограничиваются абсолютизацией сиюминутного благополучия в руководимых ими мусульманских регионах, не замечая всю хрупкость, неустойчивость иллюзорных форм взаимоотношений русской власти и автохтонных, во многом еще доисламских, структур, а последних – с мусульманской правовой системой. Веселовский настаивает на строго дифференцированном подходе к подпавшим под власть России мусульманским (или квазимусульманским – как казахи и киргизы) этносам: «… в деле управления различными народами, входящими в состав нашей империи, нельзя все подгонять под одну норму; нельзя требовать, чтобы народ, воспитанный другими, чем наши, условиями жизни, иным мировоззрением, разом изменил свои понятия и свои гражданские отношения; с ними приходилось мириться, хотя бы (надо: «даже если». – М.Б.) эти понятия были неправильны и в некоторых случаях вредны, а гражданские отношения почему-либо неудобны»135. Поэтому, напоминает Веселовский, киргизам (точнее – казахам и киргизам) и был оставлен их «народный суд по обычному праву» (т. е. адатный суд). Но при этом предполагалось, что постепенно в киргизских степях восторжествует царское законодательство. Вот в такую возможность Веселовский решительно отказывается верить, ибо вследствие самых разных причин не был установлен контроль за баями, которые «сочувствуют шариату! /Они/ высказывают сожаление, что своевременно не выпросили шариата у русского правительства»136. И это не потому, доказывает Веселовский, что шариат представляет собой, в сравнении с адатами, «кодекс более определенный», что шариат «не знает смягчающих вину обстоятельств и поэтому упрощает разбирательство дела». Основная причина в том, что «им, шариатом, удовлетворяются мусульманские требования. Суд у мусульман так тесно связан с их верой, что относится к числу дел религиозных, и в этом направлении особенно сильно агитируют муллы у киргизов». И тут же следует знаменательный пассаж: «…мы достаточно уже пропагандировали мусульманство в киргизских степях во вред себе (явный намек на Екатерину Великую! – М.Б.) и, кажется, пора одуматься. Пора убедиться, что мусульманство – самая враждебная христианству религия. Усилить ислам очень легко, бороться же с ним чрезвычайно трудно, а потому следует воздерживаться от таких мер, которые способствуют его усилению»137. Веселовский категоричен: «В тех случаях, когда адаты оказываются почему-либо несостоятельными, не отвечающими новым условиям жизни, их надо заменять русскими постановлениями, а не статьями шариата…»138 Таким образом, Веселовский продолжает ту традицию в русской литературе об исламе, которая из всех составляющих его элементов именно шариату отводила наиболее важные организующие, интегрирующие и социализирующие функции. Пользуясь случаем, я хотел бы вывести на первый план функцию шариата в процессе постепенной интериоризации («вращивания внутрь», превращения «внешнего» во «внутреннее») ислама как исходного средства связи между ядром мусульманской общины и всеми только в нее вступающими лицами (молодое поколение мусульман, а также принявшие ислам выходцы из иноконфессиональных коллективов). Если говорить языком Гегеля, в этом процессе «сознание – для – других» становится «сознанием – для – себя». Все более и более интериоризуясь, шариат из средства связующего воздействия друг на друга разных членов уммы становится средством воздействия одной функции ислама как такового на другую. Следовательно, шариат – это не внешний атрибут ислама, а подлинная основа его. Благодаря шариату и только шариату Homo Islamicus становится существом, воистину живущим в исламе, и даже, более того – в исламском социально-историческом времени и по законам этого времени. Шариат – даже если он остается преимущественно в статусе идеала – никогда не следует рассматривать как простой компонент практической активности «усредненного мусульманина», оставляющий без изменения ее смысловую структуру. Шариат – и преимущественно лишь шариат, а не столько тафсир, сунна, калам и т. д. и т. д. – строит ткань «исламского сознания» из устойчивых систем обобщений (хотя им и далеко до уровня обобщений западного классического права), фиксирующих в специфически исламском духе социокультурную ценность тех явлений и процессов, которые вошли в орбиту общественной практики мусульманского Востока. Я уверен, что примерно такими соображениями и руководствовались столь эрудированные шариатофобы, как, скажем, Ханыков, Григорьев и, конечно, сам Веселовский. Последний вообще настолько не любил ислам, что со страниц все тех же розеновских «Записок» отверг книгу «Сборник киргизских обычаев» как «пропитанную мусульманским духом»139, да и составителю ее (Бонч-Осмоловскому) дал очень дурную по тогдашним вкусам характеристику140. Пожалуй, Розен сам подписался бы под такими пассажами – или под их смысловой сущностью. Но зато вряд ли он, сторонник индивидуалистического принципа движения истории, в том числе и истории мусульманской, согласился бы с Веселовским тогда, когда этот убежденный консерватор пытался всячески идеализировать роль патриархальных структур и на этом основании настаивать на их сохранении у казахов (и киргизов). Веселовскому только «родовое начало» представляется надежным заслоном против процесса мусульманизации номадов и, соответственно, сохранения русской власти. Весьма симптоматично и то, что в своем восхвалении этого «родового начала» Веселовский использует те же аргументы, что и тогдашние – больше уже мыслящие в «полицейских категориях» – приверженцы типично русской деревенской общины и им подобных разновидностей Gemeinschaft. Веселовский вопрошает: «…почему наша администрация старается разрушить родовое начало у киргизов? Неужели же она в действительности боится власти родоправителей в политическом отношении? Неужели у нас нет средств руководить этой властью и направлять ее к добру? Родовое начало существовало и существует у всех кочевников, и это не случайность какая-нибудь, а необходимая форма гражданского кочевого быта. Если род отвечает за поступок своего члена, то чего же лучше? Род… сумеет сдерживать дурные намерения отдельных личностей. Дисциплина в этом отношении у кочевников очень строгая; там пылкая и буйная молодежь всегда находилась в самом строгом подчинении у опытных, благоразумные старцев. Разрушать авторитеты не трудно, но чем их заменить?»141 Но, отрицательно относясь к исламу, Веселовский – точно так же как Розен – считает эту религию величиной настолько внушительной и грозной, что какие-либо попытки или досадливо от нее отмахнуться, или ограничиваться ее заурядными и легковесными характеристиками будут крайне опасны для будущего российских государственных механизмов на мусульманско-колониальных окраинах. И Веселовский внушает: «Чтобы влияние наше на туземцев Средней Азии было благотворно, нам необходимо изучить их быт во всех подробностях, иначе мы не будем в состоянии ни отличить существенное от второстепенного, ни знать, как поступить в том или другом случае, где настойчиво требовать, где делать уступки, не теряя, однако, собственного достоинства и не упуская из виду государственных интересов. Осторожность необходима во всех тех случаях, когда затрагиваются религиозные воззрения народа, а для этого надо знать, как они, эти воззрения, проявляются в жизни и вообще в быте народа»142. Как же надо править в Средней Азии, например? Так, отвечает Веселовский, как правил ею генерал-губернатор знаменитый К.П. фон Кауфман143, который, в частности, сознавая «неудобство для русской власти и русского влияния в существовании Бухарского ханства, хотя и в вассальном положении», принимал меры «к ослаблению этого гнезда фанатизма…». После этого, с горечью продолжает Веселовский, «пошла в ход иная политика. Признано полезным поднять значение Бухары и возвысить обаяние власти хана. Едва ли это в интересах нашего государства». Следует разъяснение – настолько откровенное и настолько, надо признать, одновременно и дальновидное, что я процитирую его полностью. «Нельзя, – поучает Веселовский, – успокаиваться на том, что наше управление благодетельнее и гуманнее ханского, потому что у народа существуют и другие, высшие блага, помимо материального избытка. Это – прежде всего национальное сознание, чувство национальной независимости и политической жизни. Хороша русская власть, но ведь она чужая, и худая, но своя, всегда будет дороже чужеземного владычества. Лучшее тому доказательство представляет новая история Восточного Туркестана. Как ни ублажало китайское правительство туркестанцев, как ни благоденствовали тогда эти последние, но они при всяком удобном и даже неудобном случае восставали, чтобы изгнать язычников-благодетелей, и охотно шли под ярмо мусульманских тиранов. И у нас с нашими туркестанцами существует пропасть в религиозном отношении, а поэтому они тоже должны сознавать, что обречены на политическую смерть. Быть может, это сознание еще не приняло конкретные формы, но оно, несомненно, чувствуется, так сказать, висит в воздухе». Веселовский предупреждает – и, как показали последующие времена, не без оснований, – что «случайный толчок поможет этому сознанию развиться и, пожалуй, вылиться наружу. Вот почему усиливать значение Бухары144 нам нет надобности, так как туда будут обращаться взоры наших подданных». Вся беда в том, что колониальные администраторы высокомерно отворачиваются от науки, которая могла бы дать им необходимый для результативного управления Средней Азии свод знаний о ее настоящем и прошлом, да и вообще, они еще «не прониклись сознанием важности изучения тех стран, где они призваны действовать»145. Дело, однако, было не только в таких новообретенных мусульманских подданных «белого царя» как среднеазиатские народы: все острей становилась и проблема татар, давно уже вошедших в состав Российской империи, но никак не желавших оставаться ее второсортными обитателями. «Записки» не раз затрагивали и этот очень деликатный сюжет, особенно в публикациях такого известного турколога, как Василий Дмитриевич Смирнов146 (с 1873 г. – доцент, с 1884 г. – профессор факультета восточных языков Петербургского университета). В предшествующем томе я говорил о том, что татарские авторы – как старые, так и новые – создали Смирнову репутацию злобного, упорного (и даже невежественного, что уж совсем неверно!) врага всей их национальной культуры, в первую очередь книгопечатания. Был ли таковым Смирнов на самом деле? Я привлекаю для соответствующего анализа лишь одну его, но зато во всех планах примечательную, статью в розеновском журнале – «Мусульманские издания в России» (ЗВО. III. 1888). Смирнов начинает ее с напоминания о вышедшем более двадцати лет назад, т. е. в 1866 г., первого обзора таких изданий, сделанного крупным российским востоковедом147 академиком Борисом (Бернгардом) Андреевичем Дорном148. Этот обзор «наделал в свое время в заграничной прессе заметного шума, который нашел себе отклик и в нашей отечественной тогдашней печати. Иностранные, главным образом английские, публицисты, привыкшие смотреть на Россию как на страну абсолютного преобладания русской национальности», исключающего всякое внешнее проявление самобытного существования каких-либо иных народностей, обитающих на ее обширном пространстве, просто пришли в изумление при виде того широкого пользования печатным словом, какое предоставлено в России мусульманскому населению. Их поразило громадное количество из года в год повторявшихся изданий Алкорана и других книг религиозного содержания. Подведя статистический итог этим цифрам, английские публицисты указывали на них своему правительству Индии, как на образец в отношении центральной власти к иноплеменному и иноверному населению государства. Эти панегирики были воспроизведены тогда в некоторых наших солидных газетах с выражением несомненного чувства удовольствия от заграничных похвал и одобрения такому явлению во внутренней жизни нашего отечества»149. Смирнов же, напротив, недоволен и прошлым и современным ему положением дел: объем «мусульманской издательской деятельности» за 20 лет вырос (благо если прежде она имела один лишь центр – Казань, то теперь еще к ней присоединились и Бахчисарай, и Ташкент, и Кавказ), тогда как ее «репертуар… за немногими исключениями сохранил свой прежний характер». По-прежнему в изобилии публикуются Коран и прочие традиционно-религиозные сочинения, «массы арабских молитв… под разными заглавиями и с непременным татарским предисловием, изображающим чудодейственные свойства этих молитв и в различных опасных случаях человеческой жизни. Все эти издания предназначаются исключительно для мусульманского простонародья» и как нельзя более отвечают корыстным интересам «полутемной корпорации татарского духовенства». Правда, за последнее время, замечает Смирнов, наметились, под влиянием прежде всего модернизирующихся османцев (они же – «стамбульские меценаты всемусульманского просвещения в целом мире»), и некоторые сдвиги: растут «новые, для татар, конечно, прогрессивные идеи необходимости для татар образования и более свободной и открытой семейной и общественной жизни»150. Я хочу акцентировать то обстоятельство, что Смирнову явно по душе «оригинальность попыток татарских литераторов (которых он противопоставляет «татарской пишущей братии из /среды/ казанского духовенства». – М.Б.) отрешаться от прежней обскурантной закоснелости, не позволяющей пользоваться печатным словом иначе как только для религиозных целей. В этом смысле можно считать отрадным явлением ежегодное печатание календаря Каюма Насырова с прибавлением разных статей общеполезного содержания, а в самое последнее время издание учебников географии и арабской грамматики, ибо они несколько приучают татарских грамотеев к простому, общежитейскому содержанию читаемого в печатной книге»151. Но подобного рода литературы еще очень мало, с сожалением (я подчеркиваю – именно «с сожалением!») констатирует Смирнов, вовсе не склонный отрицать за мусульманскими этносами, в частности татарами, возможности обладать способностями к активным поискам самоконструирования и абсолюта. Он совершенно не согласен с Дорном, увидевшим в развитии мусульманского издательского дела в России несомненные признаки «постепенного возрастания народного образования среди татар»152. Нет, настаивает Смирнов, «печать в руках невежественного татарского духовенства служила и продолжает служить орудием поддержания и распространения религиозного, нравственного и бытового обскурантизма в бедном татарском простонародье»; предназначенные для него книги сеют «невежество и суеверие»; «под видом благочестия и под названием молитв печатается всякий набор слов, которому приписывается чудодейственная и полезнотворческая сила», беспрестанно публикуются «фантастические рецепты под видом «домашних лечебников», для «поддержания и энергизирования физических способностей к половым наслаждениям» и т. п. Смирнов искренне негодует: «И весь этот вздор печатается из года в год в ужасающих размерах… до сотен тысяч экземпляров», повергая «всякого гуманного и честного человека в уныние, свидетельствуя о суеверности, невежестве и закоснелости нашего мусульманства» 53. Смирнов не скрывает своего отрицательного отношения к «мудрым», как он с издевкой пишет, «государственным деятелям времен императрицы Екатерины II», которые «навязали» не только мусульманство киргизам, но и печать – татарам. Они – а вернее, «грамотные шарлатаны, претендующие на духовное руководство нашим мусульманским простонародьем, – придали книжной продукции направление не просто «узкорелигиозное», а проникнутое духом «фанатической косности и крайней суеверности». Как нельзя более убедительные симптомы интеллектуальной деградации находит Смирнов и в татаро-мусульманской школьной системе, которая по-прежнему в руках невежд и обскурантов. А если «среди татар и встречаются люди мало-мальски образованные и незакоснелые в своих воззрениях, то они обязаны этим все-таки русским школам и гимназиям, а не своим татарским мектебам и медрессе»154. В полном соответствии с Zeitgeist Смирнов упорно стремится убедить читателя, что его беспокоит судьба народа, притом народа татарского, особенно «простонародья». Так, он вновь и вновь говорит о «систематическом шарлатанском обскурантировании низшей братии татарскими книжниками, бессовестно злоупотребляющими печатным словом для эксплуатации и морочения безграмотного люда»155. Смирнова делает вывод, весьма важный с точки зрения чисто политической: «…такое одностороннее коснение в общем религиозно-нравственном миросозерцании не может не влиять парализующе на уравнение во взаимных отношениях татарского народонаселения к коренному русскому, окончательное сближение с которым не может не быть желательным в видах обоюдной их пользы, как членов одного и того же государства»56. Интересно, что Смирнов вовсе не выступает как сторонник полной – или даже частичной – замены традиционно-татарских образовательных и прочих культурных институтов, в особенности печати, русско-христианскими. Напротив, он дает «образованным мусульманам» самые различные советы – советы квалифицированные и дельные – на темы о том, как реформировать школьные курсы: так, надо «воспользоваться для этого знакомыми народу обычными формами хикяйетов и притчей с подкреплением известных истин подходящими кораническими текстами», и вообще использовать общемусульманские средства «для совершенно противоположных целей» 57. А это «истинные», т. е. европогенные, «просвещение» и «культура», ничего общего, как мы убедились, не имеющие с программой тотальной христианизации и русификации татар, да и прочих российских мусульман. Во всем этом мне видится очередное доказательство того, что в сознании множества русских интеллектуалов, и в особенности востоковедческой светской профессиональной элиты, идея иерархически упорядоченной поликонфессиональной империи – империи, качественно дифференцированной с онтологической точки зрения, – стала заменяться идеей такой империи, в которой все входящие в нее религиозно-этнические общины принадлежат одному и тому же уровню бытия. Отныне они должны не противопоставляться один другому, а стать взаимозависимыми и даже – пусть и в далекой перспективе – объединенными в некое целое, далекое, впрочем, от идеала тотальной аксиологической унификации. Категория «просвещение» выступает, таким образом, как наиболее действенное средство не только опосредования традиционных оппозиций (Ислам/Христианство; Русские/Татары и т. п.), но и их «смешения» в синтетическом единстве на основе внедрения европейского типа (при сохранении, однако, «мусульманской самобытности») образовательных институтов. Им же предназначено утверждать автономную индивидуальную человеческую сознательность («рациональность»; «целесообразность») в качестве непременного атрибутивного прообраза, модели организации как индивидуального процесса жизни, так и миропорядка, общественного устройства, экономической жизнедеятельности и т. п. Каким бы отрицательным ни было отношение Веселовского к исламу, он тем не менее оказывался вынужденным – как, впрочем, и остальные крупные представители русской ориенталистики конца XIX – начала XX веков – отыскивать нечто вечно-единое в гигантском клубке непрерывно переплетающихся друг с другом политических, экономических, культурных и прочих нитей, нечто такое, что позволило бы представить их все в качестве Ислама, мультиструктурного, многоступенчатого, многопредметного объекта. Но для такого объекта быть – значит быть устойчивым к изменению, сохраняя в принципе свои явные и особенно неявные доминирующие характеристики и направления динамики. И с этим фактом приходилось волей или неволей смиряться всем – и толерантным либералам, и упрямым консерваторам, и мечтавшим повернуть историю вспять, к блаженным временам крестовых походов, наиболее экстремистским представителям миссионерства. Таким образом, и Веселовского, и Розена характеризует стремление создать континуум высоко-теоретизированной модели эволюции ислама, с одной стороны, и по преимуществу прагматических поисков механизмов управления им в интересах «русского государственного организма» – с другой158. При этом они воодушевляли одновременно и профессионалов и общественность надеждой на то, что хотя бы в некоторых сферах ориенталистики русские ученые реально выйдут на первое место. Так, Розен заверял: «…в тех отраслях ориентализма, в которых либо благодаря характеру академических коллекций, либо благодаря историческим и географическим условиям, русские ученые могут и должны идти во главе других. Я разумею такие отрасли ориентализма, как инородческие языки, восточная нумизматика, сношения России с Востоком в разные периоды ее истории и пр.»159. Именно в данном направлении шел поиск познавательных160 и мотивационных функции исламистики и многих остальных авторов «Записок»161, в том числе, как мы увидим ниже, и Василия Бартольда. Но вначале обратимся к анализу исламоведческого наследия такой яркой фигуры, как Агафангел Крымский, который также значительно содействовал созданию когнитивного и культурного контекстов для сравнительно последовательных трансформаций оценок «исторической роли ислама», для придания легитимности новым для России концептуальным средствам ассимиляции религиоведческих факторов. Как и розеновское направление, Крымский немало сделал для того, чтобы ускорить отказ от нормативных, априорных схем в пользу синтетических определений, чтобы повернуть исламистику к эмпирическим реальностям мусульманского мира с органически ему присущими поведенческими и мыслительными моделями. Глава 2Агафангел Крымский, или Блеск и нищета эклектизма 1. Крымский как исламоведИтак, я веду речь об Агафангеле Крымском1 (1871–1942). Универсализм и расизм, рационализм и мистика – таковы базовые нормативные ориентации научного творчества2 этого во всех отношениях достойного внимания деятеля русской и украинской культур. Уникальный эрудит и полиглот, вынужденный к тому же постоянно зарабатывать себе на жизнь (очень важное отличие от никогда3 не знавшего серьезных материальных затруднений Бартольда) писанием популярных книжек и статей, Крымский, как я уже отмечал, не смог, однако, избежать в своих бесчисленных работах концептуального хаоса. Последний же был закономерным следствием тех – и внутренне иницируемых, и внешних, институциональных – кризисов, которые стали характерной чертой интеллектуальной истории российской исламистики конца XIX – начала XIX вв., и завершились ее безоговорочной тягой к западным методологическим и метатеоретическим моделям. А между тем даже на Западе тот специфический мыслительный комплекс, который я в предыдущей главе назвал «философией исламоведения» и первостепенной функцией которого была по крайней мере приостановка непрестанного дробления направленного на мусульманский Восток познавательного процесса на обособленные отсеки, без учета их общих связей, функционировал крайне аритмично, спонтанно, не сумев, органично включившись в ткань научного поиска, проложить надежный путь интегративным, синтетическим тенденциям. В итоге различные направления и школы мировой исламистики рубежа (XIX–XX) веков с большей энергией направляли свой потенциал друг против друга, нежели на усилия постичь сущностные основания своих различий и противостояний. Тогдашняя исламистика характеризовалась «явственно выраженным плюрализмом научного познания и знания. Это был закономерный плод ее динамизирующей специализации и дифференциации. А это, в свою очередь, означало, что на смену представлению об изоморфном однообразном социуме под названием «мусульманский Восток» пришел образ его же как социума структурализованного, как совокупности сгруппированных «разнокалиберных» и разнокачественных субъектов. Но между ними зачастую даже переставала устанавливаться какая-либо иерархическая подчиненность. Под давлением узкопозитивистской установки на простое описание «богатства единичного» воцарялось метафизическое противостояние эмпирии и теории4. Сказанное в равной, если даже не в большей, мере относится и к русской исламистике, которая порой самым парадоксальным образом соединяла противоположные по идейному содержанию установки, стремясь все их как бы «испытать на прочность». С одной стороны, есть основания вновь и вновь говорить о как бы органически ей свойственном пристрастии к безалаберному сочетанию различных, в том числе и взаимоисключающих, точек зрения, оценок, суждений, плохо стыкующихся систем доказательств, к намеренной зачастую аморфности многих категориальных конструкций, об отсутствии четкого, единого смыслового стержня и т. д. С другой стороны, наиболее вдумчивые представители российской исламистики осознавали, что наделение какого-либо одного понятия – «расовый (национальный) дух», или «экономика», или «специфика религии» – организующей функцией в процессе исламоведческой рефлексии приведет к острому дефициту реально-эффективных познавательных средств. Абсолютизация редуктивно-предметного анализа имманентных мусульманскому Востоку ментальных и культурных структур – в частности и в особенности того анализа, который обосновывал детерминанты типа «арийский», «семитский», «тюркский» и прочие субстраты, – означала бы обезличение прошлого. Тогда любое несущее на себе исламский штамп духовное образование стало бы преподноситься как результат жесткой, однозначной детерминации, а реальная история мусульманского мира обернулась бы незримо – отвлеченным алгоритмическим процессом. Торжество последовательных апологетов расовых концепций означало бы крайний схематизм. Люди, делающие историю, выступили бы здесь как едва проступающие в событийной канве взаимозаменяющиеся призраки, как персонификаторы религиозных, биологических, географических и прочих категорий. К числу факторов, которые лимитировали экспансию в мировоззренческо-социологический костяк русской культуры расистских теорий – и прежде всего это было влияние православно-христианского универсализма, – надо добавить и такой, как почти всеобщее равнение русских же профессиональных светских исламоведов (а отчасти – и миссионерских) на конститутивную политическую мораль либерализма. Она заметно повлияла и на оценку исламоведами специфики избранной ими предметной области, и на саму суть ассимилированных ими философских и историософских традиций и даже антитрадиций; эта модель была для них источником высокой эмоциональной силы, неся с собой прежде всего различные эгалитаристские императивы. Надо было поэтому отыскать иную, подлинно адекватную на сей раз, методологическую основу – в виде синтеза редукционистского подхода (манифестирующегося в только что названных мною понятиях – «расовый дух», «экономика» и т. п.) и других, воистину глобальных и по форме своей и по сущности. Крымский, уже вследствие особенностей своей натуры – интравертивной, с вечно напряженной эстетической доминантой, – смог острей других ощутить очарование мощной и полиморфной динамики той истории, в центре которой стоит Человек, вне зависимости от его этнических и конфессиональных одеяний – Истории, – где есть и бесцельно-хаотический порыв; – и явственно предвидимые, ибо они рождаются под воздействием одних, и только одних, неизменных, как мир, причин, строго-целенаправленные деяния; – и такие принципиально непредсказуемые, с изначально амбивалентной онтологией, потенции, которые, реализуясь, способны неожиданно и фундаментально изменить судьбы всего земного шара. И если посмотреть на совокупно-исламоведческое наследие Крымского именно с этой точки зрения, то нетрудно будет убедиться, что он все время пытался сделать ключевым представление о самодостаточности и замкнутости внутреннего мира мусульман – или, если уж говорить наверняка, их наиболее интеллектуально и психологически рафинированных единоверцев, с неординарной интенсивностью переживающих уникальность своего духовного опыта, своего бытия, своей судьбы. Эти люди – и сам Мухаммед в дни его мучительных поисков Божественной Истины, и вдохновенные персидские поэты, и гениальный, наверное, Газали, и, конечно, все те, кого Гольдциэр называл «истинными суфиями». Поэтому столь часты у Крымского такие категории, как «страдание», «отчаяние», «сомнение», – категории, доселе бывшие в ведении психологии и отчасти теоретического религиеведения, но под пером Крымского ставшие теперь определяющими в онтологической структуре жизнедеятельности духовной элиты мусульманской цивилизации. А этот решительный поворот в сторону подчеркнуто-ндивидуального жизненного мира потребовал и новой, неакадемической (что, замечу мимоходом, особенно резко бросается в глаза при сравнении работ Крымского с предельно сухими, как правило, бартольдовскими трудами) формы, а именно – приоритета не теоретико-абстрактного схематизирования (благо оно-то никогда не было, напомню, сильной стороной ни одного российского исламоведа), но – обладающей высокой эмоциональностью историко-художественной прозы, которая оказывает сильное суггестивное воздействие отнюдь не философскими генерализациями или своеобычной терминологией, а мастерством эффектного описания конкретных ситуаций и умело подобранных исторических персонажей. С задачей подобного масштаба и сложности Крымский справился блестяще: многие страницы его исследований (или, если называть вещи своими именами, – великолепно изготовленных компиляций) и сегодня еще можно перечитывать как образцы хотя и не первостепенного, но все же серьезного, художественного дара. Как и весьма почитаемые и сильно на него повлиявшие авторы – такие, как А. Шпренгер и Р. Дози, – Крымский сумел чутко прислушаться к коловращениям страстей человеческих и запечатлеть их так, чтобы буквально каждому читателю стало ясно, какими сложнейшими явлениями были и рождение и последующая динамика ислама. Но буквально за всем следящий и все быстро адаптирующий5 Крымский в должной мере освоил и методологические достижения двух других великих «шейхов исламоведения» – Гольдциэра и Снук-Хюргронье – и потому в своих работах о первоначальном мусульманстве, например, он: – пристально всматривается в ту деформированную картину реальных происшествий в Аравии конца VI – начала VII вв., которую создали их действующие лица и современники; – указывает на связи между социальными и политическими отношениями в этом регионе, с одной стороны, и их «перекодировкой» в ритуалы, символы, мифологические комплексы, корпус сунны и коллекции хадисов, в прочие базисные сакральные и квазисакральные тексты. Я уже обращал внимание на искренние симпатии Крымского к мусульманскому мистицизму в его суфийском прежде всего ответвлении – симпатии, совершенно, так сказать, закономерные для всех тех, кого природа наделила интуитивистско-экзальтированной натурой эстета, – и, значит, тем, что Макс Вебер назвал «религиозной музыкальностью». Если быть точнее, то в подобного рода случаях нам являет себя деистическо-пантеистический по сути своей настрой, означающий преобладание и «личной веры», и мотиваций персоналистской субъективности, а одновременно – и слабую приверженность к традиционным узкоконфессиональным формам мировосприятия, и признание понятий «сакральное» и «секулярное» как радикально различных, сосуществующих лишь в стадии постоянного конструктивного конфликта и плодотворного напряжения. Целесообразно, по-видимому, напомнить здесь о том, что, как и на Западе, в России конца XIX – начала XX вв., рос интерес некоторых представителей культурной элиты6 (в том числе, разумеется, и профессиональных востоковедов7) к суфизму (а в еще большей мере – к буддизму, индуизму, бехаизму), вследствие разочарования в господствующих, христианских, догмах и морально-конфессиональных кодексах и, соответственно, поиска мировоззренческих вдохновений и нравственных идеалов в философско-религиозной мысли и Индии и Ирана (как очередного, хотя и «неполноценного», репрезентанта «арийского духа»)8. По Крымскому (имеется пока в виду его написанный в 1896 г. «Очерк развития суфизма до конца III века гижры», опубликованный в «Древностях восточных» – Ч. II. 1896. Вып. 1), «общечеловеческий интерес» имело прежде всего то обстоятельство, что суфизм наложил печать на «общественное сознание» мусульман, их философию, этику, литературу, на осмысление средневековым миром ислама понятия свободы. Исходя из анализа символики, сопутствующей этому понятию – лилии (символ чистоты) и кипариса (символ пренебрежения к земному), – Крымский делает вывод, что для «восточного человека»9 идеал свободы – «спиритуалистический, суфийский»10. В таком толковании он, этот идеал, категорически разнится от модерново-западного – что Крымский, конечно, вполне сознавал. Но, полагаю, права и И.М. Смилянская, обращая внимание на известное сходство суфийского понятия свободы с тем идеалом внутренней духовной свободы, который в конкретном историческом осмыслении отвечал нравственным и философским исканиям определенных слоев русской интеллигенции11 и нашел отражение у Льва Толстого и Федора Достоевского (роман которого «Братья Карамазовы» значительно повлиял на Крымского). Крымский отдал дань этим поискам12 – в особенности в своем поэтическом сборнике с таким любопытным названием: «Вариации на свои и чужие темы. Из прелюдии к неавтобиографическому мистико-аскетическому циклу “Книга одиночества”»13. Но сделать суфийские и «интеллигентско-российские» особые замкнутые идеально-утопические миры духовных ценностей «системой сообщающихся сосудов»14 мог всего результативней тот, кто уже «от природы» был предрасположен к перманентным выходам за рамки европоцентристской – да и любой иной – структуры стратегических культурных координат, кто не был заворожен обилием и четкостью фетишизированных дихотомических антитез, – т. е. тот, кого следует счесть «подлинным художником (der echter Kiinstler)». С уверенностью заявляю, что ни один из российских коллег Крымского не обладал столь богатым художественно-творческим началом, тем самым, которое сливает в нечто всегда привлекательное – пусть даже обычно крайне спорное – образы подлинные и воображаемые15. У Крымского – как и у Шпренгера, Дози, Ренана – взаимодополняли друг друга «мифос» и «логос», правое и левое полушария головного мозга. А это значит, что он, стремясь активизировать инновационные возможности исламистики, в какой-то мере объединял регистрирующую и наблюдающую позицию ученого-позитивиста, эмпирически исследующего налично-бытийные структуры, с артистизмом «художественного оформления»16 исторических фактов, бурным потоком льющихся со страниц его бессчетных работ, самых разнообразных и притом вовсе не ограничивающихся ориентальными проблемами17. Я, правда, не совершенно убежден в том, пошла ли на пользу Крымскому его попытка снять противостояние этих двух типов осмысления бытия. Скорее наоборот (и далее я вновь затрону эту тему): из него не вышло ни первостепенной величины Ученого, ни выдающегося Художника, что в очередной раз свидетельствует в пользу тезиса о конечной несовместимости18 механизмов художественного творчества и логического мышления19. И все же, как бы то ни было, перед нами – редкостный в истории европейской исламистики пример того, как уже сами по себе чисто биологическо-индивидуальные спецификации «объективно» работают на замену старомодной культурной оппозиции Запад – Восток каким-то новым целостным миропониманием, утверждающим, говоря словами Велемира Хлебникова, «всеобщую солидарность вещей»20. Эти эпистемологические интенции давали возможность находить организацию внутри беспорядка; благодаря им удавалось – Крымскому в том числе – показать, что кажущиеся совершенно отличными культуры бывают нередко подобны русским матрешкам: они имеют одинаковую конфигурацию при больших и малых масштабах. Конечно, Крымский был и всегда оставался приверженцем христианства. Сравнивая его с мусульманством, он выдвигает на первый план мысль о том, что «коранический бог»21 менее всего похож на «нежного, любвеобильного Бога христианского»22. Столь же показательно, что Крымский хвалит известного защитника ислама, петербургского ахунда А. Баязитова за то, что тот «дает мусульманскому учению о предопределении такое истолкование, которое совпадает с христианским учением о божественном предопределении и не страдающей от этого свободной человеческой воли»23 и т. д. Но в целом Крымский – подобно, например, всегда им чтимому Гольдциэру24 – нередко ставит во главу угла мысль о благости Религии вообще, независимо от ее конкретно-эмпирических воплощений. Согласно Крымскому, «в религии, в вере человек ищет успокоения от сомнений и скептицизма, которые гложут его душу, и религия плохо удовлетворяла бы своему великому назначению, если бы не давала ответов на мировые запросы прямым, аподиктическим образом»25. Как и Крем ер, Шпренгер, Гольдциэр и многие другие западные – да и русские – светские исламоведы, Крымский: – делает упор на том позитивном, что внесла этика ислама в социокультурную жизнь и Аравии26 и других, ставших адептами этой религии, «совсем грубых народов»27; – сожалеет, что «на беду для ислама его сладострастие бросается резко в глаза и заслоняет от наблюдателя такие /его/ положительные качества, как логическая удобопонятность, отсутствие неправдоподобных, неестественных верований»28; – считает (опять-таки как, скажем, Гольдциэр29) несущественным вопрос о степени оригинальности ислама»30; – не сомневается в искренности стремлений ислама к «великой реформе» в сфере нравственности»31 и т. д. У Крымского находим, наконец, и такое очень любопытное признание: «… в первые годы моих занятий востоковедением Коран наводил на меня томительную скуку, какая вообще является при чтении поэтов третьестепенных; отдельные искорки поэзии не вознаграждают за ту водянистую риторику, которая преобладает в целом». Заметив, что коранические суры значительно уступают в художественно-смысловом отношении творениям ветхозаветных пророков, Крымский, однако, далее вносит совершенно другую тональность. «…После того, – пишет он, – мне пришлось много вчитываться в историю Мухаммеда и освоиться с его психологией, пришлось долгое время жить среди арабов на Востоке и часто слушать благоговейное чтение Корана в мечети, среди торжественной, возвышенной обстановки, – и в результате оказалось, что незаметно для себя я Коран прямо полюбил: когда читаю его, то испытываю удовольствие, с каким, например, читаешь произведение симпатичного и близко знакомого человека, хотя бы это был талант довольно дюжинный… Мне кажется, что чувства арабиста в этом отношении близко подходят к чувствам верующего мусульманина»32. Это во многом очень верное наблюдение – хотя, конечно, относящееся далеко не ко всем арабистам и исламоведам33 – позволяет, в совокупности с другими, уже обрисованными мною мыслями Крымского, понять, как он, оставаясь и европо– и христианоцентристом, твердо верящим в необходимость для мусульман и политического и особенно культурного владычества Запада34 (в т. ч., конечно, и России), стремился все же свести «многое к единому»: бесконечные видимые изменения какой-нибудь одной религии и всех остальных – к какому-то постоянству, к определенной униформности на более глубоком уровне. Я не сомневаюсь в том, что такая эпистемологическая стратегия обусловлена верой (пусть и не декларируемой, пусть даже самим автором ясно несознаваемой) в наличие универсально-мистической субстанции. Эта вера позволила Крымскому не только понять многие аспекты ее мусульманской разновидности, но и смоделировать громадную роль последней как в порождении турбулентности духовной жизни исламских социумов, так и, с другой стороны, в кристаллизации в ней довольно строгих «схем порядка» (сколь бы ни казался он, Порядок, диаметрально противоположным тому «эзотерическому, феерическому, неистовому, безумному», что всегда сопрягается с категорией «мистическое постижение Бога»), Однако и у Крымского мусульманский Восток исполняет преимущественно функцию зеркала, фокусирующего в себе все российско-генные страхи, все чужое и чуждое европейско-русской ментальности как таковой. Поэтому его «психограмма» исламского мира не только не смогла преодолеть эвристический разброд в российской исламистике, но, напротив, сама же ему значительно способствовала. Впрочем, такого рода ситуации кажутся вполне типичными для всей русской культуры с ее вечной иллюзией обновления; в ней один за другим возникают, сменяя друг друга, авангардизмы, которые на самом деле лишь демонстрируют свой неизменный архаизм. Отсюда и неизбежное смешение различных понятийных систем35, их фактическая взаимоидентичность – или, по крайней мере, концептуальный параллелизм, что в целостном действии своем не вело к максимализации роли Случайности в историческом движении. И это понятно – «случайность» надо обязательно связать с таким порождающим ее источником так называемого «петербургского», императорского периода истории русской культуры, как «жажда личного успеха, самоутверждения, игра личности с обстоятельствами, историей, целым, законы которого остаются для нас Неизвестными Факторами»36. В довольно существенной степени сказанное относится и к жизненным путям тех, кто создавал российское профессиональное исламоведение и, движимый честолюбивыми амбициями, вовлеченный в суровую «внутривидовую» борьбу, жаждал оснастить себя как можно более импозантным и эффективным идейно-символическим арсеналом. Но побеждал в этих профессиональных схватках тот, кто наилучшим по тогдашним критериям образом смог воспринять новейшие плоды творчества своих западных коллег, кто, следовательно, быстрее, чем его соотечественники, преуспел в «гонке за лидером». Этим лидером заданные мыслительные – и сопутствующие им терминологические – парадигмы стали и в России общим фоном не только так называемой академической исламистики, но и расхожей журналистико-публицистической практики. * * *И здесь я имею в виду в первую очередь сравнительно широкий наплыв и в научную и в массовую литературу вариаций на тему о решающей роли расовых – «арийских», «семитских», «тюркских» – субстратов в судьбах мусульманского Востока. Мне уже приходилось писать о том, что было бы принципиально неверным счесть период торжества объяснительных моделей, видящих в понятии «раса» структурообразующий фактор, досадной аномалией в истории исламистики. Напротив, он привнес с собой немало и эмпирических и теоретических приращений37. Я хотел бы добавить и следующее: в тогдашнем историко-культурном контексте акцентирование расовых категорий было значительным шагом на пути активизации того процесса, который можно назвать «фундаментализацией исламистики». Под таковым надобно понимать не просто обогащение методологического и методического фондов этой научной дисциплины: одновременно и, главное, резко повышаются ее когнитивные возможности. Суть данного эпистемологического явления как раз и состоит в переходе Научной Исламистики от одного уровня теоретизации (описания) к другому, более высокому (объяснению) – сколь бы ни казался он зачастую умозрительным, ярко субъективистским, противоречивым. Уже само по себе введение в теоретический и символический остов исламистики понятия «арийский (семитский, тюркский и т. д.) дух» придавало ей качественно иное – в сравнении с той историографией, которая вдохновлялась унифицирующими, в основном транснациональными и трансрасовыми идеалами эпохи Просвещения, – методологическое измерение. Подчеркнуто-редукционистское по своему характеру, оно ставило задачей нахождение изначальных и первичных компонентов Pax Islamica в виде принципиально несводимых друг к другу различных связанных с понятием «раса» специфических интеллектуально-психологических комбинаций. Каждая из них неделима в силу своей и ахронной и алокальной и аконтекстуальной, жесткой однозначности, т. е. внутренней однородности и отсутствия возможности ее расчленения. Уже на примере Э. Ренана, А. Шпренгера, А. Кремера и Т. Нёльдеке, самым интенсивным образом начавших включать в исламоведческо-познавательный процесс дихотомию «арийско-семитский (а впоследствии и понятийную триаду – «арийский – семитский – тюркский») дух», можно было убедиться в том, что эта категориально-эпистемологическая новация придала концептуальный смысл и теоретическую интерпретацию огромному скопищу реальных (и полуреальных) сведений о таком, скажем, событии, как генезис ислама. Первоначальный ислам стал пониматься как инструмент утверждения уникально-семитских норм и ценностей, господствовавших в арабском обществе и поддерживавших его и социальное и культурное и даже эмоциональное равновесие. Стало поэтому возможным представить и нововозникшее мусульманство и мекканско-мединский континуум как взаимоконституирующие сферы, скрепленные друг с другом посредством различных процессов обратной связи. В центре внимания, таким образом, оказался не столько креативный, сколько репродуктивный аспект функционирования новой, исламской, системы. Ислам же предстал как своеобразный регулятор отношений – не только групповых и межличностных, но и, прежде всего, между индивидом и обществом. Исходным в данном случае оказался принцип «гомеостаза» – сохранения, постоянства социокультурной стабильности, поддержания status quo. В основе такого подхода лежит, соответственно, взгляд на общество как на саморегулирующуюся систему, в интегрированном механизме которой религии принадлежит весьма важный статус гибкого и динамичного посредника между действующими внутри этой системы разными политическими и культурными силами, способного привести их к некоему общему знаменателю – или, по крайней мере, к состоянию равновесия. В конце концов в социокультурно-историческом плане ислам в понимании носителей расовых теорий стал выступать исключительно как средство, а не как цель развития любого (не только арабо-семитского, но и персидского, тюркского и т. д.) подразделения мусульманской цивилизации. Как видим, анализируемые здесь теории можно оценить и как блокатор идей о возможности радикального прогресса – а тем более тотального изменения – исламских социумов38. Возобладало – неизбежное для любого редукционизма – крайнее упрощение исследуемого материала. Само по себе необходимое на эмбриональном этапе эволюции профессиональной исламистики стремление: – вырвать те или иные объекты исследования («ислам времен Мухаммеда»; «арабо-семитский ислам в целом»; «арийско-иранский ислам»; «тюркский ислам» и т. п.) из их реальной, сложной, диалектически-противоречивой взаимосвязи; – изолировать их («только на время»!) друг от друга; – сделать их (но опять-таки – «лишь на определенный период»!) самостоятельными с целью наивозможно тщательного изучения, – вылилось в жонглирование деструктивными для политических судеб многих (и в первую очередь – тюркских и семитских) этносов априориями и штампами, укрепило в элитарном и массовом сознаниях убежденность в наличии «высших» и «низших» рас и, значит, реставрировало в ценностных системах европейских культур высокие позиции замкнутой модели мира с явственной онтологической иерархией. Лишить эту модель приоритетной значимости не смогли – ни у Ренана, Шпренгера, Кремера, Нёльдеке, ни у такого их российского последователя, как Крымский, – и постоянные апелляции к либералистским доктринам. Им не удалось стать успешным конкурентом красной нитью прошедших через творчество этого плодовитого и темпераментного автора самых разнообразных расистских деклараций и сентенций и даже гневных, вулканизирующих немусульманское общественное мнение, тирад. Не раз говоря о «принципиальном эклектизме» Крымского, об изначально заложенной в его трудах массивной противоречивости, об отсутствии у него единой стержневой методологии, я все же одновременно считаю необходимым уточнить, что в какой-то мере он был и «монистом» – именно вследствие своего неприкрытого поклонения расовым и, более того, расистским воззрениям. Они не только оттесняли на задний план те гуманистические импликации деистическо-пантеистических предрасположенностей Крымского, но и – хочу вновь подчеркнуть это обстоятельство – представляли собой не вспомогательные и регулятивные конструкции, а фундаментальные и основополагающие структуры, цементирующие если и не все, то значительную часть мировоззренческого кредо Крымского. Они, наконец, перекидывали мост от собственно Исламоведения к соответствующему анализу Крымским культуры и прочих сфер духовной жизни мусульманских обществ. Вследствие этого и у него регулятивным принципом научного творчества (или того, что выступало как его субститут) стал поиск весьма спекулятивных, лишенных глубоких и самоочевидных оснований, аксиом, не допускающих к тому же переконцентрации внимания с них на задачу созидания концептуальных систем, куда более релевантных свершавшимся к концу XIX – началу XX вв. эпистемологическим и методологическим мутациям. * * *Здесь, впрочем, дело не в одних только личностных симпатиях и антипатиях Крымского, а в том, что вообще в истории всей российской науки с явно излишней быстротой возникали такие ситуации, когда в центре ее интересов оказывались самые разные аспекты политики, этики, морали, как правило растворяя в себе сциентистскую проблематику39, нередко определяющим образом влияя на преобразование и переориентацию методологических установок. И несомненно, политическими в первую очередь соображениями руководствовался Крымский в своих систематических нападках не столько даже на ислам и мусульманскую цивилизацию в целом, сколько на такой мощный отряд ее, как тюркские народы. Очень важно при этом учесть, что сам-то Крымский не был ни правительственным чиновником (вся жизнь его – это жизнь подлинного подвижника науки40, аскета, томимого постоянными внутренними сомнениями41), ни официальным или официозным идеологом42, ни тем более великорусским шовинистом, ибо сам-то он стяжал себе широкую известность как украинский националист43. Весь дореволюционный период Крымский оставался профессором Лазаревского института восточных языков и Московского университета44 и сотрудничал в многочисленных русских и украинских далеких от консерватизма издательствах, газетах и журналах, вовсе не стремясь к большему. В качестве научной дисциплины российская исламистика к концу XIX – началу XX вв. стала превращаться (в основном, как помним, благодаря усилиям Виктора Розена) в некое «интеллектуальное предприятие», в котором эволюционизируют идеалы, цели, проблемы, концепции и объяснительные процедуры, с одной стороны, и с другой – реализующие их коллективы ученых (преимущественно профессионалов, но также и примыкающих к ним энтузиастов-дилетантов), – со своими организационными формами, престижными паритетами, авторитетами, групповыми и личными амбициями, институтами, организационными штатами с фиксированной сетью институциональных связей, формами поощрения и т. п.45. В этом «интеллектуальном акционерном обществе»46 Крымский отнюдь не считался ретроградом. Напротив, он порой был даже куда радикальнее – преимущественно из-за своей украинско-националистической ориентации47, – чем Розен или Бартольд48. Без малейшего лицемерия Крымский проповедовал максимальную толерантность и рьяно выступал в поддержку тех, кто представлялся ему ее реальным носителем49. Но причислять его к приверженцам «интернационализма»50 было бы просто-напросто кощунственным – несмотря на такие с умилением перечисляемые биографами Крымского черты его характера, как «мягкость, искренность, правдолюбие, доверчивость»,51 и бесконечные упоминания о его «демократизме»52, его озабоченности (слова самого Крымского) «экономическим и интеллектуальным прогрессом» широких масс народа, «развитием среди них свободной современной мысли»53 и т. п. К чести этих же биографов надо отметить, что так или иначе, но они вынуждены признать: общеисторические суждения Крымского «не были оригинальны и не содержали принципиально новых идей»54. Данный факт55, впрочем, не снимает задачи внимательного анализа творчества Крымского как одного из важных элементов всей той системы, которую можно назвать «Российское исламоведение», – в свою очередь составлявшую часть метасистемы «Мировое исламоведение конца XIX – начала XX вв.». Каждый элемент этой системы (и, соответственно, метасистемы) таит в себе активную специфическую неоднородность. Он не только специфичен сам по себе и с трудом вступает в какую-либо постоянную и однородную связь с другими элементами, но как бы заряжен их неоднородностью; он их потенциально в себе содержит и интенсивно их выявляет; они составляют его своеобразную валентность. Повторю, что в исламоведческом наследии Крымского можно найти и отражение множества других составляющих – в том числе действительно либералистских и толерантных – элементов Системы и Метасистемы, и попытку перенести в российскую действительность такой их же компонент, как расизм56, гносеологические, культурологические и особенно политологические основания и импликации которого отличаются воистину уникальной стабильностью57. * * *Как я пытался показать в предшествующих главах, уже и до Крымского в российской литературе об исламе – и не только в непрофессиональной, но и в той, которую создавали специалисты: – расовый (и расистский) подход уверенно пробивал себе дорогу, особенно в ходе прогрессирующего упадка в общественном мнении авторитета возвещаемых христианских универсалистов (и, следовательно, начисто элиминирующих роль биологических факторов) ценностей и устремлений; – налеты на миссионерскую исламистику (которая сама, впрочем, не раз поддавалась соблазну интерпретировать мусульманство по расовым и даже расистским критериям) сопровождались если и не всегда активизацией, то по крайней мере консервацией расистских по сути своей формулировок; – даже если они и не сплачивались в жесткие структурные каркасы, то все равно создавали тот смысловой микрокосмос, который становился существеннейшим ориентиром и регулятором не только индивидуальных, но и групповых исследований как о «своих», так и о «чужих» мусульманах58. Но Крымский придал расизму новые концептуально-семиотические ресурсы, новые объяснительные, а также пропагандистские и контрпропагандистские модели, невиданный доселе в среде т. н. академического востоковедения агрессивный и злобно-полемический стиль – и значит, мощный уничтожительный потенциал и наивозможно большой радиус действия. Как бы ни декларировал Крымский свою отстраненность от политических актуальностей, все-таки провозглашенная им острая и броская антитеза Европейско-русская культура/Мусульманско-тюркская опасность была в большой степени следствием тревоги по поводу растущей дробности российского общества, его насыщенности социальными, конфессиональными, этническими, расовыми конфликтами, усиления в нем роли исламских общин и их все более интеллектуализирующихся прославителей и охранителей. Я склонен полагать, что и Крымский, и многие другие современные ему российские исламоведы при всей своей мыслительной гибкости, немалых, наконец, эмпатических способностях – не говоря уже о том, что они обладали значительными и общекультурными и высокопрофессиональными знаниями, – в своем отношении к мусульманству (и прежде всего – к отечественному) в общем и целом не поднялись выше «среднего уровня», того, что именуется Homo Russicus. А он если отчасти и приобрел какие-то навыки прагматического взаимодействия с Азиатом (и любым иным Чужаком), то не желал всерьез воспринимать его внутренний мир; он не замечал – и не хотел замечать – связи вопроса о собственных правах и свободах с проблемой предоставления прав и свобод своим «младшим братьям»59. Этим русская стратегическая мысль лишала себя возможности осознать, что прошлое, настоящее и будущее громадного многонационального Государства Российского не являются замкнутыми, ни статичными, способными в ходе своего развития (или – по отношению к прошлому – фундаментального переосмысления) постоянно перестраиваться и перекраиваться от вершины до истоков и оснований. Одним из результатов таких монотонных установок было то, что и русская исламистика – особенно те ее сферы, которым предназначено было изучать отечественное мусульманство, – не могла стать в полной мере мультипарадигматической и мультивариативной. Более того. Ограничив свой эмпатический, она соответственно лимитировала и возможности своих же «феноменологических описаний» действующего иноверческого, мусульманского, индивида с точки зрения самого этого индивида и в для него привычных терминах60. Но примем здесь во внимание и то, что, если бы русская исламистика запустила вдруг на полную мощь эти «феноменологические описания», все равно они были бы недостаточны для достижения наиболее, наверное, полного – во всяком случае, в те давние времена, – т. е. социологического, анализа российского Homo Islamicus. Поэтому-то вставала серьезная потребность в соответствующих абстракциях и формализациях – в чем, напомню вновь, и Крымский и его предшественники и современники и даже их продолжатели никогда не блистали ни самобытностью, ни мастерством. Предположим, однако, опять нечто в общем-то немыслимое: русская исламистика стала интенсивно пользоваться абстрактно-формализованными схемами и конструктами. А ведь они-то неизбежно обусловливают видение «другого», мусульманского, общества как постоянно-автономной, вне и независимо от индивида (и не только покоренного мусульманина, но и от завоевателя – русского!) существующей структуры, чуждой этому «непосредственному деятелю». Отсюда – преувеличение масштабов эффективности и прочности стабилизационных механизмов мусульманской цивилизации в целом (даже тогда, когда Крымский и другие исламоведы стали подчеркивать ее гетерогенный характер) в ее абстрактно-жестком и признаваемом варианте, наиболее адекватном созданной европейско-христианской ментальностью идеальной модели ислама как такового. Отсюда – и отведение девиантным группам и индивидам в мусульманских социумах либо статуса случайных, транзиторных феноменов, либо, всего чаще, подведение даже их под пугающую господствующий, русский, этнос рубрику – «сильный, грозный (или: «все еще грозный») мусульманский мир»61. Никак, следовательно, не удавалось создать динамичную процессуальную модель духовной жизни империи, в которой ударение делалось бы на необходимости поиска форм взаимодействия образующих ее этноконфессиональных коллективов, а не на описании в традиционно-негативных тонах инохристианских и инорусских культур, религий и других социальных организмов. Русское профессиональное обществоведение – в том числе и исламистика – никогда бы не согласилось на то, чтобы именно познавательные, аксиологические и инструментальные аспекты какого-либо нехристианского, в частности мусульманского, мировоззрения рассматривались как одна из равноценных основ типологии всевозможных разновидностей человеческого бытия. А значит, оно, это профессиональное обществоведение, никогда не смогло поставить в центр своей рефлексии жизненно необходимый для каждого полиэтнического государства образ взаимодействия как автономной системы. Последняя несводима к сумме множества образующих ее индивидуальных и групповых взаимодействующих действий. Напротив, она представляет собой целостность со своими законами, не зависящими от онтологической природы входящих в нее элементов62. С другой стороны, эта же самая твердо антиплюралистическая линия – линия на запрет бесконечной альтернативной игры контрарных конфессио– и культуроидеологий – привела к совсем обратному результату: в базис грядущих форм общероссийской динамики закладывались трагедийные неопределенность, несбалансированность, обреченность на вибрирование в апокалипсических темпах и потрясениях. Само собой очевидно, что в результате резко снижалась действенность и средств интериоризации, – преподносимых в качестве единых для всей империи идеалов, – русско-христианских (или «европейских») ценностей и детерминантов прочих механизмов, для империи же в целом сконструированных, интегрирующих и координирующих ее. В спресованные катаклизмами последние перед падением царизма годы стало появляться все больше и больше довольно перспективных программ решения клубка межнациональных – и опять-таки прежде всего связанных с исламом – проблем. Но было уже поздно: «Те системы символизации, которые накрепко связали себя с такими понятиями, как «Восток», «Азия» или «Ислам», – в конечном счете, оказались столь упрямыми и неуправляемыми, что поработили даже своего творца – российско-православную культуру. Ибо последняя, в конечном счете, утратила способность саморазвития в тех специфических условиях, которые требовали налаживания таких гибких и стабильных межрегиональных и межконфессиональных отношений, что могли бы варьироваться и регулироваться соответственно историческим потребностям»63. Но и русская художественная литература – как, впрочем, и публицистика и мемуаристика – дает изобилие примеров того, что целый ряд прямо связанных с категорией «Мусульманский Восток» слов сохранял презрительно-экспрессивное, как правило, значение, особенно в сознании низших слоев, наиболее подверженных воздействию ксенофобской и воинствующе-православноцентристской пропаганды. Стремление депоэтизировать, деромантизировать Азию (и далеко не всегда – «только нехристианскую Азию»!) влекло за собой приток устрашающе-клишированных представлений о ней – будь то у Александра Пушкина64 или у Антона Чехова65. У последнего термин «азиатчина» предстает олицетворением самоупоенной дикости и невежества, полнейшим антиподом подлинной, т. е. европейской, культуре. Она – и безыдейность, какими бы красивыми фразами или изысканными философскими аргументами ни прикрывалась; она – и тупой конформизм, дряблость, деструктивное безразличие и прочие пороки66. Недаром поэтому Максим Горький особенно горячо призывал избавиться от «азиатского пессимизма», захлестнувшего, как ему представлялось, литературную среду страны67. Даже славянскую веру в «судьбу», приравненную им к классическому фатализму, Горький счел «азиатским наследием»68 и в скорейшем избавлении от него видел великую возможность создать в России подлинно гуманистическую жизнь. Как видим, не только правые, но и левые69 круги рьяно распространяли и развивали далее стародавнюю (и вовсе не одной только культурной элитой сохраняемую) традицию70 отрицательных оценок нехристианской Азии, стремясь будоражить массовое сознание эмоционально значимыми для него эпитетами, связанными с нею, – и в первую очередь с Азией мусульманско-тюркской71. Словом, Крымский и в этом отношении имел немало авторитетных единомышленников (включая сюда воинствующе-миссионерских идеологов72 – при том, что они в общем-то недоверчиво относились к питомцам Петербургского университета и особенно Лазаревского института73, в котором так многогранна и значительна была роль Крымского). 2. Крымский: расовые теории как превалирующая исследовательская парадигмаК концу XIX – началу XX вв. становилась все очевидней несостоятельность теоретико-объяснительных схем старых исламоведов74, согласно которым мусульманский мир – и прежде всего его религия – органично не способен: – к сулящим успех вариациям; – к действенным реструктурированиям; – к умению генерировать новые сгустки опыта и новые же стратегии восприятия как собственных, так и инокультурных реалий, в ходе диалога внутри него же, этого мира, рожденных, но взаимопротивопоставленных, направлений; – к более или менее постоянной «перекачке» в свой духовный резервуар наиболее ценных достижений других, европогенных в первую очередь, цивилизаций и т. д. Благодаря историко-эволюционистскому направлению в лице И. Гольдциэра и X. Снук-Хюргронье75 удалось если и не окончательно снять, то, во всяком случае, значительно ослабить76 образ исламского Востока как омертвляющейся зоны, в которой жизнь обрела такие закостенело-устойчивые формы, что не только перемены, но даже случайности кажутся маловероятными и нежелательными и где силы инерции будут преобладать неизменно, окончательно деперсонализировав человека и лишив его созидательных потенций. Под воздействием таких представлений и весь исламский ареал и те его сегменты, которые вошли в состав, например, Российской империи, стали восприниматься как обременяющая – и в социальном, и в политическом, и в нравственном аспектах – нагрузка. В главах о православной миссионерской литературе я приводил немало цитат из различных ее образцов и из работ других авторов на тему о том, какой тягостной проблемой оказались для судеб русского этноса интенсивно им захватываемые азиатские регионы, о том, что смысловые и ценностные ряды их культур не совпали, не совпадают и не будут совпадать с соответствующими рядами православно-русского духовного субстрата, даже тогда, когда он фундаментально европеизируется, толерантизируется, плюрализируется и т. д. и т. п. Мечте о том, чтобы этот субстрат всегда представал как могучий, несгибаемый дуб, а попавшие в имперскую государственную структуру «инородческие» социумы были бы чем-то вроде податливого плюща, гибко обвившегося вокруг этого ствола, – мечте этой не суждено было стать явью до тех пор, пока идеологи господствующей нации не перестали бы смотреть на другие этноконфессиональные организмы как на бомбы замедленного действия. Попробую описать тогдашнюю картину межэтноконфессиональных отношений посредством иных понятий и категорий. Уже с XVI в. – с эпохи Ивана Грозного77 – внутренняя жизнь России характеризовалась культурно-религиозным биморфизмом: «православные//инородцы» (иноверцы). С точки зрения идеальной модели функционирования и развития империи эти два блока должны были бы выступать как две специализированные системы, обеспечивающие общую устойчивость и надежность единой метасистемы (репрезентируемой лишь «единой и неделимой» российской государственностью): одна («инородцы») сохраняет ее консерватизм, другая (вошедший в лоно европейской цивилизации православно-русский этнос) берет на себя «оперативное управление»; одна гарантирует сохранение, другая – изменение. Православно-русская культура – это генерирующий эволюцию авангард империи. Он первым встречает натиск бесчисленных неблагоприятных факторов; на нем первом История ставит свои разнообразные эксперименты, ища и отрабатывая такие формы и механизмы, которые позволили бы государству не только уцелеть, но и по возможности совершенствоваться в новых, зачастую экстремальных, условиях. А поиски – это не только счастливые находки, но и ошибки, притом нередко самые что ни есть стратегические. «Инородцы» же следуют как бы в арьергарде, воплощая, как я сказал, «стабильность», – которая одним (особенно в конце XVIII – начале XIX вв.) казалась тормозящей прогресс всей страны, архаичным, тупым, невыносимым традиционализмом, другим (и прежде всего – Константину Леонтьеву) – той самой «мудрой стабильностью», в коалиции с которой можно будет не только спасти Россию, но даже добиться для нее статуса мирового лидера. Как бы то ни было, такая дифференциация обусловливала по крайней мере два фундаментальных по важности сдвига. Первый – по оси времени: арьергард отстает; авангард, пробуя и опережая, уходит вперед – то с досадной, по западным меркам, медлительностью, то, напротив, с какой-то явно аномальной быстротой. Второй – в пространстве, образуя как бы систему со стабильным ядром и подвижной, лабильной, оболочкой. И авангард и арьергард – каждый в своей роли – получают преимущества, хотя и вовсе не бесплатно: первый за свою «поисковую функцию претерпевает и физические и духовные страдания; второй же обречен – за свою «консервирующую функцию» – на многогранное отставание. Конечно, можно было сколько угодно философствовать на тему о том, что за сразу же кидающимися в глаза различиями между русско-православной и иноверческими ментальностями таится какая-то мерцающая глубина нерушимого божественного предначертания (что в России знаменитый киплинговский афоризм становился необыкновенно популярным —
Но не менее очевидной казалась и другая идея: если оба блока (системы) – русско-православный и «инородческий» (в т. ч. и мусульманский) дополнят друг друга78, то империя станет во много раз более жизнеспособной, чем тогда, когда она состояла бы из одних только «одинаковых» компонентов. Это понимали, помимо Леонтьева, и Евгений Марков, и ряд других – не только либеральных, но и ультраконсервативных – стратегов и тактиков. И тем не менее в дореволюционной России – даже в ее предсмертные годы – не произошло массовизации принципов «разнообразия и индивидуальности», как в корне несовместимых с единообразием и, следовательно, стагнацией. Препятствовали таким всеохватывающим трансформациям традиционно-превалирующие черты российского бытия – пассивность, сервилизм79, безразличие к праву и формам правления, стойкая приверженность к абсолютистски сформулированным постулатам, мифоконструирующим ключевым сигналам и символам80, в том числе и тем, которые то предавали анафеме, то в какой-либо иной форме, но столь же категорично отвергали то, что воспринималось как доселе Невиданное и Неслыханное. На всем протяжении истории развертывания русского – и элитарного и «народного» – «рефлекса на Чужака», на Инородца, на Иноверующего доминировала убежденность, что их культуры могут получить единство и субстанциальность лишь от культуры православно-русской, которая воплощает в себе Движущий Дух, но сами субстанциями не становятся. Верховодящая в империи культура и имманентна негосподствующим и трансцендентна им: «инородческие культуры в состоянии в случае необходимости реализовать (но только при условии, что и здесь православно-русская культура будет вести основную роль) функцию, так сказать, физического выражения духа православно-русского социума, но не его глубинное “Я”»81. И надо опять настойчиво подчеркнуть, что – за небольшими, в общем-то исключениями82 – и профессиональное востоковедение, столь часто любившее сетовать на тягость давящего его «синдрома империи», обычно смотрело на – отечественные в первую очередь – мусульманские реалии сквозь (применяя удачную терминологию J.C. Heesterman) «бюрократическую призму»83. Это значило, что упор надобно по-прежнему делать на возведении всевозможных преград рвущимся к равноправным статусам в общеимперской машине власти иноевропейско-христианским, мусульманским в том числе, национализмам. Я, наверное, дал уже читателю возможность убедиться в том, что и у наиболее либералистски мыслящих русских авторов многочисленные и нередко сильные эмпатические потенциалы не переходили, однако, в Диалог в точном смысле этого термина, что и у них упрямо вставали на передний план те понятийные и концептуально-семиотические элементы стародавнего комплекса представлений об исламе, которые предполагали любую рефлексию о нем в рамках оппозиций и противопоставлений. Я хотел бы поэтому со всей твердостью зафиксировать тезис, согласно которому ни методологически-методические и прочие инновации (конечно, иновации лишь «по местным стандартам») Розена или Крымского, ни даже бартольдовская монументальная реинтерпретация многих процессов мусульманской – в основном среднеазиатской – истории и ее взаимосвязей с историей русской не смогли кардинально изменить эту гносеологическую (а равно – и политологическую и культурологическую) аномалию («аномалию» – с позиций такой суперзадачи как сохранение и укрепление империи). У Крымского иррациональный страх пред той вновь угрожающей российско-европейско-христианской культуре опасностью, которая то явно, то скрыто содержится в исламе, особенно в его тюркских зонах, пересилил в конечном счете его же собственные универсалистские, эгалитаристские, толерантные и им близкие прорывы и с большей или меньшей настойчивостью открыто провозглашаемые установки. Надо далее отметить, что эти фобии, выливающиеся – во всяком случае, у такого живо реагирующего на треволнения дня профессионала, как Крымский, – в отыскание первостепенных конкретных воплотителей исламом рождаемых стрессов и деформаций для будущего России, означали, в частности, очередной повод к редукционистским процедурам. Ведь эту задачу можно переформулировать и так: идентификация наиболее болезнетворных «агентов» по-прежнему остающегося агрессивным Ислама, анализ их нынешних и предполагаемых действий и разработка эффективных средств их демилитаризации. Метафизический контекст данной исследовательской парадигмы очевиден: – «сумма» изучения отдельных частей такой метасистемы, как мусульманский мир, дает якобы точную информацию о поведении системы в целом; – проблемой являются именно эти болезнетворные «агенты» (панисламизм; фанатизм и «старого» и «обновленного» ислама, особенно в их тюркских разновидностях, и т. д.); – они, «агенты», несмотря на свою, казалось бы, медиаторскую функцию, есть на самом деле первопричина «исламской угрозы» для России, а не просто ее переносчики; – и поэтому: наилучший путь снять эту опасность – блокировать, нейтрализовать, скомпрометировать, обесценить те составные части мусульманской цивилизации, которые ее с наибольшей интенсивностью генерируют. * * *Я ранее предупреждал, что Крымский постоянно смещал фокусировку концептуальных установок, принимая все, пожалуй, принципиальные историософские и методологические точки зрения – в том числе, например, и ту, согласно которой «причины распространения доктрины суфизма сводятся к социально-экономическим причинам»84. Роль экономического фактора Крымский подчеркивал и при анализе истории зарождения ислама85. Но ни «экономизм», ни какая другая мета– или минитеория (скажем, так называемая миграционная, или «бродячих сюжетов», где сильно сказывалась ориентофильская струя86) никогда не занимали у Крымского постоянно-ведущего места – за исключением расовой. Он, пожалуй, сделал большее: превратил в ее филиалы87 и историко-эволюционные и прочие, сколько-нибудь авторитетные в ту пору направления, с успехом претендовавшие на высокие стандарты объективности и строгости. Последние, однако, нужны «экстремистской» разновидности расовых теорий только как манящая декорация; «мифическая мысль» не требует объяснения. Для нее существуют начальная и конечная ситуации (в нашем случае такие, например, как «специфика семитско-расового духа» и «основные особенности первоначального ислама». – М.Б.), связанные лишь с убеждением, что «одна возникла из другой… любые изменения могут быть легко объяснимы как два различных состояния, одно из которых произошло из другого не в результате рационально объяснимого процесса, а как трансформация, метаморфоза»88. Мы увидим далее, что именно так и получается у Крымского, когда он пытается исключительно дурным влиянием «тюркско-расового духа» объяснить цепь весьма печальных, по его мнению, событий на постмухаммедовском исламском Востоке. Эта – индетерминистская по сути своей – линия не противоречит стремлению Крымского через понятие «раса» найти в метаструктуре «Мусульманская цивилизация» регулярные, системные черты – и, значит, оценить ее как статичное в основном образование, набор признаков которого поддается сравнительно однозначному описанию и объяснению. Но ведь методологическое кредо историко-эволюционистского направления требовало – притом в качестве наиглавного – динамического подхода. А он предполагает междисциплинарность исследования и анализ большого числа параметров, сопутствующих реализации исламских норм, идеалов и ценностей и влияющих на их функционирование, вариативность, диффузию в самых различных пространственных и временных контекстах89. Мы сталкиваемся здесь со стандартным для истории исламистики противоречием – между тягой к описанию («статика»), в свою очередь базирующейся на вере в наличие непрерывной каузальной цепи в истории мусульманского мира, и попыткой поставить на первое место истолкование (=«динамика»). Как и остальные науки, исламистика – не чисто описательная дисциплина, – вернее, она не должна быть таковой; ее идеальная стадия наступит, когда она всецело займется истолкованием. Но спрашивается – возможно ли описание Ислама, который не пребывает в покое? Возможно, поскольку с него делаются моментальные снимки – несмотря на то что происходящие в нем процессы очень часто фиксируются произвольно и искусственно90. Подобные фиксации необходимы для науки. Но ограничивается лишь ими само это понятие – «наука»? Отрицательный – и в общем справедливый – ответ на этот вопрос может привести к такой (пусть и не всегда субъективно осознаваемой) крайности, как тенденция растворить исламоведение в «истории ислама»91. Между тем последняя будет иметь право на существование лишь тогда, когда термин «история ислама» станет пониматься в самом широком смысле, если «история» приравняется выражению «совокупность явлений». Не будучи до конца уверенным в том, что в жизни ислама испокон веков наличествовали многие из тех же процессов, что и теперь, исламоведение не сможет выбросить ни одного по-настоящему плодотворного «десанта в прошлое». Таким образом, то, что я назвал «каузальной цепью», не обязательно должно при объяснении «мусульманских феноменов» преподноситься только как закономерная их смена во времени: наверное, именно противопоставление в самом широком смысловом диапазоне «первичного» (т. е. заложенной еще Мухаммедом базовой модели «ислама как такового», вне зависимости от его последующих бесчисленных изменений) и «производного» (или «вторичного», существующего лишь потому, что «первичное» все же существует92) и надо связывать с «причинностью» и «объяснительностью». Однако неустранимый, по-видимому, «дефект» не только исламоведческой, но и всей человеческой логики, – это пылкое желание что-то обязательно «домысливать», вводя временное измерение в каузальность. Транспланировалось оно и в ту каузальность, которая казалась наиболее рациональной, четкой, готовой сразу же дать развернутые прояснения любой сложнейшей проблемы, ибо целиком исходила из априорной убежденности в «руководящей и вдохновляющей» роли расовых особенностей – «неизменяющихся», служащих ярчайшим символом и гарантом «стабильности». Но ведь исламоведение представляет из себя и науку телеологичную, т. е. направленную на грядущее: даже объясняя прошлое ислама, можно думать и о том, как выявленные здесь закономерности скажутся на будущем и этой религии и всего человечества93. Опять, следовательно, здесь – противоречие между телеологической (или, если угодно, футурологической) функцией исламистики и ей же имманентным пристрастием к возвеличиванию каузальных объяснений, объяснений нынешнего и будущего только «через предшествующие состояния». Дихотомия двух перспектив – «на будущее» и «на прошлое» – есть дихотомия синхронного и диахронного аспектов истории ислама, и осознание их заметно и у исламоведов конца XIX – начала XX в. Полагаю, впрочем, что уже тогда это противопоставление было в основном сбалансировано94 – не только Гольдциэром и Снук-Хюргронье, но и Карлом Беккером. Последнему пришлось и здесь испытать куда больше эвристических терзаний, чем его австро-венгерскому и голландскому коллегам, поскольку он, как известно, самым активным образом маневрировал расовыми категориями, т. е. тем, что уже по самой сущности своей предрасполагает к «каузальному видению» истории мусульманского Востока. Но Беккер понял, что если одни явления современного ему ислама могут получить в основном историческое объяснение (что не исключает тем не менее возможности их экспликации в синхронных терминах), то другие – и объясняются и эксплицируются чисто синхронно. У Беккера (я бы вновь подчеркнул – даже у Беккера) примарной оказывается все же динамика ислама (и им порождаемых других духовных образований), тогда как биологические (расовые, национальные) субстраты передислоцируются на второй план, и их силовые потенциалы не возводятся, следовательно, в статус всевластного демиурга. Я склонен предположить, что преобладание в беккеровской эпистемологии и прагматических и телеологических ^ «футурологических») интенций – интенций, задаваемых и развивающихся на основе в конечном счете строго рационалистических парадигм (при всем том, что Беккер, под влиянием неокантианской методологии95, делал демонстративные комплименты «субъективизму»96, «бессознательному» и т. п.) – ставило в центр исламоведческих размышлений автора «Der Islam als problem» прежде всего понятие «Целесообразное Действие» – (=Действие Намеренное, за которое совершающий его несет ответственность и которое реализуется в рамках норм и правил, существующих в данном социуме). А оно есть определенным образом упорядоченная активность человека – в том числе, значит, и Homo Islamicus, – которая противопоставлена активности бессознательной и инстинктивной, мощнейшими производителями которой как раз и являются все без исключения «расовые (национальные) характеры». Что же касается Крымского, то теоретико-объяснительная структура совокупности его воззрений на мусульманский Восток во многом отлична от беккеровской97; она примитивно одноцветна, стереотипна, одновременной мифологическо-индетерминистична и механистическо-каузалистична98. Резко отвергая к тому же путь для появления альтернативных академических исследований на тему «Взаимосвязь Ислама и Расы»99, она была не только, говоря словами знаменитого русского поэта Осипа Мандельштама, «торжеством голого метода (метода, уточню, очень противоречивого. – М.Б.) над познанием»100, но и вполне удовлетворявшим великодержавные эмоции «идеологическим лекалом», которое отрезало все, что выходило за рамки антиисламского штампа. Сразу же отмечу и то, что интерпретация Крымским действительно важных и теоретических и практических сюжетов, касающихся конкретной роли конкретных рас и этносов в прошлом, настоящем и будущем мусульманского мира, не велась в четко эволюционистском духе. А потому она и не позволяла представить «исламские инварианты» как функционально варьирующие в своей адаптации к специфическим социальным, природным и этническим (в том числе и расовым) условиям, признать (и детально их проанализировать) наличие таких особенностей, которые и сделали с точки зрения эволюции одни мусульманские народы более продвинутыми, чем остальные101. Но как бы ни были шатки эпистемологические основания его парадигмы, какой бы слабой ни была ее логическая концептуализация и, по крайней мере, сомнительны политологические импликации, Крымский, с присущими ему художественной яркостью и темпераментностью, защищает расистский императив и его многочисленные эквиваленты. * * *При всех своих украинско-националистических ориентацях, Крымский тем не менее всегда был убежден в благотворности – культурной прежде всего – миссии России (а шире – всей вообще «европейской цивилизации») для подпавших под ее власть мусульманских территорий102, где «от смешения старинного азиатского с вторгающимся европейским рождаются новые формы жизни»103. Эти новые, «синтетические», и старые, традиционно-исламские, формы бытия Крымский описывает не как плавно одни из других возникающие и вынужденные порою друг с другом сосуществовать, а как находящиеся в непрерывном движении и столкновении во многом разные культурно-семиотические структуры. Свои симпатии Крымский безоговорочно отдает тем из них, которые всего ближе соответствуют его собственному, европостремительному, идеалу – при всех тех эпизодических, преимущественно «стихийных», лишенных прочной методологической основы, отклонениях от такового в сторону ориентофильства, которые я анализировал в соответствующих разделах данной главы. Такая установка – свойственная, конечно, не одному только Крымскому – вела к любопытным семантико-семиотическим сдвигам в трактовке мусульманского мира. До того этапа, на котором началась массивная трансплантация европогенных политических и социальных институтов, культурных конфигураций и прочих атрибутов модернизационного процесса, структура в принципе казавшегося однородным по своей ментальности (вследствие нивелирующего этоса мусульманской религии) мира ислама в основном интерпретировалась посредством парных противопоставлений. В первую очередь я бы назвал такие, скажем, как: Османская империя/Персия; Городская среда/Номады и т. п. Эти противопоставления фиксируют корреляцию пространственных сфер, противоречия политические, социальные, в какой-то мере духовные (и прежде всего – внутриконфессиональные). Но подобного рода противоречия в общем-то казались ситуационными, внешними, не-глубококорневыми, не имеющими онтологически автономных статусов – ибо, повторяю, постулировалась единая в конечном счете интеллектуально-эмоциональная субстанция. Преувеличение роли общемусульманско-коллективной идентичности, а равно и исламских эгалитаристских императивов – в жертву которым приносились устремления к прогрессу, эффективности, самореализации индивидов, – не позволили понять, что в каждом исламском обществе ценности имеют содержательные и институционные особенности – и даже такие, которым, в силу действия каких-то еще во многом неведомых причин и условий суждена, наверное, вечная жизнь. Приток расовых теорий в западную (в том числе и в русскую) исламистику привел к большим изменениям в ее эпистемологической сфере. К сказанному мною же выше по этому вопросу добавлю следующее. Ни один из сторонников расовых (и расистских) теорий не отказывался от признания столь широкой описательной категории, как «Исламская цивилизация», посредством которой локальномусульманские общины преобразовывались на том же местном уровне, прочно воспринимая и усердно консервируя вневременной и транстерриториальный классически исламский «обязательный минимум» норм, ценностей, символов, идеалов и т. д. И потому, если рассматривать мусульманский мир как единый метасоциум, придется признать, что культура его едина. Но если сконцентрировать внимание на различных субсоциумах («миди» – и «микроуммах»), то та же самая культура предстает рядом своих уникальных воплощений. Разрешение этой антиномии возможно было лишь посредством деонтологизации категории «Мусульманская культура»104 – т. е. когда не было бы уже прочного прикрепления набора традиционно-связанных с ней представлений к определенным группам социальных коллективов («ревностно держащаяся ислама городская среда» – в отличие от «частично и квазимусульманских номадов» и т. п.). Но надо сказать, что для торжества социологической интерпретации Ислама сторонники расовых теорий ничего не сделали. Больше того: некогда справедливо обругав просветительскую историософию за ее абстрактно-генерализирующие схемы, они – вновь напомню эту свою мысль – сами же начали таковые активно конструировать и популяризировать, хотя и придавая им совсем иную тональность. Если просветительской – ультрахолистическо-монистской – историософии наиболее близкими оказывались (ибо «исламская ментальность структурно идентична всем прочим и потому не является онтологически расщепленной») парные противопоставления, то расовые теории обязательно предполагали длинную цепь бинарных оппозиций: Арийское/Семитское; Арийское и Семитское/Тюркское и т. д. Таким образом, во главу угла поставлена корреляция качественных (куда реже – относительных) признаков; оппозиции эти рисуются и как взаимонепроницаемые, даже тогда, когда олицетворяющие их культуры активно контактируют. И вообще у «креолизации» – как биологической, так и духовной – не видится никаких серьезных перспектив, за исключением разве что тех, которые ведут к дисбалансу в структуре наличных и потенциальных жизненных сил человечества. И когда порой наиболее благодушные апологеты расового подхода заговаривали о возможности появления в мусульманских ареалах межрасовой гармонии, все равно имелась в виду такая и только такая гармония, которая обеспечивается иерархизмом рас и этносов. На трактовку этих бинарных оппозиций детерминирующее влияние оказывали не только ариофилия и семито-и тюркофобия, но и – тесно, впрочем, с ними сопряженные – такие критерии, как близость (или отдаленность) той или иной расово-этнической единицы к главенствующим в европейской цивилизации ценностям, ее готовность (или неготовность) воспринять (отвергнуть) западные же научно-технические и прочие достижения и, главное, степень ее лояльности (нелояльности) к колониальной (или полуколониальной) власти105, которая, как думали тогда почти все, очень долго будет довлеть над мусульманством106. Бывало так, что симпатии (или антипатии) к какой-нибудь мусульманско-расовой общности – и, следовательно, переоценка ее статуса в расово-этнической иерархии – прямо обусловливались внешнеполитической конъюнктурой (это стало заметно, например, тогда, когда Германия и Турция стали союзниками в Первой мировой войне107). Но в конечном счете и ариофилия и семито-и тюркофобия оставались величинами постоянными (хотя даже «арии» – персы и индийцы – считались чем-то второсортным108 в сравнении с арио-европеискими их сородичами109). Та строго охраняемая иерархия, которую вводил комплекс расовых теорий (впрочем, их можно без малейших натяжек назвать короче: ариоцентризм), постулировала: Ариец – или его отрицательные антиподы, Семит и особенно Тюрок, – выше, – (ниже) прочих не потому, что он прогрессирует (деградирует). Нет, он прогрессирует (деградирует) потому, что он хорош (плох) искони, так сказать, по условию, в соответствии с высшей волей – Бога или равноценной ему, в сущности, другой, псевдосекулярной, силы («судьба»; «железные законы истории»; «нерушимые принципы биосоциальной эволюции» и т. п.). Ясно, что уже одно это чрезвычайно облегчало путь для предсказаний потенциальных и воображаемых опасностей (или, напротив – касательно арийцев, – благ), которые вновь явятся на мусульманском Востоке, – а значит, и для других цивилизаций и культур. * * *Вслед за всей современной ему западной исламистикой – прежде всего Гольциэром – Крымский: – представляет историю мусульманства как эволюцию и религиозно-философских догм, и права, и ритуально-обрядовых комплексов, и политических структур от «простого к сложному»; – фиксирует, что и Коран и шариат не являлись никогда реально-детерминирующими все бытие исповедников ислама; – признает, что ислам нельзя рассматривать изолированно от истории, государства, общества, культуры; – сознает, что вообще религиозная терминология и символика зачастую были лишь оболочками, под которыми скрывались стремления, не только не имевшие никакого отношения к исламу, но порой и прямо ему враждебные. И что поэтому: – надо, вопреки многовековой традиции, под термином «Ислам» понимать не «единую, гомогенную, сплошь идентичную для всех мусульманских народов, религию», а по существу, сумму различных верований. Противореча этой, им самим столь энергично декларируемой, позиции, Крымский не раз от нее отходит – и не тогда, конечно, когда наделяет креативной функцией «расовый фактор», а когда делает то же самое по отношению к «идеальному» исламу или, как мы теперь бы сказали, к «большой», а не к «малой традиции» в исламских религиокультурных процессах110. И все же у Крымского преобладает тенденция видеть в исламе скорее не рычаг, а, говоря словами его друга, единомышленника и соавтора В.Ф. Минорского, зеркало, к которому каждая социальная группа, каждое поколение (а равно – и каждая расово-этническая общность) стремились, чтобы открыть себя111. Но трактовка (активно развивавшаяся некогда «радикальными позитивистами» вроде Ж.М. Гюйо) религии как некоего подобия зеркального отражения реальности – вульгарно-социологична112. Лишающая ислам нормативно-конструирующей силы, чрезмерно преувеличивающая его эпифеноменальные черты, она – при всем ее «антиклерикализме» и прочих секуляристских (а нередко и ультрасекуляристских) интенциях и декларациях113 – наделяла званием единственных каузально-значимых такие факторы, которые на самом деле на таковое претендовать не могут, как бы ни были они важны во всех прочих отношениях. Если перестать идеализировать исламоведов разбираемого здесь периода – или, во всяком случае, их подавляющее большинство – как людей «чистой науки»114, совсем-де не нацеленных на политические актуальности, не желавших делать из своих сугубо академических штудий политологические обобщения и тем более предлагать на их основе конкретно-политические рекомендации, то придется признать, в частности, и следующее. Та когнитивная программа, которая в конце XIX – начале XX вв. ставила своей задачей развеять представление о «единой исламской культуре (цивилизации)» – стремление, как нельзя более своевременное и принесшее неисчислимое множество позитивных результатов не только собственно исламистике, но и всем другим научным дисциплинам, занятым изучением мусульманского Востока, – великолепно соответствовала стратегическим интересам различных европейско-национальных разновидностей Staatliche Islampolitik (то есть государственной политики в отношении ислама). Ведь каждой из них предстояло иметь дело с попавшим в сферу ее непосредственной (или косвенной, или только еще планируемой) власти лишь некоторыми компонентами казавшегося доселе униформным мусульманского мира. Надо было не только их тщательно исследовать, но и, что, пожалуй, еще важней, доказать их право на совершенно самостоятельное от «прочего Ислама» бытие, – но только такое, которое может соответствовать ведущим параметрам и основным интересам социокультурной и политической динамики включавшей его в себя конкретной христианской государственности. Таким образом, исламистика не только все более и более прагматизировалась, но и «национализировалась». Значит, и структура Исламоведческого Знания как в его «транснациональной», так и в «национализированных» формах, становилась иной – по сравнению с «доколониальными» временами. Мне модель этого знания представляется конструкцией из четырех блоков, связанных между собой и заполненных разнообразным содержанием, сообразно типу объектов отнесения знания115. Схема эта такова: 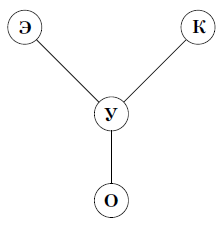 Блок Э – это блок эмпирических знаний о мусульманском Востоке в целом и особенно о тех его компонентах, которые всего более интересуют то или иное европейское государство. Эмпирические знания – которые так охотно и в обилии поставляла российская исламистика – образуют относительно самостоятельную подсистему знания («область фактов») в целостной системе Исламоведческого Знания. Блок К (от термина «концептуальный») – это концептуальный (и понятийный) аппарат исламоведческой теории, служащий средством получения специфически теоретических знаний, также образующих сравнительно автономную систему. Блок О – это другой тип онтологических знаний. В них зафиксированы представления о способе существования элементов непосредственно ненаблюдаемой сферы реальности, на уяснение которой претендует исламистика. В эту сферу я бы включил такие категории, как, скажем, «дух Ислама», «Философская сущность Ислама» и т. п. Эти категории требовали прежде всего высокоинтенсивного абстрактно-анализирующего и абстрактно-футурологического мышления, умения постоянно порождать широчайшие генерализации и результативно ими оперировать, сохраняя прочную связь с блоком эмпирических знаний, но при этом не поддаваясь их – парализующему творческое воображение, его произвольный взлет и свободное парение – влиянию. Как я уже не раз говорил, этот блок оказался менее всего развитым в российской исламистике. Блок У (от термина «управление») – атрибут новой, «прагматизированный и национализированный». С одной стороны, он полностью, в сущности, подключен к – явным и латентным – метазадачам и злободневным проблемам Staatliche Islampolitik. С другой – включая в себя интерпретационные знания, он служит опосредующим звеном между тремя остальными блоками, которые связаны друг с другом не прямо, а только через этот блок, выполняющий роль своеобразного «пульта управления» системой специфическо-исламоведческих и эмпирических и теоретических знаний. Его содержимым являются: принципы интерпретаций результатов и узкоэмпирических изысканий (элементов блока Э) и осуществляемых концептуально-понятийным аппаратом процедур получения специфическо-исламоведческих теоретических знаний (элементы блока К); модели, служащие средством такой интерпретации; мировоззренческие принципы, регулирующие построение онтологических знаний (в том числе и того типа, которые олицетворяет собой блок О), управляющие всем процессом интерпретации и т. п. Но и этот – самый важный с методологической точки зрения – блок оказался представленным в российской исламистике преимущественно одной своей, «прагматической» (или, еще точней – «прагматическо-политологической»), стороной. В итоге этой исламистике (и Крымскому в том числе) не удалось перейти (или перейти оригинальным, а не эклектическим и репродуцирующим соответствующие западно-исламоведческие концепты путем) от стадии аналитического расчленения исходного целостного объекта – «Мира Ислама» – к стадии синтеза, то есть восстановления внутреннего единства, нарушенного в результате анализа, которому этот целостный объект, «Мир Ислама», был перед тем подвергнут. * * *Аналитический – или даже последовательно-дифференцирующий, «расщепляющий Единое» – курс Крымский всегда вел с большой энергией116. Читаем: «Никакой единой, однородной и оригинальной мусульманской культуры мы не знаем». И хотя есть много мусульманских культур, тем не менее «отыскать один общий дух, один общий мусульманский характер во всех этих культурах – немыслимо: единственная (sic! – М.Б.) связывающая их черта – господство арабского языка»117. Тут мы сталкиваемся с довольно обычной для авторов типа Крымского – то есть тех, кто пытался объяснить «мусульманские феномены» лишь через монофакторный преимущественно («раса») критерий, – эпистемологической процедурой. Разбирая составные части такой крупнообъемной и гетерогенной категории, как «Мусульманская цивилизация», – и доказывая, что на самом деле она есть во многом ирреальный, надуманный мифоподобный образ, – Крымский считает подлинно интегрирующим по своим функциям лишь один элемент ее – арабский язык. Расовые же особенности – это, напротив, фактор, лишающий мусульманскую цивилизацию единства; он для нее поэтому дисфункционален. Ислам есть нечто вторичное от «расового духа» и уж наверняка им соответствующим образом трансформируемое. Он поэтому также вносит в регионы своего символического господства больше центробежных, нежели объединяющих, стимулов. Значит, согласно методологии Крымского, те элементы, которые, как доселе утверждалось, гомогенизируют мусульманский мир (или оказываются в конце концов гомогенизирующими, ибо они – скажем, «расовые свойства» – нивелируются, по Ренану, приобретая затем системоскрепляющие качества), становятся деиерархизированными, одноранговыми. Такого рода упрощение субстрата не только не приводило к структурному усложнению системы исламоведческого знания, но и значительно снижало и его информационную ценность118. Поскольку Крымским все взаимоотношения между элементами – в основном, повторю, фиктивной, с его точки зрения, – категории «Мусульманская (единая) культура (цивилизация)» гомогенизируются и подводятся под отношения типа равенства (в только что указанном мною смысле), постольку и идет редукция множества бинарных оппозиций, на которых реализуется структура этой «единой культуры (цивилизации)», к одной: Тотально-унифицирующие призыв Ислама/Всё и вся плюрализующий и автономизирующий Расовый дух. Последний под пером Крымского торжествовал и прежде, но особого размаха достиг вследствие многообразящегося давления Европы. В будущем этот дух займет неоспоримо первое место – и не только как всеобразующая сила, но и как сила, имеющая самоочистительную функцию в той или иной разномастной совокупности, именуемой как «конкретная мусульманская культура». Здесь я вижу очередное отклонение Крымского – и вообще всей исходящей из кардинального статуса методологии расовых особенностей – от идеальной модели историко-эволюционистского направления. Методология расового подхода должна – при условии, конечно, что она будет последовательной, – рассматривать «Историю Ислама» как науку не о последовательности сменяющих друг друга этапах истории данной религии (и стран ее господства – хотя, строго говоря, это все же разные объекты исследования), а о его, Ислама, трансформациях и вариациях, задаваемых, возводимых и корректируемых биологическим началом. Тогда исламистика перестроится по принципу «калейдоскопа» (см.: Genette L. Figures. P., 1972. P. 26). Это значит, что каждая новая его комбинация генетически и причинно не обязательно связана с предыдущей; существующие между ними связи – не каузальноследственные, а формально-логические и структурно-функциональные. Они определяются как отношения оппозиции, корреляции, симметрии и асимметрии. В основе таких отношений будет уже не «генетическо-временной», а «пространственный» детерминизм. Следовательно, история Ислама – да, впрочем, и остальных верований (и культур) – не предстанет более процессом «становления, эволюции, перехода, развития»: она явится нам последовательностью пространственно связанных между собой одномоментных срезов, и только. Но Крымский столь рискованно-сложной эпистемологической операции не свершил. Больше того: он в полной мере воспринял у историко-эволюционистского направления такие его серьезные дефекты, как доминирование финалистских и телеологических ориентаций. Впрочем, и те и другие как нельзя более широко совмещаются с расовым подходом – при всем своем индетерминизме (в сравнении с детерминистской в целом интерпретацией историко-эволюционистским направлением такой науки, как История Ислама) несущего и линейный каузальный детерминизм («историцизм», как его предпочитают ругать с легкой руки Карла Поппера). Все же этот детерминизм был сильно ограничен: он закреплялся в основном за той сферой, где, по убеждению Крымского и близких ему по историософско-методологическим воззрениям исламоведов, можно было легко доказать решающую роль «расового духа». Следовательно, не удалось сделать главного – вскрыв сложные взаимосвязи поли– и изоморфизма в том, что именуется мусульманской цивилизацией, уяснить реальные манифестации в ней принципов «единство многообразия» и «многообразие единого». С этим же тесно сопряжено и другое обстоятельство. Для Крымского понятие «раса» становится логически отправным пунктом интерпретации и псевдокатегории «Единая Мусульманская Культура (цивилизация)», и в плоти и крови полноценно живущих многочисленно-конкретных мусульманских культур. Потому их бытие, движимое расовыми уникальностями, становится тем фундаментальным онтологическим событием, в котором совершенно особым, ранее неведомым, образом раскрываются и сам Homo Islamicus — но уже не гомогенный, нивелированный, а разнорасоволикий, – и представляемые им духовные образования, и формы раскрытия и понимания им окружающего мира и трансцендентных его земному варианту альтернатив, идеалов и символов. И если все это «предзадано» специфическим коллективно-биологическим («расовым») субстратом, то индивид уже не есть своеобразная целостность; максимы его и нынешних и потенциальных действий подчинены не меняемому ни временем, ни пространством набору императивов; он превращается в раба судьбы, но такой, которая сама детерминирована жестко-однофакторно. Но и она, эта судьба, имеет смысл лишь тогда, когда измеряется одним только критерием: будет ли она или нет релевантна ведущим нормам и требованиям Европой созданной и универсализуемой цивилизации. Отсюда – и такое внушительное преобладание у Крымского категорическо-оценочных определений и формулировок. В первую очередь они касаются тюркских народов. Крымский пишет: – «…тупая натура турок, не любящая рассуждений, обратила все свои симпатии на сторону исламского правоверия и прониклась враждою к всякому проявлению самостоятельного мышления»119; узбеки, по свойству «туго мыслящей турецкой натуры», легко отдаются «неподвижным узам схоластики и апатичного фатализма»120; – азербайджанские шииты «в силу свойства турецкой расы, изуверно… преданы своей вере»121; – «…отличительным признаком тюрка является совершенно слепая вера, ненависть к отвлеченным рассуждениям, религиозный консерватизм и фанатизм, нетерпимость к другим верам. В высшей степени этими качествами отличаются узбеки, или тюрки Средней Азии; напротив, турки-османы, в крови которых есть известная примесь европейской, фанатичны менее узбеков, хотя ничуть не менее тверды и консервативны в вере. Середину между теми и другими (и по географическому положению и по религиозному настроению) занимают тюрки-азербайджанцы, по вероисповеданию шииты. Европейские татары под долгом русским владычеством успели потерять агрессивную нетерпимость, но консерватизм сохранили вполне»122; – «не одаренная от природы»123, ретроградная, «раса турецкая («тюркская». – М.Б.), несмотря на множество подталкиваний со всех сторон, желает коснеть в своем застое, упорно противится пробуждению»124, наслаждаясь своей «любовью к умственной неподвижности и слепым консерватизмом в обычаях»125; – у этой расы «подлинный агрессивный фанатизм»126; – эта же «узконетерпимая» раса «склонна к косности, неподвижности, умственному застою, нелюбви к рассуждению»127 и т. д. * * *Тюркам128, как я уже не раз говорил, Крымский противопоставляет в первую очередь арийцев (преимущественно – персов), а также и семитов (арабов), которые, впрочем, занимают второе – после арийцев – место в расовой иерархии. Рожденный воображением Гобино, Ренана, Кремера, Карра де-Во, ее образ сам начал оказывать влияние на реальность, став органической частью интеллектуального каркаса не только западной, но и российской исламистики. И хотя Крымский совершенно ничего нового по сравнению с соответствующими западными первоисточниками не добавляет – ни в концептуальном, ни в терминологическом, ни в фактографическом планах – к характеристикам арийцев, семитов и тюрок, тем не менее на российское общественное мнение они производили впечатление возбуждающих новинок, пытающихся дерзко противостоять универсалистским концептам – будь то традиционно-христианские или либералистско-секуляристские. Книга Крымского «Мусульманство и его будущность» (1899) сразу же стала широко известной, вызвав восторги одних (в том числе высококвалифицированных ориенталистов вроде – уже упомянутого мною в предыдущей главе – Александра Шмидта) и гневные нарекания других – как мусульманских идеологов, так и православно-миссионерских обличителей ислама129. Уверен, что до Крымского в российском культурном ареале не было еще столь неутомимо, темпераментно и последовательно ведущейся пропаганды плотно сконцентрированных и ничем не замаскированных расистских воззрений. Русскому самосознанию уже было известно – в том числе и благодаря Достоевскому, – что оно также имеет честь называться «арийским»; ему, конечно, давно были привычны самые грубые нападки на «турок» и их отечественных родичей и пособников в лице татар, сартов и прочих; оно готово было признать – пусть снисходительно, с кучей оговорок – величие и арабских культуротворящих потенций. Но все это воспринималось эпизодически и фрагментарно, вне широкого культурно-исторического контекста, без сколько-нибудь связной теоретической базы и емких обобщений. Крымский дал и то, и другое, и третье. Травмированному – как и он сам130 – бесчисленными напоминаниями о зле, причиненном некогда и турками и татарами, с недоверием взирающему на свои очередные, опять мусульманские, приобретения – Кавказ и Среднюю Азию, – со злобой реагирующему на подъем честолюбивых исламско-модернистских течений в самой же империи, с болезненной ревностью131 узнающему о том, как успешно якобы решают в своих интересах «басурманскую проблему» западные колониальные державы, – Homo Russicus’y в его интеллигентской ипостаси не могли не импонировать и причисление его к «соли земли» – арийской когорте, и едкая ругань Крымским врага не только ее (в т. ч. русских и украинцев), но и всего человечества – тюркской расы. Новоиспеченный ариец, «средний русский» был рад услышать, что – его восточный «младший брат», иранец, имеет – в отличие от своего антагониста, тюрка, – «живую, умную натуру»132: – они же, «родственные нам азиаты-арийцы… в ближайшем будущем… обгонят всех остальных мусульман (хотя эти «азиаты-арийцы», как помним, «возмутительно лживы»133. – М.Б.)… Народ этот чрезвычайно остроумный, склонный к свободомыслию и чуждый религиозного фанатизма» (Крымский, не жалуя религиозный фанатизм, ультраклерикализм и им подобные явления, резервирует их за вызывающей у него отвращение «тюркской расой»134); – они-то (с сочувствием цитируется Дози), «а никак не арабы, придали исламу крепость и силу, а вместе с тем из их же недр вышли наиболее замечательные секты»135, наиболее оригинальные поэты и мыслители (тогда как тюрки дали лишь одного «гения – философа-аристотелика Фараби», да и то потому, что он развивался в благоприятствующей интеллектуальным достижениям «персидско-арабской обстановке»136); – они – но не те, кто имеет «смешанную кровь», а «чистые иранцы», – всегда будут «понимать ислам в духе прогрессивном, либеральном»137; – ариец-таджик «резко отличается от тюрка тем, что с ним можно вести самые вольнодумные споры о религии, и он старается разбить противника доказательствами логическими, тогда как тюрк считает страшным кощунством подвергать какое-нибудь предписание религии даже самому легкому критическому обсуждению»138 и т. п. Арийцев Крымский видит творцами форм, укрощающих хаос, деформированного в основном тюрками бытия и могущими придать и реальный и символический порядок беспорядочному мусульманскому миру – конечно, при условии многоаспектной адаптации к европейскому этосу. Но если Гобино, Ренан, Карра де-Во и другие сводили внутриисламские коллизии в основном к тотальной конфронтации «genie semitique» и «genie aryen» и, главное, крайне отрицательно оценивали первый, наделяя всеми мыслимыми и немыслимыми добродетелями второй, то Крымский все же довольно сочувственно относился к семитской расе, и не только к «чистым арабам», но и к своим соотечественникам – евреям, защищал их от инсинуации черносотенной прессы139. «Арийцы и семиты, – подчеркивает Крымский, – наиболее даровитые из мусульман. Остальные мусульмане принадлежат к племенам, природные дарования которых стоят значительно ниже европейских»140. Если узбеки (среднеазиатские тюрки) «в высшей степени» отличаются такими имманентными всей тюркской расе негативными качествами, как «совершенно слепая вера, ненависть к отвлеченным рассуждениям, религиозный консерватизм и фанатизм, нетерпимость к другим верам», то турки-османы, хотя и не менее «тверды и консервативны в своей вере», все-таки «фанатичны менее узбеков», – потому что в их «крови есть известная примесь европейская (арийская, – МБ.)»141. Еще несколько ярких комплиментов в адрес сразу и арийцев и семитов: – на мусульманском Востоке тюрки «представляют элемент ретроградный, а иранцы и арабы (т. е. арийцы и семиты. – М.Б.) – прогрессивный»142; – в отличие от тюрок же (и других, куда более низших, чем даже они, рас) расы «иранская и арабская» имеют в своем прошлом «блестящий период умственной жизни», который, хотя и был нарушен монголами и турками, все-таки может возобновиться в не очень далеком будущем. «В том же направлении пойдут и мусульмане-индийцы (ибо и они арийцы. – М.Б.). А другие мусульманские народы, не одаренные от природы (и… понявшие ислам как религию фатализма и фанатизма), хоть не уйдут, пожалуй, от сближения с Европой, но это сближение будет постоянно происходить с большими затруднениями»143; – надо как можно быстрей «спасти от пагубного гнета турецкого племени (речь в данном случае идет об Османской империи. – М.Б.144) близкие нам по крови и вере племена арийские и мусульманское племя арабское, даровитость которых несомненна и которые могут еще внести свою щедрую лепту в умственную сокровищницу Европы» 145; – «чистые иранцы, индусы (т. е. арийцы. – М.Б.), арабы сирийские и египетские (т. е. тоже, как полагал Крымский, – семиты. – М.Б.)» — пример рас, носящих в себе «задатки прогресса, движения вперед»146; – «пока владыками ислама были терпимые арабы (т. е. семиты. – М.Б.)» и еще более склонные уже по самой природе своей к свободомыслящей толерантности «чистые персы» – ненависть к иноверцам не стала всеопределяющей чертой ислама147 и т. д. Крымский идет и дальше, нередко в открытую реабилитируя внутренние категории и структуру ментальности всей семитской расы. Шаг этот, надо прямо сказать, был мужественным в условиях России, где в предоктябрьский период пышно расцветало юдофобство самых разных оттенков, в том числе и такое, которое в качестве своей теоретической основы брало соответствующие пассажи из западного юдофобства, как религиозно-культурно-социального, так и воинствующе-расистского (как у Морраса и Барраса, например, так и Гобино, Ренана, X. Чемберлена и многих, многих других). Принципиальным семитофилом Крымский, впрочем, не стал. Как бы серьезно он ни ощущал порой: – необходимость резко отстранить в сторону кодекс окаменевших ценностей и порождаемых им предрассудков; – глубоко восприняв необратимо-расширяющийся плюрализм смыслов, отказаться от догматического абсолютизма монократического (арийцами лишь несомого) принципа в создании и развитии наилучших сторон мировой цивилизации; – потребность в том, что если и не полностью списать в архив, то по крайней мере внести значительные поправки, с учетом изменившихся исторических и структурных реальностей, в тенденцию во всем не только находить взаимодействующие крайности, но и, более того, делать каждую из них альтернативным по отношению к остальным полюсам; – дисфункциональность любых видов расово-конфессионального гегемонизма для программ общероссийского радикального демократического преобразования – в том числе для украинцев, за предоставление широких прав которым всю свою жизнь ратовал Крымский; – все же те прогностическо-проектировочные схемы, которые были связаны со стратегиями «выживания и экспансии» христианско-арийско-европогенных форм, предполагали в качестве, по сути дела, нормативных правил если не равновесие, то, уж во всяком случае, ощутимое противостояние не только между Арийцем и Тюрком148, между Арийцем и Семитом, с одной стороны, и Тюрком – с другой, но и между Арийцем и Семитом. Приведу опять подлинные слова самого Крымского. Вот он, только что дав амбивалентную – впрочем, задолго до него ставшую стереотипной для европейской ориенталистики – характеристику арабов149, приводит и знаменитое суждение о них же Дози: «человечество не обязано им никакой великой и плодотворной идеей». Крымский уточняет: эта оценка «приложима больше к арабам чистым (т. е. «настоящим семитам». – М.Б.)… К арабам более поздним и арабам современным, в частности, к жителям Сирии, Египта и других стран, говорящим по-арабски, но имеющим кровь не бедуинско-арабскую (т. е. как нельзя более «чисто семитскую». – М.Б.), прилагать эту характеристику надо, разумеется, с осторожностью»150. Дози – со свойственным ему изобразительным талантом – осуждает жестокую расправу нововозникшего ислама над мединскими евреями. Крымский корректирует: «конечно, такой поступок вполне можно признать жестоким, бесчеловечным, его можно заклеймить каким угодно эпитетом; только не следует ставить его в вину исключительно одному Мухаммеду, – тяжесть его падает на всю расу (т. е. «на всех семитов». – МБ.)»151. Что касается первоислама, то он действительно есть, с одной стороны, производное от «подлинно семитской» (=«чисто арабской») ментальности – со всеми ее и достойными уважения атрибутами и вызывающими праведный гнев чертами. В то же время традиционно-арабское (=«типично семитское») мировоззрение оказалось «глубоко и непримиримо противоположным» воспринятым Мухаммедом из христианства принципам152. И эта – то явная, то скрытая – конфликтность, эта напряженность многосмысленности внутри одной и той же постоянно стремящейся к прочнейшему внутреннему единству религиозной системы и порождает в ней превеликое множество болезненных неврологических точек. Так, насколько я смог понять, смотрел Крымский на историю ислама и его культурных ареалов – историю, которая есть прежде всего и ко-эволюция и, главное, борьба расовых субстратов, никак не желавших объединить свои онтологические разнородности в ритмично функционирующую и стабильно развивающуюся целостность. И коль такой целостности нет, то нет и такой псевдокатегории, как «Мусульманская (единая) цивилизация», метаболизма и тонких механизмов саморегуляции, способных обеспечивать и благоприятный для нее «экологический баланс» в структуре ее же взаимодействия с иноверческими культурами, и оптимальный режим функционирования каждой из принявших ислам расовых групп и создавать из них хоть какое-то подобие гармоничных ансамблей. Причину этому Крымский ищет в том, что критические пункты так называемой общемусульманской истории, начиная от мухаммедовского религиозно-политическо-этического и правового синтеза и кончая образованием Османской империи, составляли лишь своеобразную прелюдию к такому последующему витку в судьбах мусульманских социумов, который обеспечивал бы самые лучшие возможности для развития их высшего звена – арийских (а отчасти – и семитских) этносов. Им одним – ариям, разумеется, наиболее полно и основательно – дано будет осознать, наконец, и самих себя, и весь остальной исламский Восток, и европейскую цивилизацию со всеми ее теневыми и – преобладающими – светлыми сторонами. Но если все-таки семитская раса еще может сосуществовать с – превосходящей ее и изначально и в самом далеком будущем – расой арийской, то и та и другая никак несовместимы и с тюрками и с «остальными исламскими народами». Ведь они принадлежат, «подобно туркам (тюркам), к расам грубым и малоодаренным от природы», а потому и «верны исламу». Это – «свирепые дунгане»; это – берберы, «наиболее фанатичные и нетерпимые» изо всех мусульман; это – негры, с принятием ислама сделавшиеся точно такими же153. Но если вопрос о «способности или неспособности (мусульман-чернокожих) для нас, далеких северных жителей… не представляет пока что особенного интереса», то зато перспектива «желтая раса + ислам» очень пугает Крымского154 (несмотря на его уверенность в том, что это – «вопрос еще далекого будущего»). Имеется в виду прежде всего Китай. «Полагают, – пишет Крымский, – что Китай, переполнившись жителями, принужден будет произвести вторжение в Россию; если Китай ко времени своего переполнения окажется мусульманским, то возможно, что мусульманское учение о священной войне, раз оно будет понято китайцами в смысле обязательного приказания вести войну наступательную, послужит источником воодушевления для них и придаст им силу в разрушительной борьбе с русскими»155. Но и в этом виновна будет сама желтая раса – такая же ультранетерпимая, как и тюрки и многие другие «фанатичные от природы, низшие азиатские и африканские народы», но менее всего – ислам. * * *Читатель уже имел возможность убедиться, что Крымский – как и положено, разумеется, самой методологией расового подхода – не фокусирует внимание на исламе, отказывая ему (вспомним позитивистскую теорию религии как «зеркала»!) в статусе тотально-бытие-творящей силы. Рассуждения Крымского об этой проблеме стоит, мне кажется, привести в наивозможно полном виде. Высшая заслуга арабов, «или, точнее, народов, объединенных арабами», в том, что они «в большей или меньшей степени сохранили античную духовную жизнь, а потом передали ее Европе… Но был ли причиной этого ислам как религия?». Нет, решительно отвечает Крымский, ибо «и философия и наука в мусульманском мире шли всегда в разрезе с правоверною исламскою религией и признавались за нечестие». К чему же тогда сводится историческое значение ислама? К тому и только к тому, что он «выдвинул к исторической жизни арабскую расу, которая затем, независимо от ислама, сберегла сообща с покоренными ею народами античную культуру во времена средневекового европейского варварства». Аккуратно воспроизведя эту стародавнюю, наделенную правами постулата, формулировку, Крымский продолжает: «Прямых культурных заслуг для человечества признать за исламом нельзя: только для совсем грубых народов (тюрков, берберов, негров, малайцев) исламская религия явилась цивилизующей силой, а в образованных обществах она в лучших случаях только терпела вокруг себя умственную жизнь, обыкновенно же тормозила ее»156. К тому же Крымский открыто осуждает157 пресловутую «исламскую похоть», продолжив тем самым линию, идущую еще с раннеевропейского средневековья, да и поныне популярную в литературе о мусульманском Востоке158. Конечно, каждый волен был и в конце XIX века по-своему относиться к таким пикантным сюжетам159, но так, как их преподносит Крымский, человек блестящей западного типа профессиональной выучки, обладающий далеко не банальным эстетическим вкусом, в его устах звучит и по форме и по содержанию как-то совсем нелепо: «Условия воспитания кладут на лицо мусульманина особый грубо-сладострастный отпечаток, по которому мало-мальски опытный наблюдатель всегда без ошибки определит его религию»160. Но Крымский предупреждает о несостоятельности упований на то, что ислам – вследствие всестороннего упадка ареалов его традиционного господства – уступит место в них христианству: на самом же деле есть много признаков, предвещающих не «смерть ислама, а, напротив, еще долгую-долгую жизнь ему»161. Ислам имеет серьезные шансы на успех как в Сибири, например162, так и во многих других не только азиатских (в том числе в Индии163), но и африканских регионах, и потому не правы, убежден Крымский, те и старые и современные авторы, которые видят в нем «переходную ступень, ведущую из язычества в христианство»164. И на сей раз не скрывая своих прохристианских лояльностей – хотя и отмежевываясь от миссионерских иллюзий, – Крымский напоминает: «К сожалению, опыт (отсутствие ренегатства у мусульман) показывает, что человек, пропитавшись мусульманством, делается уже совершенно неспособным воспринимать высшие истины христианства»165. Но коли так, то надо: – во-первых, взять курс на приобщение мусульман к европейским культурам (программа, очень напоминающая ту, которую выдвигал, скажем, Беккер), в т. ч. и к русской (Крымский выступал за «скорейшее увеличение» числа русских школ в Средней Азии166); – во-вторых, не только укреплять европейское политическое владычество над мусульманскими странами, но и расширить его, прежде всего сокрушив Османскую империю, этого вампира, эту «отвратительную, неизлечимую язву на теле Европы», само существование которой – «позор для европейской цивилизации»167; – в-третьих, признав ненужность и даже вредоносность попыток уничтожить ислам как религию, найти в нем такие фундаментальные реалии, ситуационные факторы и задатки, которые можно было бы использовать для «общечеловеческого прогресса». Эти интенции Крымского шли в одном ряду с теми, которые были характерны для всех ведущих представителей западной светской профессиональной исламистики – И. Гольдциэра, X. Снук-Хюргронье, К. Беккера, М. Гартманна и других168. Они развеяли мистический ореол, возникший вокруг понятия «ислам», – благодаря наивно-романтическим или, напротив, недальновидным клерикально-христианским обличительным опусам о нем (или даже – мало понявшим эту религию – высказываниям о нем тех философов, которые утверждали, будто в исламе «всего резче сказалось то способствующее изучению природы169, что мы приписываем монотеистическому принципу», что именно в нем «прежде всего развился свободный философский дух», ибо «монотеизм Магомета был самый крайний и сравнительно свободный от мифических примесей»170, являясь «самой чистой формой единобожия»171 и т. д.). Удивление «не поддающимися рациональному объяснению успехами ислама», какая-то необычно долго держащаяся вера в экстраординарные, не имеющие себе аналогов в мировой истории, качества Мухаммеда172, благодаря которым и рождены вызывающие лишь благоговейное почтение мусульманские феномены, – все это для скептической «новой школы» послужило лишь дополнительным стимулирующим фактором исследования, заставляющим позади всякого «как» постоянно ощущать навязчивое присутствие «почему так, а не иначе?». Вот на этот-то вопрос и пытается ответить Крымский – детально развертывая мысль о широком спектре возможных начальных условий эволюции Ислама. Но в ходе его расширения, застывания и упадка, утверждает Крымский далее (я, правда, излагаю его мысли собственной терминологией), все большее число тех условий, которые могли бы содействовать позитивному развитию мусульманского Востока, «выключались из игры», как бы «уходили в запас» в ожидании лучших времен. Таковыми и явились времена доминирования европейско-христианской цивилизации. Оно, это доминирование, обязательно предполагает селективные функции: из множества формально равноценных исламских культур позволено реализовываться в полной мере лишь одним исламо-арийским (а отчасти – и исламо-семитским), как наиболее благоприятным для успешного существования всех прочих. Они также одеты в исламскую оболочку, но постоянно создают радикальную неустойчивость своими дурными расовыми качествами – прежде всего инаковериефобией – и потому заставляют и самих себя и весь окружающий их мир балансировать «на лезвии бритвы». * * *Крымский доказывает, что нельзя однозначно выводить обилие старых и новых пороков мусульманских социумов из первоисламских принципов. Так, фатализм вовсе не есть имманентная черта Корана. Больше того: в понимании значительной части мусульман – таких «передовых рас», как арийская и семитская, – кораническое учение о предопределении становится фактически тождественным «с христианским евангельским учением о предопределении»173. В Коране нет, наконец, фанатизма – и вообще, последний «не обязательно связан с исламом»174. Крымский не согласен с «доэволюционистским», «догольдциэровским» и «доснук-хюргроньевским» тезисом Дози о том, что «…неподвижность – это смерть, а в исламе неподвижность, к сожалению, возведена в принцип». И далее: «Ну, допустим, пожалуй, что в деле религии все, считавшееся за истину прежде, должно быть принято за истину и всеми последующими веками; но ведь отсюда не следует, чтобы и в области права годилась раз и навсегда установленная форма. В исламе это так. Одни и те же законоположения Корана остаются и доныне в силе, и будут в силе, пока существует ислам. Пусть себе они были хороши для того времени, когда появились, пусть себе они составляли тогда для арабов подлинный шаг вперед, – это мы допускаем без затруднения. Но законы Карла Великого также были превосходны для своего времени, и, однако, что было бы со всеми народами, над которыми он царствовал, если бы они навсегда были осуждены постоянно им следовать, блюсти эти законы? Было ли бы возможно движение вперед для Западной Европы?» Очень интересен ответ Крымского: «Верно в этом утверждении только то, что ислам свое учение принципиально выдает за окончательную непреложную истину. Но ведь нет религии, которая свои тезисы выдавала бы за нечто неокончательное, временно-условное. Такой принцип уместен в науке, в рациональном рассуждении, но не в религии» – будь то ислам или христианство. Зато куда важней другое: «Одновременное существование неодинаковых, но одинаково правоверных толков (мазхабов. – М.Б.)… и затем множества сект с неодинаковыми юридическими воззрениями, – ярко показывает, что и в области права ислам доступен изменениям, истолкованиям в ту или другую сторону, согласно с требованиями времени». Напомнив тут же, что сравнительно недавно Турция и Персия, «не переставая быть мусульманскими, по необходимости ввели у себя светский, гражданский суд с законами, обработанными на европейский лад», Крымский подводит итог: «Все это свидетельствует о возможной гибкости ислама даже в области права»175. И вновь и вновь он считает своим первейшим долгом подчеркнуть, что «ислам далеко не всегда выражен в устойчивых, единообразных, безапелляционных формулах, о сути которых нельзя мусульманам и спорить», что «будет крайней несправедливостью принимать (тюркские) расовые черты («консерватизм», «фанатизм» и т. д. – М.Б.) за черты самого ислама и думать, будто их (тюрков) косность прямо вытекает из духа исламской религии»176. Большого восторга перед ней Крымский, конечно, не испытывает: она по всем параметрам ниже христианства и лишена (ибо Мухаммед, создатель ее, не отличался «богатым воображением»177) оригинальности (при всех таких ее – вновь приведу эти слова – «положительных качествах, как логическая удобопонятность, отсутствие неправдоподобных, неестественных верований и т. п.»178, – т. е. то, что делает ислам более или менее коррелирующим с рационалистической сутью европейской цивилизации». Но именно этот-то «недостаток оригинальности» (Крымский здесь присоединяется к им же цитируемому мнению Дози) и способствовал быстрому распространению ислама: «…будь Мухаммед мыслителем более глубоким и самостоятельным, ислам, вероятно, не так бы легко сделался мировой религией, несмотря на весь свой строго монотеистический характер и свою большую простоту»179. Тем не менее, по Крымскому, в напластовании проблем соотношения различных уровней структурно-функциональной организации метакатегории «Мусульманский мир» в его интегративной – как анти-, так и проевропейской – деятельности роль ислама как такового не была, не есть и не станет решающей. В «Мусульманстве и его будущем» Крымский дает такую чеканную формулировку: «…сама по себе исламская религия настолько же не должна считаться помехой прогрессу и цивилизации, насколько и всякая другая религия. Вопрос о том, способны ли мусульманские народы к прогрессированию и к восприятию нашей, европейской, цивилизации, не может решаться огулом, применительно раз и навсегда ко всем народам, исповедующим ислам, а, наоборот, должен решаться частным образом, применительно к каждому отдельному народу»180. Казалось бы, стремление беспрестанно атомизировать мусульманско-исламскую совокупность по расово-этническим меркам идет у Крымского crescendo181: – он словообильно и назойливо твердит о детерминирующем значении расовых субстратов в процессе адаптации к вызовам современной эпохи; – подчеркивает, что соответствующие модификации этого процесса могут осуществляться опосредованно – через все те же расовые особенности – без непосредственных процедур над исламом; – заверяет, что стрессирующей и для него и для сакрализуемых им культур фактор в лице христианско-европейского управляющего воздействия182 действует строго избирательно, ведя лишь к локальным и, что всего важней, становящимся совсем независимыми друг от друга изменениям и т. п. Но одновременно он – субъективно сам к тому, бесспорно, никак не стремясь – создает во многом иную панораму, где есть место и полифункциональности различных расово-мусульманских уникальностей, и их взаимодополнению в рамках одной и той же – исламской – целостности (пусть и «во многом иллюзорной»), Ведь, как сознает Крымский, «адаптация» ^ «модернизация», «вестернизация» и т. п.) есть функция интегративных усилий всего набора составных этой цивилизации и не может быть в прямолинейно-редукционистском духе сведена к западо-стремительной активности какого-либо из ее компонентов (или уровней). Любые расово-этнические субстраты в состоянии создать предпосылки для реализации данной – решающей – функции; любой из них имеет не только исламоинтегративные свойства, но и возможности к определенным трансформациям в соответствии с европейскими стандартами. А значит, и в нем, в этом субстрате, наличествуют не только неповторимо специфические, но и, как мы сказали бы теперь, общесистемные качества. И здесь будут иметься в виду не одна («мусульманская»), а две («и европейская») системы, начавшие в самых причудливых формах и парадоксально-неожиданных комбинациях переплетаться между собой. Когда я упоминаю об этом – вдруг под пером Крымского оказавшимся вовсе не таким безнадежным, как сам же он доказывал вначале, – «любом из мусульманских расово-этнических субстратов», то прежде всего подразумеваю «тюркскую расу». Постоянно памятуя о главной своей цели (я пока говорю лишь о книге «Мусульманство и его будущность») – реабилитация, обоснование, апологетика европейской (русской – в особенности) власти над исламскими народами, – Крымский вынужден их нынешние и возможные исторические тропы описывать разнопорядково, разнокоординатно, в особенно больших – даже для него, всем и вся очевидного эклектика – масштабах, допуская произвольные теоретико-методологические допущения и явно неисторические аберрации. Крымский заявляет: Поскольку у «европейских турок» в крови есть немало «греческой и славянской (т. е. арийской. – М.Б.) примеси», постольку они смогут «скорее других соплеменников внушать надежду на способность к цивилизированию». Но это будет, спешит предупредить Крымский, «свершаться крайне медленно»183 – и не потому, что доля арийской крови у турок-османов не оказалась все же решающей, а потому, что они пока еще сохранили свою государственную независимость. А между тем «тюрки делаются безвредными и их цивилизирование успешнее всего идет тогда, когда они попадают под власть европейцев». Всего более убедительным представляется Крымскому российско-колониальный опыт: «У нас в России фанатизму татар, туркмен и др. негде развернуться. Сам по себе это – народ, не лишенный симпатичных качеств: не пьющий, не любящий мошенничать, физически трудолюбивый; если у него исчезает фанатизм184, то его симпатичные качества выступают рельефно. Пользуясь спокойствием и благами нашей культуры, тюрк живет очень хорошо, понемногу примиряется с нашим господством…» Крымский даже находит полное сходство этой своей новой модели «Тюрка» не более и не менее как с образом Русского: «…русские, начавшие учиться («европеизироваться», «цивилизовываться». – М.Б.) при Петре, сперва неохотно и по принуждению, наконец, цивилизовались (Sic! – М.Б.) и приучились любить просвещение». Значит, «цивилизуются и наши (т. е. покоренные русскими и под их же умиротворяюще-просвещенным влиянием185. – М.Б.) мусульмане. В самостоятельном тюркском государстве, т. е. в Османской Турции, этого нет»186. В ней фанатизм будет еще царить долго – до тех пор, пока эта держава не исчезнет с политической карты мира. Спустя всего лишь пять лет после публикации «Мусульманства и его будущности» Крымский счел нужным повторить: тюркская раса откажется от толкования ислама с антитолерантных и ксенофобских позиций только тогда, когда лишится «политической самостоятельности (например, в российских пределах), а если (она) самостоятельна, то постоянно готова навязывать ислам своим слабым христианским подданным, раз это может пройти безнаказанно»187. Впрочем, какими бы шокирующе-циничными в плане политическом ни казались эти высказывания Крымского, нельзя не расценить их и как следствие какого-то изменения его методологической программы – той, которая стремилась рассматривать ту или иную мусульманскую расово-этническую культуру в качестве элемента сразу двух систем – исламской и европейской цивилизации188. Тогда-то постепенно выяснялось, что ни один из таких элементов в отдельности не в состоянии приобрести детерминирующей силы для придания какой-то одной из этих систем, – а тем более им обеим вместе, – либо ускоренного движения вперед, «по пути прогресса», либо «полного хода назад», в сторону затхлого ретроградства и прочих параметров «регресса». Она, эта сила, придет только тогда, когда начнется бурное взаимодействие всех – или всех основных – элементов и той и другой цивилизации. Значит, появятся уже основания говорить о функционировании качественно новой, подлинно «синтетической», системы детерминантов с глобальной не меньше, сферой действия – западовосточной. Но эта система стала бы благоприносящей и для Запада и для Востока только при условии, что она строилась бы всецело на беспримесно-эгалитаристских нормах и ценностях, требуя для таковых совсем иной, чем у проводников идеи иерархическо-расового подхода, исходной понятийной (и отвечающей ей терминологической) позиции. Возможность легализации именно такого типа мирообъяснительных схем некоторые концептуальные структуры исламоведческого творчества Крымского в себе содержали – но в потаенном, диффузном, нефундицированном, несубстанционализированном виде. Это не позволило Крымскому не только досконально использавать, но даже отчетливо вообразить себе будущие тупиковые для Российской многоэтнической и многоконфессиональной империи ситуации и подготовить альтернативные варианты заранее, «на черный день». Глава 3Василий1 Бартольд как историк ислама. Опыт реконструкции идейнометодологических основ его научного наследия2 Но были ли они на самом деле, эти «идейно-методологические основы»? (Вопрос, как выяснится, отнюдь не праздный – в особенности на фоне современной Бартольду западной исламистики.) Слава Бартольда еще много десятилетий назад перешагнула границы России, ибо трудно найти во всей мировой исламистике первой половины XX века ученого столь эрудированного, столь плодовитого и конструктивно-мыслящего в самых разных сферах этой науки, и прежде всего в той, которая непосредственно касалась обширнейшего, во всех отношениях принципиально важного для судеб множества других, и мусульманских, и немусульманских стран и народов, региона – Средней Азии3. 1. Стратегия исламоведческого познания В. БартольдаЗдесь, в среднеазиатоведении, Бартольд представал как подлинный новатор, с имманентным идеальному облику такового скачкообразными – а не континуальными, т. е. кумулятивными, постепенными, – переструктурированиями беспрестанно накапливаемых и тщательно проверяемых гигантских массивов доселе в подавляющей части своей неизвестной информации. Многочисленные изыскания Бартольда были самой внушительной визитной карточкой совокупного интеллекта российской исламистики, ее как реального, так и перспективного творческого и даже, если угодно, морального облика, открывая перед ней двери в круги наиболее авторитетных и рафинированных западных научных сообществ. С именем Бартольда прямо связаны если и не радикальные, то, во всяком случае, очень существенные проблемные сдвиги не только в исламистике, но и в целом ряде других функционировавших в России востоковедческих дисциплин, – будь то история доисламских этапов развития Туркестана, Кавказа и т. д., или их же филология, эпиграфика, археология, этнография. Бартольд в большой степени способствовал предоставлению им всем возможности долгосрочного выбора таких – в том числе с твердой онтологической основой – широкозахватывающих исследовательских программ, которые в интегрированном действии своем позволили серьезно уменьшить казавшийся не столь давно (до бартольдовских трудов особенно) едва ли не безграничным диапазон неопределенности и бесплодного риска в процессе познания самых различных аспектов тех мусульманских территорий, которые оказались в составе Российской империи. И очевидно, главная заслуга Бартольда заключалась в том, что он показал: процесс сосуществования и изменения этих этноконфессиональных сообществ шел, идет и будет идти не в рамках одной-единственной линейной, таксономической, модели, а в пределах нескольких («традиционно-исламская»; «русско-христианская»; «западноевропейская» или – отождествляемая с ней – «глобально-цивилизованная») моделей, нередко реализующихся одновременно, причем одни и те же части каждой из таких общностей («субэлементы») могут входить в разные модели. Феноменально-востоковедческая эрудиция Бартольда (в отличие от не менее внушительных по масштабам, но далеко не столь глубоких и в общем-то эклектических профессиональных познаний Крымского) позволила ему увидеть в каждом из анализируемых им мусульманских регионов (или, как я буду впредь их называть, «исламских единиц») сложное, относительно конечное, диалектически организованное целое. Оно состоит из сравнительно упорядоченных, стохастически (эту деталь весьма важно иметь в виду) соотносимых компонентов, которые способны при определенных условиях вступать в ряд комбинаторских реакций. Диалектика в строении какой-либо из этих «исламских единиц» (Средняя Азия, Иран или Азербайджан) проявляется в том, что, с одной стороны, все они конструируются по одному и тому же принципу: сложно переплетенное сочетание качественно и количественно (тот или иной этнос или социальная группа – больше/меныпе прочих, обитающих на той же земле и т. д.) неравноценных частей, находящихся в «избирательной близости». В то же время каждая «исламская единица» обладает своей индивидуальностью в плане морфологии, кардинальных и второстепенных свойств, а также в предрасположенности ко всевозможным комбинаторским схемам. Эта «стратегия распознавания» мусульманских социумов, их генеалогий, классификаций и стратификаций внутри остающейся формально общей для них – исламской – «крыши» и обретенного ими очередного пристанища в виде европейско-христианских государственностей позволила Бартольду, в отличие от апологетов расовых (и расистских) теорий, резко дистанцироваться и от традиционных и от нововоздвигаемых – на сей раз путем абсолютизации биолого-этнических особенностей – дихотомий и бинарных оппозиций4. Они, убежден Бартольд – и я подробно буду развивать эту тему чуть позже, – ведут к смешению разносистемных и разновременных явлений, к искусственному объединению несовместимого и к разъединению единого. Таким образом, узкопозитивистское постижение Факта заменяется понятием Отношения; вместо считавшейся ведущей тенденции рассматривать каждый элемент ислама в сдельности, вместо поиска его «причин» в предшествующих стадиях, он определяется теперь как часть синхронической целостности. «Атомизм» в познании мусульманского Востока – который я ранее многократно определял как характернейшую черту добеккеровской, в частности, исламистики – уступал дорогу довольно активно начавшему себя проявлять зародышу «структурализма», широко открывающему дверь многостороннему подходу к изучению каждого без исключения «исламского объекта». Разумеется, именовать и Беккера и Бартольда творцами «структурной исламистики» я бы не стал (и дело тут не только в крупных различиях между историософско-методологическими программами немецкого и российского исламоведов). Самой этой исламистики еще нет и сегодня, и я далек от того, чтобы в ближайшем будущем ожидать с оптимизмом ее появления как более или менее тщательно разработанной по всем конвенциональным критериям «академической науки» автономной дисциплины5 (или – скажу компромисса ради – еще одной субдисциплины в том огромном, хаотичном, разнородном скопище, которое мы с трогательным простодушием упорно именуем одним изысканно-претенциозным термином – «исламоведение»). Дело, впрочем, не в чисто внешнем усвоении структуралистской доктрины и ее символико-терминологического покрывала – этого, повторяю, не было не только у классиков исламистики начала XX века, но и у очень и очень многих из их современных наследников. Гораздо важней иное: и Беккер, и Гольдциэр, и Бартольд (и, конечно, не только они одни), не подозревая о том, что они «всю жизнь говорили на языке структурализма», ясно осознали кардинальнейшую посылку его: «В Исламе (или в «Мусульманской цивилизации») нет ничего единичного; каждый отдельный его элемент проявляет себя только как часть целого». Я не случайно воспроизвел здесь (заменив термин «язык» на термин «ислам») знаменитую формулу Вильгельма Гумбольдта об истинной природе языка6: именно такого рода модели, переходя в категорию метагенерализаций, и послужили наиболее основательным стимулом для широкого движения, стремившегося к замене в «веке, в котором мы живем… атомизма структурализмом и индивидуализма универсализмом, конечно, в философском смысле данных терминов»7. Значит, «структурную исламистику» можно будет охарактеризовать как совокупность исследований, исходящих из гипотезы, что ислам (=«мусульманская цивилизация», «мусульманский Восток», «мусульманский мир») научно-правомерней описывать как единство внутренних зависимостей (т. е. как «структуру»8). Как в других науках – например, в лингвистике9, – анализ этого «единства внутренних зависимостей» (=«структуры») допускает расчленение на части, которые истолковываются как взаимно влияющие друг на друга, зависящие друг от друга, не постижимые и не определимые вне отношений с остальными частями. В процессе изменения конфигураций тех или иных исламских структур и систем (что, в сущности, и есть «развитие») одни входящие в них элементы усиливают (или ослабляют) или нейтрализуют свои иерархические и (или) функциональные статусы. Так это было, например, с шариатом, сколь бы усердно современные авторы ни повторяли вслед за Г. Бергштрассером, что он и есть квинтэссенция «подлинно мусульманского духа», наиболее ясное выражение совокупной мусульманской идеологии, «главное звено ислама»10. Как и другие тогдашние вдумчивые исламоведы, Бартольд не сомневался в том, что хотя Ислам существует и развивается как единое целое, это, однако, не означает единообразия во всех его звеньях; общее поступательное движение мусульманского мира вполне может сочетаться с отсутствием движения на тех или иных его участках, с движением11 в «обратную сторону» тех или иных звеньев и т. д. Как я уже фиксировал, Бартольд ищет причины таких траекторий и ядерных и периферийных «исламских единиц» отнюдь не в расовых ментальностях: они ставят во главу угла принцип извечной полярности, непримиримых противоречий, тогда как и для исламской истории, и для всемирной истории имманентна направленность скорее на тождество, чем на различия (или, вернее, на консервацию и абсолютизацию различий). Эта установка последовательно согласуется со структуралистской исламистикой, а не с таким типичным плодом не-и антиструктуралистского (индуктивного) мышления, как сравнительно-исторический метод все той же «традиционной исламистики». Ведь он, этот метод, обладает чрезвычайно узкими исследовательскими потенциями: он по самой своей природе не может ничего большего, как описать родственные Исламу религиозные феномены для восстановления картины исторического прошлого всей этой группы в целях отыскать «закономерности их развития», начиная от верования – первоосновы. Конструируемая на основе данного метода «эталонная модель»12 закрывает возможность проникнуть более глубоко в такие слои Ислама, где существуют совсем другие нормы, закономерности, явные и латентные устремления, предрасположенности, ориентации и т. д. Первоочередным достижением гольдциэровско-снук-хюргроньевской стратегии исламоведческого познания являлся отказ от стремления, характерного для сравнительно-исторического ^компаративистского) метода, – толковать «исламское изменение» как вневременное, ставя главной целью анализ его форм в ретроспективе. После «Muhammedanischen Studien» и «Мекки» стало очевидным, что главное – процесс эволюции данных форм (как бы сильно благодаря этому ни начинали работать в исламистике «биологоподобные модели»). Но мы вправе утверждать и большее: руководящим для исламоведческого познания становился (и по сути своей оказывался противоположным культу «историзма», как бы горячо за него ни ратовали и Гольдциэр и другие создатели и эпигоны «историко-эволюционистской школы»13) принцип: «единственный и истинный объект исламистики – это Ислам, рассматриваемый в самом себе и для себя». Недаром поэтому Гольдциэр объявил идеалом научно-исламоведческого познания14 тот принцип, который еще в самом начале XVIII века выдвинул великий утрехтский ориенталист Адрианус Реландус: «Излагать ислам так, как он объясняется в мохаммеданских храмах и школах», – принцип, в конце XIX – начале XX вв. долженствующий быть истолкованным как не только призыв к выявлению онтологической природы термина «Ислам» без малейших привнесений иноконфессиональных и инокультурных субъективностей, но и как признание за ним, этим термином, таких смыслов и элементов, которые делают его не одной лишь «вещью», но и абстрактной (в том числе для «постороннего», европейского, наблюдателя) сущностью. Для меня в данном случае не имеет принципиального значения то, что Гольдциэром и всей вообще тогдашней «историко-эволюционистской школой»: – само это абстрактное понятие, «Ислам», не планировалось как заранее поставленная цель; – неясным был для них и механизм перехода от единичных «мусульманских объектов» к общему понятию; – не давалось логического обоснования правомерности такого перехода; – абстрагирование шло в форме, не позволявшей конкретно маркировать некоторые уникальности Ислама; – оно же провоцировало больше эмпирическое, нежели теоретическое познание, ибо делало акцент на материально-воплощенной (реифицированной) ипостаси Ислама, а не на его свойствах и отношениях (тогда как по-настоящему плодотворным надо считать иное, теоретико-абстрактное, движение – от свойств и отношений к Исламу как «вещи») и т. д. Мне пока гораздо важней указать на другое: у Гольдциэра (я беру его как основной символ историко-эволюционистского направления15 и потому, анализируя его методолого-методические воззрения, подразумеваю одновременно – за исключением особо оговоренных случаев – и это направление в целом) вырывается на передний план интенция, – никоим образом, впрочем, теоретически не рефлектирования – не только конституировать «одно сущее» – «Ислам»16 – через отношение к другому17, но и автономно интерпретировать Ислам как такой объект, глубинные характеристики которого в принципе независимы от различных специфичностей его носителей. Этим вовсе не снимается проблема взаимоотношения исламско-религиозной системы и социальных факторов – социальной дифференциации ислама, особенностей создаваемых им коммуникационных ситуаций, роли тех или иных социальных слоев и групп в активизации (или нейтрализации, ослаблении) всевозможных идейных течений под знаменем ислама и т. п. Сам же Гольдциэр великолепно показал сильное отражение политических и культурных антагонизмов в лоне раннего ислама на хадисо– и суннотворчестве; он отмечал, что социальная сущность идеи предопределения оказалась всего более приспособленной к тому, чтобы «держать народ в узде»18, и т. д. и т. д. Еще больше таких пассажей мы встретим у Бартольда (как-то раз с похвалой причислившего и Кремера19 – но явно по ошибке20 – к тем, кто признает «зависимость духовной жизни от материальной»). Но сказанное вовсе не противоречит линии – с уверенностью назову ее протоструктуралистской – на адекватное описание всех религий, в том числе и ислама, в терминах автономной структурной системы. Тем самым: – отвергается идея корреляции между уровнем сложности понятийного, символического, метафизического компонентов Ислама – понимаемого как система – и уровнем культурного и социального развития его адептов; – все решительней ставится под сомнение – как излишне жесткая – связка «Ислам – конкретный расовый дух»; – значительно лишается своей былой силы представление о «нормативной религии» и сопутствующие ему контрастивные – или конфронтационные – сравнения, с характерными для них же резко экспрессивными образами; – поэтому начинает наделяться особой ценностью все то, что можно счесть «объективизацией исследовательских методов и процедур»21, которые – имплицитно, по крайней мере, – ставят под сомнение классически компаративистское кредо, смотрящее на религии мира как на элементы единой протосистемы, подчиняющиеся в своем развитии универсальным закономерностям, обусловленным «внутренней природой» конкретного вероисповедания, а не его социальным и культурным статусом. Не отказываясь от компаративистской посылки, что в общем законы, имманентные той или иной религии, независимы от окружающей среды, Гольдциэр и его единомышленники – а во многом таковым и здесь был Бартольд – поняли еще одно из «структуралистских положений»22: тип религиозных систем может быть одинаковым, несмотря на различия в их «материальных» субстратах; вообще, «сходно» не всегда значит сходно по причине совместного или раздельного действия родства, одинаковых условий существования, отправления одинаковых функций. Сходство может быть обусловлено и системной (а не только расовой – скажем, «семитской» или «арийской» и т. д.) общностью. Поэтому у Гольдциэра [за исключением одного лишь «Der Mythos bei den Hebraern und seine geschichtliche Entwicnlung» (Leipzig, 1876), где он, отдавая предпочтение иудейской идее монотеизма перед исламской (S.320), в целом, однако, оперирует такой строящейся на бесспорном факте биологического родства категорией, как «семитская раса»23], очень мало отсылок к «расовому фактору»24, хотя у Бартольда их еще меньше. Но ведь с точки зрения любой разновидности историзма непременно должны существовать: – признаки, стойко сохраняющиеся при смене звеньев цепи «Доисламско-арабское мировоззрение О Ислам О Мусульманская цивилизация»25; а значит, – и соответствующие атрибуты домухаммедовской ментальности и социальности, их субстанциональность, системность и необходимо с нею связанные полиморфизм и изоморфизм «арабо-исламского ядра», делающие его «единством многообразия» и «многообразием единства», а равно и им, этим ядром; – объединенные воспроизводящиеся и распределяющиеся «идейные гены ислама», наконец, им же хранимые и экстраполируемые в разные участки духовной культуры и мусульманского Востока и других частей мира (особенно в Африку) исламопорождающие структуры26. * * *Вот тут-то и начинаются буквально парадоксальные неожиданности. Ведь Гольдциэр – при всей своей осторожности и сдержанности открыто объявивший себя сторонником историко-эволюционистского кредо27 – отходит от его самого что ни на есть главного атрибута – идеи непрерывности, континуальности, резко противопоставляя друг другу доисламскую и исламскую ментальности. Последняя – рисуемая Гольдциэром как преимущественно плод интеллектуально-психологической деятельности Мухаммеда, «организатора нового общества», творца «конкретных форм общественных отношений»28, – радикально несовместима с арабско-языческим этосом и мировосприятием. Поэтому Гольдциэр не признавал и за ханифизмом никакой исторической роли. Напомню тут же, что Д.С. Марголиус отрицал даже само существование в предмухаммедовской Аравии ханифизма (выводя термин «ханиф» из племенного имени Бану-Ханифа29). По словам же Губерта Гримме, «ислам в его наиболее ранней форме совершенно не следует связывать с предшествующей ему религией и посредством ее объяснять его значение»30 и т. д. Я считаю необходимым оценивать эти утверждения, – которых было слишком много для того, чтобы счесть их хаотическим залпом случайностей, а не системой, – не как в общем-то заурядные для истории исторической науки ошибки, огрехи, экстремистские варианты следствий неимоверных преувеличений того «качественно нового», что привнесли в жизнь Аравии Мухаммед и его учение31, а как осознание невозможности соединения структурного подхода (и анализа) с генетическим, историческим. Где-то уже в те времена в умах исламоведов витала мысль о том, что из всех перечисленных мной типов структур ислама – статических, динамических, кинематических, функциональных, генетических – вполне можно выделить в качестве особого типа генетические, и даже не просто выделить, но и разработать их таксономические разновидности, методы описания и анализа их развития. Но эта автономизация генетических структур уже мало что общего имеет с историцизмом32 как неотъемлемой принадлежностью эволюционизма (или даже их взаимотождественности), ибо он, историцизм, не может быть таковым без категорического признания обусловленности данного состояния процесса (то есть явления действительности, протекающего во времени) его предшествующим состоянием. В только что процитированных тезисах Гольдциэра – и особенно Гримме – доминирует намерение, не только не отрицая необходимости исторического анализа Ислама, но, наоборот, самым тщательным образом им занимаясь, судить все же об исторических изменениях этой религии как об изменениях в рамках целостной системы «Мусульманская цивилизация». О том, что на самом деле представление о ней как о «целостной системе» есть не более чем методологическая абстракция, что она ни в коем случае не является замкнутой системой взаимообусловленных элементов, – об этом обо всем Гольдциэр знал лучше, чем любой другой из предшествовавших и современных ему исламоведов. И тем не менее и он не смог не абсолютизировать метапонятие «Мусульманская цивилизация» и, следовательно, не смог перейти от исторического рассмотрения ее структур к их описанию и наоборот. Впрочем, не только им, но и всем современным обществоведением, пока еще не решена основная проблема – «проблема включения структур в процессы»33. И тут встает еще одна интересная проблема. Влиял ли на наших исламоведов Фридрих Ницше или нет – все равно, серьезных параллелей между их историологическими суждениями о Мухаммеде и ницшевской философией о «сверхисторическом человеке» (Сверхчеловеке) очень много. По Ницше, этот Сверхчеловек придает смысл каждому «моменту» мира с его полнотой и завершенностью, включая его в цепь «вечного возвращения», как будто этот «момент» существует изначально. Но его, Сверхчеловека, стремление к власти может придать значимость не всей истории, а лишь ее изолированным фрагментам. Цепь моментов не может иметь какую-либо цель или какой-либо смысл. И поскольку все «моменты» равны в вечном своем становлении и нисхождении, постольку в истории, учит Ницше, не может быть никакого прогресса34. Абсолютизация «индивидуального момента» – или определенного блока их, например, мекканского или, обычно представлявшегося его противоположностью, мединского периода деятельности Мухаммеда, или одной только его «душевной болезни»35 и т. д. – вела к тому, что и вся история созданного арабским пророком ислама не могла пониматься ни как упадок, ни как циклическое развитие, ни как прогресс. Теория истории, которая – имплицитно, во всяком случае, – выводилась из этой «мухаммедологии», была такой радикализацией историцизма, которая на самом деле означала его отвержение. Перед нами – очередной пример (наряду с концепциями Гердера, Ранке, Дильтея, Трёльча36) акцентирования самоценности каждого народа, каждой системы ценностей (в нашем случае – мухаммедовско-исламской в Аравии начала VII в.), каждой эпохи. Это есть еще одна – уже применительно к истории Ислама – абсолютизация «момента» (или – наделение статусом абсолютной автономности и уникальности какого-либо исторического периода). Итак, и в сфере исламистики историцизм оказывался чреватым релятивизмом (отсюда – и диссонирующие с моральными воззрениями либерального XIX в. оправдания множества «дурных черт» личности Мухаммеда37 и созданной им религиозно-политической системы). Это понятно: ведь всегда трудно избежать субъективизации общих категорий, в соответствии с которыми классифицируются, коррелируются, объясняются и оцениваются факты. Если историческое повествование означает, что мы выбираем наши факты согласно определенным критериям или пытаемся открыть новые факты согласно определенным интересам, – эти критерии и интересы уже означают выбор универсалий или генерализаций, согласно которым историк желает классифицировать и понимать факты. Он не может понять и оценить факты до тех пор, пока не соотнесет их с общими категориями и ценностями, и не смог бы выбрать (или открыть) факты до тех пор, пока у него в уме не будет некоей ценности – или общей категории, – с которой он вознамерится соотносить факты38. Эту общую перспективу можно назвать или гипотезой, или моделью, или идеальным типом – притом все они оказываются так или иначе «морально окрашенными». Таковым у Крымского, например, был культ расово-биологического начала, у Гольдциэра – «чистого монотеизма», у Макса Вебера – «сочетание пиетизма с решительным кантовским императивом», что и заставило его столь негативно в большинстве случаев относиться к исламу39. Вернемся в этой же связи к структурализму – или к протоструктурализму, – чтобы избежать упреков в модернизации истории исламоведческой историографии40. По словам Momiligiano, хотя нет надежды (я думаю, что здесь он чересчур пессимистичен), что структурализм спасет нас от проблематики историцизма, все-таки именно он четко напомнил, что синхроническое понимание даже более необходимо, чем диахроническое историческое повествование, и что оно обладает своими собственными предпосылками – правилами41. «Дедушка» структурализма, Теодор Моммзен, который в «Romisches Staat-srecht» дал образец синхронической истории, показал альтернативу диахронической истории «дедушки» Леопольда Ранке; Якоб Бурхкардт колебался между синхронической и диахронической историей. Momiligiano даже полагает, что при тщательном анализе выяснится: большинство вышедших за последние 120 лет важных книг по культурной и социальной истории (от Фюстель-де-Куланжа до Й. Хейзинга и Марка Блока) скорее синхроничны, чем диахроничны, ибо они базируются на стереотипах или идеальных типах. Структурализм действительно открывает более глубокие и более неизменные элементы человеческой природы; он приучает к синхроническим наборам событий42. Отсекая ислам от всей предшествующей ему истории духовной жизни Аравии, такие авторы, как Гольдциэр и Гримме явно хотели сделать «Ислам» очередным – но по примеру естествознания – предельно автономным и, главное, «идеализированным объектом», то есть объектом с конечным составом параметров, характеристик и т. п. Такие объекты не даны непосредственно, но представляют собой результат процедуры абстрагирования; они, хотя и могут формулироваться в терминах статистики и вероятности, отвечают тем не менее всем требованиям, предъявляемым к законам науки, а именно – с их помощью можно объяснить и предсказать явления, наблюдаемые в данной предметной (в нашем случае – касающейся Ислама) области43. И здесь опять-таки не надо придавать серьезного концептуального значения тому, что и Гримме – как и Гольдциэр и множество других тогдашних исламоведов44 – не видел в религиозных идеях Мухаммеда никакой оригинальности45: и для него всего более важным оказываются богатые вариационные способности исламских структур (для Гримме, при всех его печальных пророчествах по поводу будущего ислама как религии, – это «социалистический характер» первоисламского движения46), их возможности к упрощению и к усложнению, что ведет, соответственно, к развертыванию, дезинтеграции47 и к свертыванию, интеграции (т. е. к появлению единицы, функционально равносильной одной – или даже нескольким – исходным; мусульманский модернизм, например, считался во всех отношениях полноценным эквивалентом все тому же перво– и раннему исламу) и т. д. и т. д. Но: – поскольку аналогичными свойствами обладал и другой «идеализированный объект» – западно-христианская цивилизация; – постольку вполне допускалось, что между структурами ее и Ислама («Мусульманской цивилизации») может быть, несмотря на их различные материальные и духовные воплощения, установлено однозначное соответствие, в связи с чем становится возможной; – если не трансформация этих структур друг в друга, то, во всяком случае, «передача» элементов одной структуры другой. На примере беккеровской историософской парадигмы видно, что в западной исламистике конца XIX – начала XX вв. была, бесспорно, интенция к рассмотрению мусульманского Востока в антитетической соотнесенности с Западом. Но постепенно эти две противоположные по своему аксиологическому статусу половины, выступающие в ипостасях спиритуалистическо-мистической и научно-рационалистической систем, начинают в беккеровком изложении выходить из состояния полярной взаимонапряженности. И теперь уже не только западно-христианская, но и мусульманская цивилизация трактуется как субстанциональное, существующее само по себе, бытие, содержащее в себе источник собственной активности (см.: Batunsky М. Carl Heinrich Becker. P. 307). Было бы, таким образом, неверным полагать, будто в европейской исламистике конца XIX – начала XX вв. господствовал один только непреклонно-западоцентристский настрой, отрицавший, следовательно, и необходимость воспринять «хоть что-то положительное» у мусульманского Востока48. Помимо уже отмеченных выше симпатий к «истинному суфизму» и особенно феноменальных для тогдашнего Запада его устремлений к бехаизму4Э, помимо также и надежд Мартина Гартманна на успех социалистических преобразований в исламских социумах50; помимо восторгов Германа Кейзерлинга перед исламским фатализмом как признаком «не слабости, а силы», перед умением мусульманства «внушать своим исповедникам чувство превосходства»51, не могу не напомнить и о таких, еще более, наверное, впечатляющих деталях. Не только («freischwebender») философ Кейзерлинг, но и такие исправные охранители культа христианства – и, соответственно, постоянно находящие повод обругать ислам – теологи (или такие, не менее, чем они, показавшие себя искренними христианоцентристами, представители светского ориентализма, как У. Мюйру, Т. Нёльдеке) О. Паутц, И. Гаури, видели порой в исламе и образец для подражания. Так, Мюйру импонирует акцентирование исламом трезвенности52; Нёльдеке поражает отсутствие среди мусульман самоубийств53; Гаури завидует той строгой дисциплине, к которой «каждый мусульманин приучается своей религией»54; другой немецкий богослов, Паутц, признавая, что христианству недостает способности ислама воодушевлять своих приверженцев на борьбу за веру, советует воспринять исламскую тактику борьбы с фетишизмом, наконец, сопереживает (как и Шопенгауэр55), что в Европе эмансипация женщин зашла слишком далеко, и потому советует ей присмотреться с благожелательным вниманием к тому, как поступают с прекрасным полом мусульмане56. Повторяю: по большому счету у европейской исламистики конца XIX – начала XX вв. был в основном отстраненный угол зрения на мусульманские реалии; мы имеем здесь дело с эффектом двойной экспозиции, когда западная категориальная сетка и терминолого-символический аппарат накладываются на эти и прочие инокультурные явления. Но если всерьез оценить только что приведенные мной признания о наличии «положительных начал» в исламе perse и даже призывы в чем-то учиться у него – притом все это, напомню, исходило из уст самых разных по своему отношению к мусульманской религии людей, в том числе и ее принципиальных антагонистов, – то, уверен, правомерным будет следующий вывод. В западной исламоведческой понятийно-образной мысли стала крепнуть далеко не новая тенденция – смотреть на Ислам (=«Мусульманская цивилизация») и Христианство (=«3ападная цивилизация») как на фундаментально различные элементы в пределах одной и той же, единой по многим своим важнейшим характеристикам, глобальной, общечеловеческой, интеллектуально-психологической субстанции. Все религии – и особенно группа монотеистических («авраамических») верований – суть манифестации этой субстанции. И если так, то снижается значимость прежних – в том числе и вдохновленных расовыми теориями57 – бинарных и прочих неснимаемых оппозиций, трактующих ряд даже явно родственных религий как функционально противопоставленные друг другу конструкции, одна из которых («маркированная», если употребить лингвистическую терминологию) наделяется лишь положительными в основном признаками, а другая – преимущественно отрицательными («немаркированная»). Но это было, по сути, признанием: сколько бы западные исследователи – в том числе и христианско-миссионерского типа58 – ни подчеркивали многозначность, и даже условность59 понятия «Ислам», пеструю множественность интегрированных этим термином разнородных и разнозначных объектов, связей и отношений между ними, все равно предполагалось, что эта множественность обладает системообразующими качествами и, следовательно, характеризуется единством, которое выражается в интегральных свойствах и функциях множества. Эта же логико-гносеологическая установка означала и определенный переход от функционального познания «исламских единиц» – и в какой-то мере предсказания их поведения – к поиску причин того, почему это поведение именно такое, а не другое, т. е. к познанию уже более глубокому, структурному. Необходимо также особо отметить, что этот путь уже в те годы вовсе не ограничивал себя объявлением «материальных», расово-биологических особенностей наиболее существенными носителями механизмов целостного поведения важнейших компонентов системы (или метасистемы) «Ислам» – «арабо-семитского», «персидско-арийского», «тюркского» и т. д. Логико-исторический ход развития исламоведческого познания заставлял смотреть на мусульманский мир как на такую совокупность, в которой, по мере активизации в ней дифференцирующих процессов, опережающее развитие получали интегрирующие связи; повышалась степень кооперации элементов системы «Ислам», что прежде всего можно доказать ростом панисламских – и по форме своей и по сути – движений и порывов. А этот новый – «синтетический» («структуралистский») – взгляд на все, что входило в категорию «Ислам», взгляд, противоположный прежнему, механистическому, типу методологии (один из наиболее ярких образцов которого дал Кремер60), позволяет счесть значительным преувеличением тезис о «свойственной XIX веку редукционистской интерпретации ислама»61. Наверное, более точной будет иная формула: сосуществование (а порой – и хаотическое сочетание) редукционизма62 – то примитивно-архаичного, то более или менее усложненно-рафинированного (особенно в форме интеллектуализированных расовых подходов), – с признанием принципиально нередуцируемой, уникально-автономной, сугубо исламской, особенности связей и отношений между входящими в систему «Ислам» («Мусульманская цивилизация») элементами. Оно, это признание, требовало совсем иного, нежели при одной лишь ультраредукционистской установке, стиля профессионально-исламоведческих действий: сотворческо-истолковательных в общем исследовательском процессе и логикосемантических анализов основных категорий и понятийно-терминологических языков исламских культур и их адекватной «переводимости» в европейские смысловые и символические контексты. * * *Но пора уже, наверное, перейти к самому Бартольду – благо я попытался в меру сил осветить сопутствующую его трудам ту атмосферу историологических, методологических и эпистемологических63 поисков, в которой пребывала западная исламистика конца XIX – начала XX вв. Как помнит читатель, я начал главу о Бартольде с вопроса: – а были ли у него вообще какие-то – пусть и не явственно эксплицируемые, но хотя бы в конце концов более или менее просвечиваемые – идейно-эвристические опоры? – есть ли у нас право говорить о наличии в бартольдовском творчестве того, что называется Настоящей Научной Теорией? Речь идет о Теории, имеющей: – чрезвычайно сложную структуру, ибо в ее состав входят не только собственно научно-эмпирические и теоретические элементы, но также определенная совокупность методологических и мировоззренческих принципов (в частности, специфичная структура «научной картины универсума»), которая, в свою очередь, – в известной мере влияет на процедуры селекции и интерпретации фактического материала, его внутренние взаимосвязи, его релевантность популярным в те времена (или альтернативным им, еще не вызывающим к себе особого интереса) теоретическим и концептуальным схемам других исламоведов и т. д. Вопрос этот вовсе не покажется неожиданным для каждого, кто хоть мало-мальски знаком с бартольдовскими работами: вряд ли можно найти в истории не только российской, но и западной исламистики другого столь крупномасштабного ученого, который бы: – так вызывающе резко не отмежевывался от малейших намеков на политическую, конфессиональную, конкретно-философскую и прочую вненаучную ангажированность; – уже с первых шагов своей научной карьеры раз и навсегда, казалось, отстранился от будораживших все общество конфронтаций – и на злобу дня и касательно тех или иных проблем как прошлого, так и будущего; – а если и вступал в противоречие с власть имущими, то, даже при всем своем задиристом и авторитарном характере и прославленном остроязычии, лишь посредством преимущественно одной формы оппозиции – молчания (или – в послеоктябрьский период, когда все отчетливей стали появляться и в государственной политике по отношению к исламоведению64 метастазы коммунистического догматизма – в критике их in a low voice, в довольно осторожно составленных частных письмах, в узком кругу доверенных собеседников65). Изначально Бартольд демонстрировал свое органическое неприятие всех тех начинавших активничать зародышей исламоведческих теорий, которые могли и не выходить за пределы системы абстрактных понятий, не приводить к каким-либо значительным фактологическим открытиям и не иметь достаточного эмпирического подтверждения. Постоянно пропагандируя один только идеал – идеал «научной точности и строгости», Бартольд призывал отбрасывать то, что мнилось ему неверифицируемыми и эвристически бесплодными построениями66, направляя усилия исключительно на поиск новых источников и им соответствующую в полном объеме – но так, чтобы не создавался обширный разрыв между реальными объяснительными возможностями и честолюбивыми интеллектуальными притязаниями, – интерпретацию и впервые вводимых в научный оборот, и старых, в любом случае также досконально перепроверенных, данных. Доживи Бартольд до дискуссий о книге Томаса Куна «Структура научных революций», он, я уверен, стал бы опровергать ее основную идею о том, что теории, развиваемые в рамках различных парадигм, предполагают различные факты и потому несопоставимы, некоррелятивны, необъединимы. Он бы скорее присоединился к тем критикам американского науковеда, которые утверждают нечто совсем противоположное: эмпирические факты инвариантны различным теориям, относящимся к одному и тому же объекту. До конца дней своих Бартольд не желал признать, что единственный объект его педантичных изысканий – мусульманский Восток – живой, полиморфичный, полиструктурный, динамический, требует изображения стилями и красками совсем иными, чем те, которые знала благонравно-замкнутая, нравоучительная (Шпренгер, Дози, Август Мюллер – не говоря уже о христианско-миссионерской литературе) исламистика, – при всем том, что и к множеству ее атрибутов Бартольд относился с изрядной долей скептицизма. Невозможно представить себе Бартольда автором, скажем, знаменитого беккеровского двухтомника, где: – формы схематизированы, упрощены, от каждого значительного историко-культурного феномена взято самое главное и приведено к простым, легко охватываемым схемам, при всей их очевидной и особенно потаенной, которую еще только надлежит в будущем разгадать, сложности и многозначности; – детали почти отброшены, зато те, что остались на виду, все наперечет, все четко работают на общую цель; калейдоскоп многоликих впечатлений о мусульманских обществах смело переведен на обобщенный – и даже в значительной части своей условный, – но всегда, как правило, ярко выразительный язык; – вообще, мастерство лаконизации доведено до такой степени, что каждый из компонентов «Islamstudien», не заслоняя друг друга, связан с прочими единым ритмом и в то же время функционирует сам по себе; – нет сюжетного действия, а персонажи редко наделяются впечатляющими индивидуальными характеристиками; сила типизации делает все почти труды Беккера понятными и даже интересными для широких кругов неспециалистов. Равным образом Бартольд не стал бы творцом: – ни «Culturgeschichte des Orients» и многих других кремеровских штудий – темпераментных, с головокружительными порой генерализациями, с дерзкими сравнениями, с рискованными гипотезами и глобально-значимыми практическими выводами; – ни тем более «Histoire des Musulmans d’Espagne» и прочих необычайно популярных книг Дози – с их романтическо-гиперболизированными красотами стиля, с их инструментальным или нормативным использованием исторических событий в качестве позитивных (или негативных) примеров, с их нескрываемой насыщенностью морально-групповыми и политико-партийными предубеждениями67. Настаивая на совершенной точности и непреложной доказательности каждого утверждения; – полагая, что без исчерпывающего анализа всякий синтез рискует быть произвольным, – никогда не сомневаясь в том, что истина может лежать только в координатах однозначных ответов, обусловленных исключительно фундаментальностью фактов, Бартольд именно поэтому с подозрением взирал: – и на стиль «цветистый», насыщенный морфолого-синтаксическими конструктами; – и на стиль «красочный», где в изобилии представлены чувственно охарактеризованные образы, – ибо они-то и казались ему самыми действенными проводниками всевозможных не-и даже антинаучных ^политических, конфессиональных, дидактических и прочее и прочее) тенденций и «предрассудков»; – и на «метафизические термины», по самой природе своей лишенные познавательного потенциала. И значит, все они не только совершенно не нужны науке, но и, более того, могут так прочно толкнуть ее в коловращения всевозможных внешних по отношению к ней междоусобиц, что она из единственного надежного орудия поисков Единой и Вечной Истины станет рупором множества деструктивных во всех отношениях полуправд и псевдоправд. Отсюда, в частности, и скептическое, а нередко – и прямо враждебное – отношение Бартольда, как и его учителя Виктора Розена, как и других его современников из числа светских российских исламоведов (вроде Агафангела Крымского), ко многим миссионерским работам. Так, рецензируя (ЗВО РАО. T. XX. 1912. С. 082–087) ежемесячное литературно-историческое издание «Средняя Азия» (Ташкент, 1910), Бартольд требовал, чтобы редакция этого сборника, «оказывая широкое гостеприимство научным статьям об исламе, истории, литературе и быте мусульманских народов, в то же время избегала всякой миссионерской полемики против ислама»; ведь «Средняя Азия» ставит перед собой «высокие культурные цели, тем более что в выполнении этих задач принимают участие и образованные мусульмане»68. Бартольд полностью присоединяется к мнению одного из авторов рецензируемого им журнала (А. Добромыслова) о том, что «люди, имеющие миссионерские наклонности, отнюдь не должны допускаться ни на должности преподавательские (в русско-туземных школах), ни на должности инспекторские»69. И дело тут не только в неприязни Бартольда к миссионерским эйфориям – о чем я обстоятельно скажу далее, – а в том, что он вообще считал бесспорным признаком mauvais ton’а выставлять напоказ свои ценностные параметры – независимо от того, касалось ли это какого-нибудь малоподготовленного в востоковедно-профессиональном плане очередного питомца казанской исламосокрушительной школы или подлинно великого ученого вроде Рейнхардта Дози, не говоря уже о его moutons de Panurge (Панургово стадо, бессмысленные подражатели). Это – прямолинейная, радикально-элиминационистская, классически позитивистская точка зрения, со всеми ее превеликими достоинствами и столь же громадными пороками; это – линия на придание первейшего статуса анализу, а не синтезу70 – или, вернее, такому синтезу, который открыто созидается на основе пытающихся предстать концептуально легитимизированными «трансцендентных» по отношению к подлинно научным заботам философствований и этических поучений. Оправданий для отказа от монументальных генерализаций находилось обычно более чем достаточно. И прежде всего называлась как причина – надо сказать, излюбленная у позитивистов-ультрафактографов – то, что не собран еще весь материал и не опубликованы пока все источники71. Бартольд, который даже в разгар Первой мировой войны верил, что «человеческая культура еще не сказала своего последнего слова, и скажет ли его белая, желтая или черная раса, это, в сущности, все равно»72, мыслил развитие любого общества как телеологически заданный процесс постоянного обновления и приспособления к складывающимся условиям73, хотя ни на миг не сомневался в том, что и на Востоке и на Западе «законы социальной эволюции» идентичны и нерушимы, имманентны и познаваемы. Ему всего ближе была поэтому эпистемологическая традиция Просвещения, отождествляющая реальность с ее отражением в формах бытового сознания и относящая любое иное, более усложненное, представление о структуре действительности к категории «иррационализм», «мистицизм», «безрезультатное, туманное абстрагирование» и т. п. Бесчисленные монографии, статьи, рецензии, письма Бартольда кажутся стерильными не просто от философско-социологических примесей, но в первую очередь от тех, которые можно назвать «авангардистскими», – ибо последние стремились найти выход из мира привычных, институционализированных, ригидных внешних связей в мир скрытых структур тотальной экзистенции, противопоставив нормам «здравого смысла» и субъективную, принципиально-индивидуальную, систему взаимоотношений с Универсумом, и его же глубоко-объективную картину. Это были, значит, особые, бартольдовские, «идеально-методологические подпорки»; это была, следовательно, специфичная, бартольдовская, «философия истории»; это были, наконец, и неординарные, бартольдовские, культурология, эпистемология, социология, политология. Они властно требовали четкости, удобовосприятия, простоты и с силой отпихивали от себя все то, что представлялось им obscurumper obscurum, – «объяснением неясного еще более неясным». Чтобы понять подлинные причины описанного, надо перейти от анализа явных, так сказать, фигуративных, страт бартольдовской исламоведческой мысли, к воспроизведению ее же скрытых механизмов, их суггестивного смысла – механизмов, которые сами были обусловлены когнитивно-аффективными чертами личности Бартольда, ее нравственными и аксиологическими уникальностями, своеобразием статуса этого исламоведа в российском и мировом научных сообществах. В связи с этим мне хотелось бы сделать одно замечание общеметодологического порядка. Воссоздавая историю исламистики, нельзя никогда забывать о непрерывно нараставших в ней процессах радикализации и углубления философской рефлексии (в том числе и благодаря вхождению в поле ее действия новых, «ориентальных», мыслительных приращений). В этой ситуации нельзя давать суммарную оценку того или иного исламоведа как лишь социального существа – пусть в чем-то и выше «среднего уровня», – всецело детерминированного условиями того общества (или группы обществ – если учитывать его же функционирование не только в национальной, но и в мировой исламоведческой группах), в которое он «внедрен». Следует одновременно принимать во внимание и определенную самодостаточность и непроницаемость внутреннего мира ученого, давление используемых им экзистенциальных категорий саморефлексии о личном психодуховном опыте, эмоционально-интеллектуального переживания им совершеннейшей неповторимости своего интимного и профессионального бытия. И если мы проникнемся громадной значимостью этого, то тогда за холодными, лишенными, казалось бы, малейшего намека на желание зарядить читателя эмоциональным накалом строками Бартольда увидим – пусть и логически не аргументированное и понятийно не вычлененное – ощущение целой серии катаклизмов и катастроф, вызванных мало кому известным и еще меньшим числом людей замеченным трагизмом собственной судьбы. * * *Выходец из добропорядочной немецко-протестантской семьи – никогда в жизни не отказывавшийся от своих и этнического происхождения и конфессиональной принадлежности, – обладатель после смерти родителей74 такого наследства, которое сделало его в дореволюционной России не только материально независимым, но даже весьма и весьма состоятельным человеком, Бартольд получил счастливую возможность формироваться неторопливо, с мудрой силой постепенности, не растрачиваясь на «пустяки» вроде популяризаторства. Отказываясь, как правило, от него, Бартольд тем самым утверждал – хотя, быть может, и парадоксальным образом – престиж навсегда избранной им и свято чтимой профессии. Бартольд к тому же никогда не вступал в сколько-нибудь постоянное и серьезное противоборство с царской администрацией. Не имевший детей – хотя и не создавший своей научной школы в точном смысле этого слова, – он обрел исключительно благоприятные условия для занятий одной только творческой деятельностью и вообще, казалось, с рождения был «обречен на успех». Но его же с молодых лет постоянно мучил страх о грядущей вскоре смерти – страх, как оказалось, безосновательный, ибо все же Бартольд прожил более 60 лет75, – хотя, возможно, он-то и генерировал его феноменальную научную плодовитость. И все-таки был еще один, на мой взгляд, куда более существенный фактор в совокупности тех, которые позволили бы нам с предельной на сегодняшний день глубиной осознать главную черту как явных, так и латентных слоев бартольдовского мировоззрения. Я долго искал подходящий ключ к его разгадке, пока, читая и перечитывая Бартольда, не наткнулся на его характеристику востоковеда Карла Германовича Залемана. Это был, как и Бартольд, немец по происхождению (выходец из Прибалтики), лютеранин по конфессиональной принадлежности; он так же стремился честно служить России, добившись в ней исключительного научного и морального авторитета. И тем не менее Залеман постоянно находился, подобно множеству ему подобных представителей элиты российского научного мира, в ситуации душевного дискомфорта, стрессовых нагрузок, неврозов и фобий, в мучительной борьбе с навязываемым, обстоятельствами комплексом неполноценности, как вечного – а потому и в любые времена могущего быть опасным – «чужака». И я имею в виду тут не только немцев, но и таких видных ориенталистов, выходцев из еврейской среды, как Давид Хвольсон, Абрам Гаркави, Давид Гинцбург в России, а на Западе – Густав Вейль, Морис Штейншнейдер, Игнац Гольдциэр и многие другие, вынужденные постоянно испытывать на себе удары и идеологического и институционально-структурного и организационного русского, австро-венгерского, германского, французского и прочего антисемитизма. Нои российских немцев не миновала чаша сия76 – в лице столь характерного для «истинно русского духа» не только юдофобского, но и антинемецкого настроя, особенно усилившегося в годы Первой мировой войны. Именно к тому времени относятся и бартольдовские строки о Залемане – строки, в которых гораздо больше скорби о собственном жизненном пути в стране, которая доселе казалась ему настоящей родиной, чем традиционно-апологетических панегириков в честь усопшего, безусловно, заслужившего самые теплые слова о себе. Итак, в 1917 г. (ЗВО РАО. T. XXIV. 1917. С. 237–258) Бартольд пишет: остзейцев («балтов») «именовали русскими в Германии и немцами в России, обвиняли в сепаратизме и в то же время не хотели допускать к участию в общерусской жизни, считая это участие вредным с точки зрения прогрессивных идеалов. В глазах Бера (Карла фон Бера77) лучшим исходом из этого противоречия было подняться «in die hellen andruhigen Regionen des Lichtes», то есть «в сферу стоящей выше национальных перегородок научной работы». Многие «балты» стали прусскими националистами, тогда как «некоторые другие, как барон Розен… вошли в состав русского общества и перестали чувствовать себя инородцами». Залеман же «не сделал ни того, ни другого и до конца жизни оставался балтом и русским немцем, чужим в Германии… и не вполне своим в России»78. Бартольд, несомненно, хотел избрать для себя судьбу Розена – но вовсе не стремясь к «полной русификации», что в тогдашних российских условиях означало прежде всего переход в православие, – а не Залемана. Но препятствовала этому оголтелая анти-немецкая пропаганда, ведшаяся и многими интеллектуалами, в том числе и членом-корреспондентом Академии наук, видным историком И. Шляпкиным, автором ксенофобской книжонки «Немецкое зло» (М., 1915). И Бартольду приходилось, осуждая «преклонение перед иностранными учеными в ущерб русским»79, доказывать, что «коренные представители немецкой науки в России» не только не вредили русской науке, а, напротив, приносили ей значительную пользу80. «Не “немецкое зло” виной, отвечает Бартольд Шляпкину, – что в Германии, а не в России появились первые специальные органы по византиноведению… и даже по славянской филологии»81 и т. д.82. Я попытаюсь обобщить все здесь сказанное о тех – и российских, и западных – исламоведах, которые в общем-то до конца жизни оставались маргиналами в лоне самых различных европейских национальных и, более того, становившихся воинствующе-националистическими, культур. А маргиналы – у которых нередко бывает, как известно, мазохистско-шизоидная доминанта – имеют свои «защитные пояса», свои смысловые стержни, вокруг которых они воздвигают собственные интеллектуальные и эмоциональные микрокосмосы. Субстанциальная этическая позиция интересующей меня здесь группы детерминировалась тем обстоятельством, что для ее членов (конечно, в данном случае эти понятия – «группа» и «член(ы) группы» – берутся как в высшей степени условные) наука, с ее формальным первенством мерито-критических и только меритократических принципов и критериев (=«безразличных к значимости национальных, конфессиональных, идеологически партийных и прочих характеристик»), нередко становилась формой духовной эмиграции, давая выход творческой энергии, которая не могла бы успешно реализоваться через другие каналы, и наиболее эффективным средством утверждения – а по возможности повышения – собственного гражданского статуса83. При всех различиях между немцами Бартольдом и Залеманом, с одной стороны, и евреями Гольдциэром, Хвольсоном, Гаркави и т. д. – с другой, им свойственны, притом в необычайно сильной по сравнению с «немаргиналами», форме: – возражения против узкопрагматических подходов к науке, чтобы сохранить тем самым функциональную автономию своей профессиональной деятельности84; – соответственно попытки связывать перспективы научного прогресса не с широтой масштабов взаимодействия науки с вне-научной сферой (так, например, полагал Беккер), а с самими внутренними процессами научного познания, чтобы – максимально отрешиться от транснаучных – политических, идеологических, межнациональных – коллизий и комбинаций, где уже действуют совсем иные, нежели воистину универсалистские, научно-меритократические, механизмы селекции, соперничества, внутривидовой борьбы, свои законы и пути наверх и падения с вершин — и, что всего, конечно, важней, — – универсализм – и как основная историософская ценность, и как методологический регулятив, и как этическая максима, что, в свою очередь, сопрягалось со сравнительно слабой сущностной приверженностью Бартольда, например, к какой-либо, даже «своей», конфессиональной форме85. 2. Универсализм как ядро бартольдовской исламологииУниверсализм Бартольда прежде всего постулировал бескомпромиссный отход от расовых (и тем более – расистских) предпочтений – позиция, фундаментально отличавшая его от Крымского и многих западных исламоведов. Касаясь так называемой новой школы – школы Велльхаузена, Беккера, Каэтани и Ламменса, – Бартольд приводит оценку ее М. Гартманом как «шаг вперед по сравнению с направлением Гольдциэра», который «искал объяснения исторического процесса исключительно в сфере самого процесса и даже при этом оставлял без внимания некоторые существенные элементы, как, например, элемент внушения»86. Бартольд возражает: «людям идейного миросозерцания» (имеется в виду Гольдциэр и близкие к нему исламоведы) свойственны «научная объективность, философское спокойствие и терпимость». Ведь «одностороннее изучение идейной эволюции вне связи с окружающей бытовой средой все же лучше, чем мнимо научные выводы, в основу которых положены такие неопределенные понятия, как в области жизни природы – процесс изменения климата (выпад в сторону Каэтани. – М.Б.), а в области человеческой жизни – факты расовой психологии (критика в адрес Беккера. – М.Б,)»87. К Бартольдовым словам о том, что для него совершенно не будет иметь значения вопрос о том, какая раса – белая, черная или желтая – станет сохранителем и развивателем общечеловеческой культуры, добавлю и еще одни, столь же поучительные высказывания. Поскольку, утверждает Бартольд, «основным содержанием истории какой-нибудь страны является степень ее участия в мировом культурном общении», постольку «этнографическое происхождение народа и даже богатство природы имеют в этом случае только второстепенное значение, а первостепенное значение имеют для этого вопроса главным образом географическое положение страны, степень ее доступности и расположение на торговых путях»88. Более того: «один и тот же хозяйственный уклад гораздо более сближает между собой народы, чем одно и то же этнографическое происхождение»89. Сама же история – это (и данная формулировка как нельзя более логично вытекает из только что процитированного историо-логического кредо Бартольда) «результат взаимодействия человека и окружающей его внешней природы»90. К сказанному выше о том, что в общем-то Бартольд предпочитал не оперировать постоянно словом «прогресс», не вкладывать в него однозначной аксиологической нагрузки, добавлю, однако, и следующее. При всем своем скептицизме – и даже в определенной мере и агностицизме – Бартольд все же не мог не быть, в силу своего телеологическо-толкуемого универсализма, тем, кого – то справедливо, то иронически, то сочувственно – называют «прогрессистом-оптимистом». Даже в трагическом 1918 году Бартольд (в своем исследовании «Улугбек и его время») писал: «Известны красноречивые слова Дози по поводу испанских событий XI в. о том, как «сердце разрывается» при виде посрамления утонченной культуры варварами и наглыми выскочками. В наши дни эта чувствительная риторика отжила свой век, и можно говорить более спокойно о гибели того, что, как и в природе, и в человеческой жизни носит в себе самом задатки гибели. Лучшее в человеческой культуре не погибает, а передается следующим поколениям…»91 Все тот же – при том, что постоянно надо иметь в виду, телеологически толкуемый – универсализм заставляет Бартольда именно в его терминах и перспективах оценивать все существенные явления и среднеазиатской и прочих локальных историй, и, прежде всего, наделять первоважной функцией такие факторы, как культурные влияния и заимствования, активность межрегиональной торговли, развитость коммуникационной сети и, наконец, объем и прочность экспансионистских, но предназначенных в конечном счете содействовать позитивной интеграции всей эйкумены через консолидацию ее обширных зон, устремлений и установленных ими структур и механизмов власти. Так, в своей классической «Истории Туркестана» (Ташкент, 1922) Бартольд пишет, что будущность этого края «как и всякой страны, зависимо от того, какое положение будет ему принадлежать в мировой торговле»92. И если Русский Туркестан «имеет будущее, так как вовлечен в железнодорожную сеть», то Восточный (или Китайский) Туркестан, который «по физико-географическим причинам никогда не будет иметь значения для железнодорожнои сети, является исключительно страной прошлого»93. Этот – довольно, надо прямо признать, примитивный, «экономический» (или «технологический», что, в сущности, не имеет принципиального значения) – «универсалистский телеологизм» позволяет Бартольду оправдывать завоевательную политику России. Читаем: «Меры отдельных правительств к открытию и закрытию рынков, в том числе и завоевательные походы (как видим, даже военную агрессию Бартольд в данном случае включает в категорию «экономика», пусть и с этикеткой «международная»! – М.Б.), были только бессознательными шагами на пути к осуществлению все более выяснившегося исторического призвания России – быть посредницей в сухопутных сношениях, торговых и культурных, между Европой и Азией… Области Русского Туркестана имеют первостепенное значение для выполнения… задачи… установления на суше европейско-индийского торгового пути»94. Речь перед защитой своей диссертации («Туркестан в эпоху монгольского нашествия») Бартольд закончил крайне любопытными словами. Он без малейших оговорок присоединяется к мнению какого-то своего предшественника на стезе диссертанта, который заявил: «восточные народы вернее всего поверят в превосходство нашей культуры, когда убедятся в том, что мы знаем их лучше, чем они сами себя знают…»95. И хотя Бартольд любил порассуждать о необходимости «мирного сближения народов Востока с Россией» на основе «общечеловеческих идеалов»96 и т. п., все же, повторяю, и российско-имперские военные и прочие амбиции по отношению к тому же Востоку он находил исторически позитивными. Отсюда – и преклонение перед Государством (если, конечно, в нем не преобладает, как он однажды выразился, «полицейско-репрессивная точка зрения»97) как единственный способ взять на себя решение важных проблем, в том числе и в сфере культуры. Бартольд тут категоричен: «…крупные научные задачи могут быть выполнены в России только общегосударственными силами и средствами»98. Впрочем, ту же роль признает Бартольд и за английским господством над Индией. Ведь «в Туркестане, как и в Индии, по географическим и историческим причинам, выполнение исторических задач было невозможно без завоевательных походов и без хотя бы временного покорения одних народов другими». Как и полагается в таких случаях (ср. хотя бы гётевское утешение: «Разве жизней миллионы Тамерлан не растоптал?» и т. п.), Бартольд оптимистически декларирует: «…этими мрачными страницами прошлого, конечно, не закрывается путь для более светлого будущего»". Мимоходом, – ибо детально я освещу этот вопрос дальше – замечу, что этот курс на реабилитацию российского владычества в Средней Азии и, значит, на стабилизацию российской же империи как таковой делал концепции Бартольда100 (или их соответствующие элементы) вполне приемлемыми и для царизма и для Временного правительства и – несмотря на множество взаимных конфликтов – даже для большевизма. Политическая релевантность бартольдовского варианта «универсализма» другим его разновидностям – в том числе и тем, которые, независимо от характера сменявших друг друга в России режимов, упорно продолжали ставить во главу угла ее образ как «единой и неделимой» полиэтнической державы – ясно видна и из такого, казалось бы, эпатирующего шага Бартольда, как «реабилитация» исторической роли монгольского нашествия101. Согласно Бартольду, только благодаря ему Россия «вступила в более тесную связь и с Востоком и с Западной Европой и вступление Новгорода и других (русских. – М.Б.) городов в ганзейский союз стало возможным». Да и вообще «культура при монгольском иге придвигается к России, и если сравнить жизнь московскую с жизнью предшествующих периодов, например, Киевского, то увидим большее развитие по сравнению с прежним временем». Исключительно в тех же понятиях «культурных контактов», «культурного универсализма» – наделяемого им сугубо положительным значением по сравнению с «культурным локализмом и изоляционизмом» – объясняет Бартольд «отсталость России от Западной Европы». Неучастие в крестовых походах102 сузило ее духовный мир, и в итоге если на Западе «арабские сочинения переводились на европейские языки», то в России (и тут Бартольд, как и множество других тогдашних российских интеллектуалов-западников, во всю демонстрирует пренебрежение к византийству) «православие, заимствованное из Византии, было настолько сильно, что, несмотря на непосредственные сношения с Золотой Ордой и Хорезмом, не было ни одного случая прямого заимствования какого-нибудь восточного литературного памятника и перевода его на русский язык». Равным образом и в нерусских ареалах заслугой монголов явилась интеграция локальных культур в некое громадно-единое – а потому и несущее в себе исторически-позитивные последствия – целое. Еще в 1894 г. в своей работе «Христианство в Туркестане в домонгольский период (по поводу семиреченских надписей)» (ЗВО РАО. VIII. 1984. С. 1–2) Бартольд находит справедливой мысль А. фон Гутшмида о том, что монгольское завоевание повлекло за собой такое развитие сухопутных взаимосвязей, какого мир не видел ни в более ранние, ни в последующие времена. Вот почему культурные элементы, проникавшие в этот период в Среднюю Азию, «находились в постоянном соприкосновении между собой, и для того, чтобы понять какой-нибудь из них, нужно основательно изучить все (ну, чем ни пример – притом очень добротный – «системного подхода»! – М.Б.)»103. Согласно Бартольду же, Золотая Орда «по своему расположению на главных торговых путях, была культурным (вообще, в термин «культура» Бартольд обычно предпочитает вкладывать лишь то, что широко коррелирует с понятием «универсализм».-М.Б.) государством; то же относится к государству, несколько позднее образованному монголами в Персии… И если можно сказать, что Персия когда-нибудь занимала первое место по культурной важности и стояла во главе всех (? – М.Б.) стран в культурном отношении, то это был именно монгольский период»104. Интересен ответ Бартольда на следующий вопрос: «почему культура Персии при монголах поднялась на высокую ступень своего развития; объясняется ли это сознательностью персидского народа (несомненно, имеется в виду та апология персов как «творческих арийцев», которая стала занимать громадное место в современной Бартольду исламистике. – М.Б.) или влиянием монголов (т. е. представителей расы, которую трубадуры «арийского духа» относили обычно к разряду наинизших и наивреднейших. – МБ.)?» Бартольд поясняет: «…главное заключается в том, что при монголах караванная торговля достигает такого развития, какого никогда не достигала в прежнее время. Следовательно, сношения между Персией, Дальним Востоком и другими странами значительно расширяются и, кроме того, Персия и Китай подпадают под власть одной и той же ветви династии… Мне кажется, что здесь имеет значение не сознательность персидского и тем более монгольского народа, а то культурное общение, которое было принесено монголами, и которое в значительной степени объясняет развитие персидской культуры того времени»105. В корне ошибочным было бы на основе этих и близких им пассажей видеть в Бартольде какого-то вдохновленного певца «номадско-язычной стихии». Для первоначальной и ранней истории чингисхановских и чингизидских монголов он находит иные эпитеты, которые показывают, что для него понятия «культура» (или, как он предпочитал выражаться, – «умственная культура»), с одной стороны, и «кочевничество» и «примитивные формы религии» – с другой, вовсе не были однопорядковыми. Так, Чингисхан, хотя и был «одним из гениальнейших организаторов всех времен»106, все же остался (как и другие кочевники) «дикарем»107 и «верным шаманистом», несмотря «на свое сближение с представителями культуры»108. Более того: противопоставляя «кочевые народы» тем, кого он именует «культурными азиатскими государствами»109, Бартольд видит главную причину развала созданной Чингисханом суперимперии, ее «самое слабое место» в том, что не удалось «примирить несовместимые силы – кочевой быт и умственную культуру»10 (хотя все-таки, несмотря на «отрицательные стороны монгольского управления… после монгольского завоевания не только в степях, но и в культурных странах… в Китае, Передней Азии и Восточной Европе, установился более прочный политический порядок, чем тот, который мы видим в тех же странах в домонгольскую эпоху»111). Таким образом, Бартольд – и в последующем я еще раз затрону эту проблему – вовсе не отказывается от таких бинарных оппозиций и субоппозиций, как Культура/ He-Культура и Культурные народы/не– и антикультурные народы (=«дикари»). Но и «дикари» (вроде монголов) вполне могут быть бессознательными «орудиями прогресса»112, что прежде всего означает создание «более благоприятных условий для международного общения». Бартольд призывает положительно оценить и другие последствия монгольских завоеваний: «…в странах от России до Китая мы видим больше политической устойчивости после монголов, чем до них, на что, конечно, оказала влияние их система управления»113, – поскольку «содержание истории преимущественно определяется международным культурным общением, перенесением начал культуры от одной страны в другую»114. Но еще задолго до монголов, напоминает Бартольд, для Средней Азии, например, благом явились и арабские завоевания. Он пишет (в статье «К истории орошения Туркестана». 1914 г.): «Можно спорить о том, насколько арабское завоевание было благодетельно для Персии; в Туркестане оно во всяком случае способствовало прогрессу культуры. Страна вновь была объединена в политическом отношении с более культурными областями Передней Азии и вновь получила сильную власть (а таковая – конечно, в ее «гуманном» варианте – неизменно была для Бартольда одним из его идеалов.-М.Б.), которой в ней не было со времени падения греко-бактрийского государства. Вновь стали воздвигаться сооружения, требовавшие больших средств и участия большого количества людей… установилась большая безопасность, торговля и промышленность были освобождены от стеснений, неизбежных при политической раздробленности страны»115. Здесь Бартольд дает нечто вроде обобщенной инвариантной формулы тех материальных и духовных преимуществ, которые сулит любому локальному социокультурному бытию включенность в крупномасштабно-централизованную государственность, нормативно-ценностные структуры которой оказываются рано или поздно вынужденными содействовать продвижению вперед позитивной направленности общечеловеческой истории116. Чем скорее возрастет в ней значение универсалистских ценностей и норм, чем активней станут они выполнять по отношению к другим ее компонентам коммуникативно-регулятивную функцию, тем больше, полагает Бартольд, будет и оснований с уверенностью смотреть на будущее мира. Этим же подходом характеризуются и бартольдовские интерпретации роли арабо-исламского завоевания Персии. В 1922 г. (в статье «Башня Кабуса как первый датированный памятник мусульманской персидской архитектуры»//Ежегодник Российского института истории искусств. Т. I. Вып. II. Пг.-М., 1922. С. 121–125) он критикует тех ориенталистов, которые питали особое «пристрастие к древнему Востоку в ущерб Востоку средневековому» и утверждали, что распространение ислама «положило начало непрерывному упадку персидского народа во всех отношениях»117. Бартольду – которому его «прогрессистско-эволюционистские» убеждения не позволяли идеализировать прошлые стадии истории в ущерб последующим, особенно если таковые оказывались под доминирующим влиянием универсалистских верований и культур, вроде мусульманских, – эта установка Христенсена (да и других ариофилов, сокрушавшихся по поводу победы «вульгарного, семитского арабско-исламского духа» над «утонченно-персидским») кажется несостоятельной. Ведь «в действительности ислам, сокрушив политическое могущество Персии, в то же время в культурном отношении (т. е. самом важном, с позиций бартольдовской идейно-методологической платформы. – М.Б.) установил более тесную связь между Ираном и другими областями Передней Азии и этим способствовал успехам как материальной, так и духовной культуры в пределах бывшего персидского царства… только при исламе в Иране образовались большие города (т. е. генераторы и хранители культуры. – М.Б.), которые могли соперничать с городами Вавилонии, Сирии и Египта». А поскольку трудно допустить «возможность прогресса духовной культуры при упадке материальной»118, постольку Бартольд положительно оценивает то, что в Персии «господство рыцарей землевладельческой аристократии сменилось развитием городской жизни, промышленности и торговли. Равным образом персидским народом только в мусульманский период были созданы литература и искусство, имевшие влияние на другие народы»119, т. е. ценности по-настоящему универсального статуса. Но и образование империи каракитаев – которые вовсе не явились в Туркестан как носители высшей культуры – оказало «благоприятное воздействие на успехи культуры в том отношении, что содействовали сближению входивших в состав империи различных культурных элементов»120. В полемике с теми ориенталистами, которые видели в тюрках врагов культуры, а их вторжение в «образованный мусульманский мир» со времени падения иранского государства Сасанидов сочли «всемирно-историческим несчастьем первой степени»121, Бартольд полагает, что тюркизация Хорезма, например, превратила его в «высококультурную страну», что на Бартольдовом понятийном языке опять-таки означало преобладание в ней универсалистских потенций122. Беспрестанное подчеркивание паритетной функции таких трансэтнических, трансрасовых и даже трансконфессиональных процессов, как «интернациональный культурный обмен»123, «интернациональное культурное взаимодействие», «общечеловеческие идеалы»124 и т. п., становилось для Бартольда мировоззренческо-аксиологическим фильтром, не допускающим радикальных концептуальных перестроек и потому направляющим исламистику лишь на монотонно-кумулятивное, континуарное развитие и соответствующую же стандартизацию ее семиотических средств и понятийных систем. Явно чрезмерная увлеченность Бартольда над– и безличностной «универсалистской» (я беру это слово в кавычки, ибо для Бартольда «универсализм» тождественен «культуре»; но «культурными» являются не все народы и даже, как мы увидим впоследствии, не все слои и группы внутри одного и того же народа. – М.Б.) следующей жестко-детерминистским установкам парадигмой: – тормозила возможность вступления в институционализированную научную деятельность продуцирующих качественные изменения в проблемной структуре исследований подсознательных, экстра-рациональных (в том числе и тех, которые так или иначе обусловлены этно– и расовой ментальной спецификой) сил, – а значит, – блокировала также попытку свершить рывок от конвенционально-логического мышления к смелой игре Воображения, Интуиции, над всем безбоязненно поднимающегося Профетизма, к нелимитируемым правам предвидеть, предсказывать, предуведомлять, что, в свою очередь, – пресекало способности исламистики к культивированию критически осмысленного метатеоретического знания125, к перманентной философско-идеологической саморефлексии. В предисловии к своему «Историко-географическому обзору Ирана» Бартольд заявил, что при современном состоянии истории Востока как науки – «пока первоисточники большею частью остаются неизданными и неисследованными, едва ли возможно составить курс, который заключал бы в себе не только обзор внешних событий, но также научно-обоснованное объяснение исторической эволюции». Вследствие этого в Бартольдовой теории мусульманского Востока возник целый ряд смещений, приближающих ее к эмпирии (а для эмпирического же понятия основное – количественная мера, а не качественная особенность, как это свойственно понятию концептуальному), но разрушающих ее внутреннюю логическую структуру и лишающих прогностической ценности. Аналогичные – «дефилософизирующие», «дегенерализирующие» – операции не позволяют исламистике мобилизовать внутренние смысловые ресурсы терминов «Ислам», «мусульманская цивилизация» и т. п., угрожают ей опасностью: – усыхания творческо-эвристического заряда; – саморедукции к общим и абстрактным описаниям того, что уже эмпирически известно; – увековечивания лишь кумулятивных моделей истории развития Ислама – т. е. моделей типа «черного ящика», описывающих одно только функционирование уже сформированной «законами истории» мусульманской социокультурной системы, не ставя задачей познание внутренних закономерностей ее эволюции, логики ее изменения, принципов воспроизводства и т. д. Вначале создается впечатление, что: – весь бартольдовский «универсализм»; – все бартольдовское видение мира как динамики однолинейного восхождения во времени; – все бартольдовские укоренения модели аккумуляции, ценности поступательного движения и прочие наивно-прогрессистские по сути концепты, – ставят целью дать позитивное обоснование уже существующей тотальности бытия – институционально-оформленному, устоявшемуся, лабильному. Обоснование это проходит мимо конфликтов и сил, ведущих к изменению, и отвергает идеализируемое настоящее во имя еще более идеализируемого будущего. Экспансия таких историософских, методологических и эпистемологических импульсов во все, пожалуй, бартольдовские работы обусловила их определенную структурную несбалансированность – неизбежное, впрочем, следствие латентной, по крайней мере, философизации исламоведческой теории, ее аксиологической ориентированности (как бы искусно ни скрывал это Бартольд) и ее прагматических компромиссов с противоборствующими генерализациями и узкопрофессиональными конструктами и установками («чистый идеализм»; «культуррелятивизм»; «индетерминизм»; «прямая политическая ангажированность» и т. д. и т. д.). Понятие «Всемирная история» – с сопутствующими ему субпонятиями «взаимодействие», «взаимовлияние», «культурный обмен», «культурная диффузия» и т. п. – становилось у Бартольда всекоординирующей и все к себе стягивающей онтологической категорией, грозившей превратиться в захватчика, истребляющего или в лучшем случае навсегда подчиняющего себе остальные. Заявляя, что он не стремится к большему, чем к дополнительности и сопричастности локальной, национальной и глобальной историй, этот – «всемирно-исторический» – подход не мог, однако, никогда отделаться от абсолютизации не просто холистическо-монистского миропонимания, но и от отождествления (имплицитного или явного – принципиального значения здесь никакого не имело) последнего с европейско-культурным субстратом. Следовательно, лишь в терминах конвергенции и/или дивергенции относительно лишь атрибутивных ему ценностей и должна была идти оценка любых иных – неевропейских – субстратов. Объективно получалось так, что только под воздействием «авангарда цивилизации» они смогли делать переход a pose at esse — «от возможного к реальному», к «подлинному», т. е. на «передовых», европейских, идеалах и нормах функционирующему и эволюционизирующему бытию. Бартольд серьезно, судя по всему, сознавал опасность того, что и поэтому им лично написанное, публикуемое – и обычно становившееся весьма авторитетным – научное знание, по первоначальной сути своей дескриптивное, вполне может наделяться прескрептивной функцией127, не только объясняя мусульманский мир, но и решительно требуя его подгонки под трактуемые как идеальные иные – европейские – модели, образцы, схемы. В итоге Бартольд вынужден был: – в тех ситуациях, когда он отходил от логическо-формалистского ригоризма и так или иначе начинал благосклонно относиться к мысли о наличии в мире пучка альтернативных аналогий, – не только брать «на прокат» разработанные «на стороне» методологические и эвристические средства, но и зачастую – разрабатывать их самостоятельно, как бы «изнутри» специальной исламоведческой проблематики, проблематики, которую он пытался освещать в сугубо эмпирическом духе, посредством преимущественно дедуктивных процедур. * * *Для Бартольда как методолога авторитетами128 были такие типичные в его времена представители позитивистской преимущественно историологии, как немцы Э. Бернхейм129 и П. Барт130; французы Ланглуа и Сеньебос; русские Лаппо-Данилевский, Карсавин и др. Вслед за ними Бартольд предлагает такую модель исторического познания, которая, во многом имитируя модель естествознания, требовала: признания закона причинной связи между отдельными фактами; систематического расположения фактов в зависимости от выявившейся причинной связи между ними; установления объективных признаков достоверности фактов, вошедших в эту систему. Бартольд подчеркивает: «Подчинение всех фактов закону причинности – аксиома, на которой основано всякое логическое мышление; расположение фактов в систематическом порядке на основании нескольких руководящих принципов – необходимое условие для того, чтобы дать науке ту основу, без которой выводы ученого остаются только его личными мнениями, не имеющими никакой обязательной силы для других»131 и т. п. Как Бернхейм132, например, Бартольд не сомневался в том, что «историзм» с его: – ведущим принципом каузальности; – рассмотрением явлений действительности как процессов, протекающих во времени; – признанием обусловленности любого состояния процесса характером его предшествующей фазы; – упором не столько на последовательность, сколько на детерминацию событий, – в отличие от хроники; – фундаментальным отличием от мифологического (утопического и т. п.) подхода к прошлому – как каузальность отличается от финализма, т. е. как объяснение «почему» от объяснения «для чего» есть единственно верный путь для любого историка, в том числе и для историка мира ислама. Но Бартольд не заметил того, что уже остро ощутил Беккер, попытавшийся поэтому найти выход из эпистемологического кризиса, в который вовлек исламистику позитивизм, в обращении к неокантианским исканиям – не заметил внутреннего кризиса историзма, и прежде всего противоречивости понятия «исторический факт», доселе принимавшегося как нечто незыблемое. Для тривиального историзма «факт» оказался функцией концепции, исторической схемы, причем именно в силу того, что наложение концептуальной системы на фактологию происходило, как правило, неосознанно133. В роли такой системы выступила определенная комбинация трансформированных мифологических и утопических конструкций, причем именно их телеологических лейтмотивов. Так и у Бартольда прогрессизм – претендовавший на объективное, «идеологически нейтральное»134 выражение реальности исторической динамики мусульманского Востока – оказался переодетым финализмом135, как бы усердно ни смешивал он разнородные процессы функционирования и развития, а также разные типы каузальной обусловленности (динамической и статической). Идейно-методологические системы, подобные бартольдовской, всего легче было бы сравнить с «кентаврами», совмещающими несовместимые аспекты (детерминизм и индетерминизм, синхронию и диахронию, функционирование и развитие и т. д. и т. д.), или просто-напросто отмахнуться от них как от еще одного порождения эклектизма. Но наверное, точнее было бы их окрестить «вервольфами» («оборотнями») с разными, но одновременно действующими ипостасями. Бартольдовский «универсализм» – с его возведением в наивысшую ценность «детерминизма», «каузализма» и прочих манифестаций «историзма» – несовместим, конечно, со структуралистско-синхроническими идеями и методами. Но я уже отмечал, что фактически это противоречие нередко исчезает у Бартольда – результат его сознательного желания отойти от европоцентристских трюизмов, и его неэксплицируемого, скорее стихийного, инстинктивного, самодвижущегося и самодостаточного, творческого поиска «историка именно как Историка», не желающего признавать никаких внеэмпирических указателей и регулятивов, никаких ими же диктуемых аксиологических делений общечеловеческого массива136. Как и всякого по-настоящему честолюбивого историка, Бартольда манила возможность найти такую точку, откуда весь культурно-исторический континуум предстал бы как единое поле структурных подобий, как гигантско-величественная в своей принципиальной однородности Синхрония. Поэтому: – нет никаких привилегированных «центров» консервации и фонтанирования за их пределы тщащихся стать тоталитарно-универсалистскими «смыслов»; – вся История лишается какого-либо фундаментального значения и в минувшем, и в нынешнем, и особенно в будущем; – органически свойственный такому пониманию ее онтологический редукционизм сводит, под предлогом демифологизации и унификации, противодействующие силы к одному знаменателю, и тем самым – общая основа, общее «бытие» объединяет противоположности, сводит их борьбу на нет137. Тут, впрочем, начинает проявляться еще одна коллизия. Мир, разумеется, остается полицентричным, и это обусловливает – в терминах структурно-синхронной методологии – актуальную связь явлений. Одновременное (по меркам «Всемирной истории»138) возникновение двух или нескольких событий (или порождающих их «центров» – скажем, на мусульманском Востоке это Ближний Восток и Средняя Азия) означает, что они могут быть связаны между собой не как причина и следствие, а через свое, говоря словами Юнга, «видимое, очевидное» значение. С одной стороны, перед нами – послушное следование принципу синхронности (по Юнгу, он – характерный признак «восточного мышления»); с другой – не только ольденбурговская, но и бартольдовская историософия плодотворно работала на пользу и евразийства – или его в достаточной степени серьезных дубликатов. Но евразийство базируется не только на этом принципе, который, повторяю, исключает телеологичность. Оно, евразийство, и телеологично: с его точки зрения, экзистенции Востока и Запада должны совпасть в будущем в пространстве и во времени, означив нечто большее, чем только случайность139. Но это и не каузальность как атрибут «западного мышления». Таковое же обязательно предполагает признание дихотомий, причем главная из них – Субъект/Объект – имеет как частный свой случай европоцентристскую интерпретацию дихотомии (или «субдихотомии») Запад/Восток. Вновь вспомню тут о Беккере; для которого все же «последним объектом онтологической озабоченности Homo Islamicus должен явиться только Запад. Он предпочитает рассматривать мусульманский Восток в свете идеи Запада и при условии полагания этой идеи. Идея же мусульманского Востока должна быть западно-центристски фундирована, т. е. выведена из идеи Запада, которая и есть «ключ» для выявления сущности мусульманского Востока. Из самого себя, уверяет беккеровская историософия, мусульманский Восток не может быть ни объяснен, ни определен, поскольку он есть только «между», «граница», «переход» в общем гигантском потоке мировой культуры»140. Я с уверенностью отношу эту характеристику и к Бартольду. Но нельзя ограничиться лишь ею – так же как и констатацией противоречий между детерминистско-каузальным «универсализмом» западно-дихотомического образца и «восточно-синхронным мышлением». Как бы это ни показалось вначале неожиданным, даже если бы у Бартольда не было прорывов в сторону синхронно-структуралистских (=«в значительной степени и культуррелятивистских») моделей, все равно под его пером даже самый обедненный вариант «универсализма» заиграл бы совсем иными гранями и привел бы к вовсе уж не запрограммированным вначале методологическим и эпистемологическим результатам. Бартольд множество раз заявляет о том, что он – антагонист европоцентризма141 (соответствующие цитаты я приведу дальше; пока мне важней всего дать предельно генерализованный образ бартольдовской историософии – гораздо, как видим, более сложной и многозначной, чем это кажется при беглом ее восприятии). В качестве такового Бартольд – сохраняя при этом все почти мыслительные навыки универсалистских программ Просвещения и либерально-позитивистской историографии XIX века – предпринимает ревизию внушительного ряда исходных и, казалось бы, давно и надежно кристаллизовавшихся категорий и установок. Бартольд пытается: – эмансипировать комплекс законов генезиса и функционирования столь значимой части земного шара, как мусульманский Восток, от веками окружающего их мистического ореола априорных синтетических суждений; – снять трудности в процессе их индуктивного (ибо он уже осознает неполноту одних только дедуктивистских процедур) обоснования и тем самым – проложить путь к истолкованию драматических изменений, надвигающихся и на Европу, и на мир ислама. Историософско-методологическо-эвристическое ядро бартольдовской системы научного знания поэтому не только не выставляет себя как «блестящий изоляционизм», а, наоборот, проявляет сильные агрессивные наклонности, пытаясь отторгнуть у своих концептуальных конкурентов те или иные теоретические элементы (например, от марксизма – «экономизм», «социологизм», или «интегратизм», ведущий к некоторому обесцениванию человеческого аспекта истории), дабы перетолковать их в соответствии с собственной – формальной логикой – однолинейной преемственности в потоке истории. Ассимиляция этих «чужих» фрагментов ситуационна и субъективна, но тем не менее она вовсе не означала, что бартольдовская идейно-методологическая основа есть неоригинальная, эклектическая смесь, поскольку в формальном плане она не содержала в общем-то ничего нового. Ведь, как уверяет Артур Кестлер, творческий процесс не является актом творения в ветхозаветном смысле. Он не создает ех nihilo, а раскрывает, выбирает, переставляет, комбинирует, синтезирует уже существующие и известные факты, идеи, способности, навыки. Чем более знакомы части, заверяет Кестлер, тем более поразительно целое142. Творчеством могут быть названы поэтому и результаты репродуктивного мышления, т. е. перенос уже известных и используемых в другой культурной среде инноваций и т. д. Еще раз напомним, что и у Бартольда эти инновации были сплошь западного происхождения, и, удовлетворившись утешающей кестлеровской вариацией на вечную тему «Что же такое в конце концов Творчество?», приведу – опять-таки в пользу Бартольда (да и других тогдашних российских исламоведов) – и мнение современного науковеда Ладриера. Концептуальная система, полагает он, не может быть исчерпывающим образом описана с помощью суммы четко сформулированных положений. Рядом с ними всегда в неявной форме присутствуют несформулированные предположения эпистемологического и онтологического планов, характеризующиеся различными степенями общности, но тем не менее играющие зачастую более важную роль, чем эксплицитные положения теории143. Пожалуй, именно они-то и взяли на себя регулирующую функцию в такой интегрированной общности, как бартольдовская исламология, в которой за устаревшей, времен классического позитивизма, метафоричностью, его же догматом «все приходит извне», его же «механической каузальностью» как плодом ультра-экстравертивного подхода – таится серьезная, и во многом успешная, попытка преодолеть иллюзию монофакторного («экономика»144, «раса», «природные условия»145 и т. д.) детерминизма и создать новую, многофакторную, теорию. Бартольд в этом вопросе оказывается решительным: «…жизнь не может быть вложена в готовую схему… и… попытки объяснить все явления жизни как результат действия одного, хотя бы главного фактора, обречены на неудачу»146. К сказанному выше о богатых позитивных перспективах многофакторной теории добавлю тут же и то, что нестандартность современных научных дисциплин – в том числе и исламистики, особенно в ее структуралистском варианте, – выражается именно в многоаспектности описания, в невозможности рассмотреть многообразие используемых научных данных с точки зрения одной фундаментальной теории. Плод такого подхода – конструирование гетерогенных объектов, представляющих собой совокупности разнородных аспектов. Общим для гетерогенных объектов является то, что их многоаспектность «носит принципиально логический характер, а не координатный»147. Следовательно, как мне представляется, снимается проблема иерархичности и «факторов» и «гетерогенных объектов» (скажем, таких – в бартольдовском описании – целостностей, как «Средняя Азия», «арабский ареал», «турецкий ареал» и т. д.). В терминах многофакторной теории политико-идеологические, культурные, духовно-ценностные явления преподносятся как автономные и рядоположенные «факторы» (и «гетерогенные объекты»), которые зафиксированы, но не включены в целостную, из единого принципа развитую, систему понимания общественной жизни. Свои модели социума и человека Бартольд все время стремится идентифицировать с реальным миром мусульманского Востока – причем, как я подчеркивал выше, последний подчиняется тем же историческим законам, что и Запад (о том, что и мир ислама входит, согласно Бартольду, в ту же категорию – Запад, – я скажу подробнее ниже). Эти законы имманентны Востоку изначально, а не привнесены на него Западом, и наоборот. Иное дело, что Запад навязывает Востоку свой способ бытия, проектирует на него свою рациональную структуру, демонстрируя тем самым презрение к потенциям иноконфессиональной и инорасовой цивилизации. Предшествовавшая Бартольду классическая исламистика XIX в., моральное сознание которой с безнадежностью встало перед непоколебимой стеной принципа «логической необходимости сущего», стремилась не столько к постижению уникальных неповторимостей и мусульманских и западных культур, сколько к поиску такой «интегральной гармонии» исламской и европохристианской систем (ища для этого мосты то в мистике148, то в самом исламе как необходимой ступеньки для грядущей христианизации и вестернизации149), где их индивидуальные элементы оказались бы нивелированными (ибо были бы неизбежно смоделированы по европейским стандартам). И хотя такого рода «статическая нивелировка» не была категорическим отрицанием буквально всего «локального», тем не менее установка на поиск, акцентирование и, главное, увековечивание специфически нередуцируемых начал оказывалась на заднем плане картины мира. Этот «статический оптимизм», – т. е. удовлетворенное ощущение завершенности в основном хода исламоведческого познания (вспомним обнадеживающие заявления Ренана150, Шпренгера, Нёльдеке и других о том, что ислам «родился при полном свете истории» и что законы, обусловливающие его рождение и последующее развертывание, в принципе известны и неизменны); – благожелательные в общем оценки установившегося modus vivendi («ислам смирен; Запад будет господствовать над ним, заставляя мусульманские народы следовать по своим стопам») вели к – отказу от признания за мусульманскими социумами способностей к автономному, т. е. «вне-западному», развитию своих позитивно-креативных способностей и т. д. Бартольд то склоняется именно к этому курсу, то делает крупные от него отступления, мучимый желанием в быстрой смене исторических событий, в богатом разнообразии деталей вычленить и некую универсально-благую целесообразность, и совсем ей не желающие подчиняться формы неповторимо-локальных экзистенций – формы разнообразные, стойкие, даже плодящиеся и никак поэтому не собирающиеся перейти в статус реликтов. С одной стороны, «вопрос о прогрессе и регрессе и в истории Востока нельзя решать… легко и… между Востоком и Западом… как еще и ныне (написано в 1912 г. – М.Б.) часто полагают». Из этих слов можно было бы заключить, что Восток совсем необязательно должен подчиняться тем же историческим закономерностям, что и Запад (хотя возможен и обратный вывод – так уж неопределенными оказываются, при всей кажущейся простоте и четкости, бартольдовские рассуждения «на общую тему»), – это «без утраты своего национального достоинства» усвоить «достижения европейской культуры». И, лишь доказав структурную общность мусульманской и европейской цивилизаций, можно будет найти действенные пути распространения на мир ислама европейского влияния151. Еще в самом начале своей научной карьеры, в 1891 г., Бартольд информирует Розена о своем намерении включить в глобально-дифференцированную цепь эволюции – эволюции, текущей в соответствии с едиными для всего человечества образцами и нормами, – и такой регион, как Средняя Азия152. Как и следовало ожидать, основным своим методологическим орудием Бартольд избирает компаративизм. «Едва ли кто-нибудь, – пишет он, – сделал попытку рассмотреть хоть часть истории Средней Азии при помощи сравнительного метода, с приложением тех законов исторического развития, которые выработали для истории Европы»153. И спустя много лет, во втором издании своей «Истории изучения Востока в Европе и в России», Бартольд доказывает, что и Средняя Азия, и весь вообще мусульманский Восток – это единство, характеризующееся не столько ригидностью и инерционностью, сколько потенциалами к разносторонней динамике. Он поэтому восстает против ставших стереотипными мнений, будто «народы Востока не имеют и никогда не имели истории в собственном смысле этого слова и что поэтому методы изучения истории, выработанные европейскими историками, к истории Востока не применимы». Но тот – бесспорный для Бартольда – тезис, что «в Европе и в Азии действуют одни и те же законы исторической эволюции»154, тезис, прямо нацеленный против тех, кто, абсолютизируя особенности мыслительных структур мусульманских культур, искусственно «удваивал» мир, навсегда сепарируя друг от друга европо-христианскую и исламскую цивилизации, – вовсе не означал необходимость их, этих цивилизаций, отождествления. Как я позднее дам возможность читателю самому в этом убедиться, Бартольд все-таки ставил христианство выше ислама и даже «индоевропейскую (арийскую)» расу оценивал как куда более значимую, нежели остальные. Словом, завет Тьерри – историк должен «различать, а не смешивать», Бартольд выполняет самым усердным образом, просвечивая абстрактные, «всемирно-исторические законы» через локальные, так сказать, приземленные, конкретно-чувственные картины. Такая эвристическая линия глубинно предполагала тотальное неприятие миссионерских и ультра-европо-центристско-гипер-ассимиляторских установок – и не только потому, что Бартольд, Розен, Крымский, Беккер, Мартин Гартманн, Гольдциэр и многие другие, стоящие на той же (как они именовали ее обычно – «антиклерикальной», «государственной», «секуляризаторской») позиции, ясно видели бесперспективность попыток радикально «трансформировать» Ислам и его последователей по иноцивилизационным, особенно иноконфессиональным, шаблонам. Мне кажется, что причину этого разрыва надо искать и в осознании неадекватности прежней эпистемологии вообще. В самом деле. Когда миссионеры (или – что в данном случае одно и то же – гиперассимиляторы) определяли ислам (или другую нехристианскую религию и имманентную ей культуру), то они, по сути дела, фиксировали не ее признаки, т. е. предикаты, а то, во что она в состоянии превратиться. Сказать, что ислам – это возможное христианство, означает то же, что христианство – это возможный ислам. Такое определение логического субъекта вскрывает его дву-субъективность и указывает на ту ситуацию, когда исследователь, двигаясь в рамках старой теории, – всецело исходящей из христиано– и западоцентристских, т. е. абсолютных, точек отсчета, построенной на таких же исходных аксиомах, на таких же исходных понятиях анализируемого объекта, – подходит к той границе, за которой необходимым оказывается преобразование самих этих исходных аксиом и понятий. В противном случае «предмет» – ислам (или, напротив, христианство) – лишь оборачивался иным «предметом» (соответственно – христианством или исламом), не будучи в состоянии раскрывать множество своих свойств, вовсе не предназначенных – если, конечно, не руководствоваться телеологическими критериями – для того, чтобы всегда быть готовыми к «метаморфизации» и самое себя и всей той системы, которую они представляют. Несомненно, поэтому Бартольд, при всех его универсалистско-телеологических лояльностях, и стремился в первую очередь понять и европейскую и мусульманскую цивилизации как объекты и сами по себе, как объекты и самодействующие, не тождественные, не взаимосливающиеся и друг друга во всем повторяющие, поскольку иначе теория «всемирно-исторического прогресса» (или, если угодно, «эволюции») приняла бы характер не столько закона необходимости, сколько аксиологического долженствования. В речи перед защитой своей докторской диссертации (1900 г.) Бартольд счел целесообразным еще раз выразить свое несогласие с теми, кто «произвольно вносит в историю Востока понятия, вынесенные ими из изучения истории Европы». Если воспроизвести вкратце суть Бартольдовой историософии – или, вернее, ее самый зримый, тщащийся представить себя ведущим, пласт, – то она будет в первую очередь означать: – всякое историческое общество имеет свои «разумные основания»; – оно не было ни случайным, ни абсурдным, ни излишним в коллективной биографии человечества; и, следовательно, – историк не должен отвергать ни одну из культур и субкультур, судя о них по «современным» или же иноцивилизационным этическим и прочим идеальным критериям. Любопытна в данном контексте бартольдовская оценка книги: Cahun L. Introduction a l’histoire de l’Asie. Turcs et Mongols des origines a 1405 (P., 1896)155. В ней тюрки и монголы наделены многими добродетелями, однако в упрек им ставится то, что они не смогли «переработать элементы персидской и китайской цивилизаций» и создать на основании их собственную национальную культуру. Бартольд возражает: «Автор (Cahun. – М.Б.) не представляет, что эта неспособность объясняется не природными, расовыми особенностями тюрков, но привычками, вынесенными ими из другой жизни в степях и последующей истории их, всегда требовавшей напряжения всех наличных сил для военных целей и никогда не оставлявшей им необходимого досуга для мирной культурной работы»156. В той же своей – воистину программной – речи Бартольд недвусмысленно причисляет себя к «новой школе ориенталистов-историков», основателями которой он называет Вейля, Шпренгера, Дози и особенно Кремера (хотя позднее – о чем я скажу далее – стал к ним гораздо более критичен). Ни Гольдциэр, ни Снук-Хюргронье – т. е. те, кто создал во многом радикально отличное от только что перечисленных исламоведов направление, – здесь Бартольдом совсем не упомянуты (в дальнейшем он о каждом из них говорил с большим уважением157). Наконец, не было сколько-нибудь солидных причин для того, чтобы объединять в одну группу, скажем, Кремера и Дози, Шпренгера и Вейля158. Но по-видимому, Бартольда в данном случае всего более привлекло у них иное: то, что они (приводится кремеровская характеристика этих авторов) «показывают нам, как постепенно создавалась история восточных народов; мы видим восточных людей в их будничной одежде, не в том театральном костюме, в который их облекали прежде. История Востока утрачивает свой фантастический ореол, но зато получает характер изображения действительной жизни народов; мы видим, что люди везде одинаковы159, что различие между культурой Востока и культурой Запада вполне объясняется тем, что умственная работа восточных народов была направлена обстоятельствами на другие пути, прибегать к априорным предположениям об основных различиях между натурой восточного и натурой западного человека, о неизгладимых расовых особенностях нет никакой надобности160. Научное объяснение истории Востока необходимо уже потому, что иначе законы, выработанные только на основании истории Европы, неизбежно будут страдать односторонностью и не будет достигнута конечная цель исторической науки – выяснить законы, которым подчиняется жизнь всего человечества»161. Бартольд не скупится на все более и более лестные комплименты «новой школе», опять ее значительно идеализируя, во многом неоправданно приписывая ей те достоинства162, которыми она либо вообще не обладала, либо владела не в столь уж большой степени по сравнению с ее предшественниками, и одновременно закрывая глаза на ее реальные и очень большие недостатки. «Ученый этой школы, пишет Бартольд, вносит в изложение истории Востока свет европейской науки, но не превращает азиатов в европейцев и старается в своих выводах исходить из подлинных выражений первоисточников; при объяснении политического устройства, социальных и бытовых условий удерживается восточная терминология, без произвольной замены ее европейскою. Изучение восточных историков уже не рассматривается только как средство получить добавочные сведения о тех или других событиях европейской истории; история Востока получает характер самостоятельной отрасли исторической науки, и ее выводы принимаются в расчет при объяснении всемирно-исторических процессов. Убеждение, что человек по своей природе везде одинаков и что только условия его исторической жизни, создающие влияние наследственности (очевидно, надо понимать как «влияние традиций»; «власть традиций». – М.Б.) делают его тем или другим, исключают высокомерное презрение к народам низшей культуры (напомню, что Бартольд вполне признает деление культур на «высшие» и «низшие». Есть у него даже такое понятие, как «некультурные народы»163. – М.Б.). Проникнутый этим убеждением, историк вносит в свой труд ту симпатию к людям, которая отнюдь не мешает объяснить темные стороны исторической жизни и без которой не может быть плодотворной научной работы»164. Да и сами эти «темные стороны» могут в конце концов оказаться, если их с наивозможной объективностью проанализировать, совсем иными. Так, Батый в глазах русских летописцев был только «лютым зверем»; а между тем он не только получил от самих монголов прозвание «доброго хана» (саин-хана), но «прославляется за свою кротость, справедливость и мудрость мусульманскими и армянскими писателями, нисколько не расположенными хвалить монголов. Как об исторических деятелях, так и о народах мы можем правильно судить только тогда, когда имеем сведения о их жизни в различных ее проявлениях; произнесение приговоров над деятелями и народами на основании отдельных фактов и отдельных сторон их деятельности – прием безусловно ненаучный, к сожалению, встречающийся и у новейших историков»165. Надо, призывает Бартольд и спустя пятнадцать лет, «деятелей прошлого… брать такими, какими они были; иначе они и не могли бы выполнить свое историческое назначение»166. Что тут перед нами еще один – и притом самый что ни на есть явственнейший – поворот в сторону культуррелятивизма (от чар которого не сможет никогда, наверное, избавиться никто из «настоящих историков») – факт, я полагаю, не нуждающийся в особых доказательствах. К тому же Бартольд из того – рожденного давлением духа времени, как любил некогда выражаться Шпренгер167, – комплекса факторов, который определял деяния разноранговых исторических персонажей, совсем исключает роль и расовой и даже специфически этнической ментальности. Если и есть «национальная психология», то она, согласно Бартольду, довольно часто воодушевлявшемуся еще в предреволюционный период тем, что напоминало «исторический материализм» или нечто ему близкое, трансформируется в зависимости от изменения коренных условии жизнедеятельности168. В другом месте (статья «К вопросу об языках согдийском и тохарском» // Иран. T. I. Л., 1927. С. 25–41) Бартольд критикует В.П. Наливкина – некогда известного в Средней Азии русификатора и христианизатора – за то, что тот (в своей книге «Туземцы раньше и теперь». Ташкент, 1913. С. 28) полагал, будто «ни большая склонность к торговле, ни большое число лиц, занимавшихся ею, не сделали в то время (до русского завоевания) среднеазиатцев финикийцами». Но ведь сам Наливкин признает на с. 97 и следующих («Туземцы…»), подчеркивает Бартольд, что «неподвижность и робость» стали исчезать «по мере изменения общих условии жизни»169. И тут-то можно подробнее поговорить о заимствовании Бартольдом некоторых категорий и терминов из тех идейных конструкций, которые обыденное сознание обычно воспринимает под одной этикеткой – «марксизм». Уже в 1899 г., в упоминавшейся мною рецензии на книгу Н.А. Аристова, Бартольд говорит о «классовой борьбе», о том, что сколь бы ни была важна политическая история, не менее существенно изучать и «весь строй жизни народов в различные периоды»170. Ее же ход, писал Бартольд тремя годами раньше, «определяется преимущественно, хотя и не исключительно, экономическими условиями». В связи с этим необходимо анализировать процесс «развития земледелия, промышленности и торговли»171. В 1912 г. (Мир ислама. T. I. С. 425) Бартольд упрекнул своих предшественников-исламоведов в том, что «предметом их исследований оставался до конца мир идей (аналогичная критика была повторена им в некрологе И. Гольдциэру. – М.Б.); эволюция рассматривалась вне связи с явлениями хозяйственной и политической жизни», безотносительно к вопросу «насколько теоретическим построениям соответствовала действительная жизнь народных масс в разные периоды мусульманского мира» и т. п. Тем не менее в целом к марксизму – да, пожалуй, и ко множеству акций советской власти, при которой он прожил почти 13 лет, – Бартольд относился настороженно172, до конца жизни своей комбинируя приверженность либерально-индивидуалистическому этосу с верой в благотворность доминирования европогенных централизованно-государственных структур над Востоком. В советской прессе 20 – начала 30-х годов – особенно в той, которая выходила в восточных республиках, – было немало обвинений в адрес Бартольда за его «апологетику колониализма»173. Но ведь потом, когда официальная идеология избрала совсем иной курс – курс на демонстрацию «прогрессивных последствий» вхождения мусульманских регионов в состав Российской империи, – отношение к Бартольду стало в целом благожелательным174. Ныне же произошло большее: Бартольд почти канонизирован советской ориенталистикой (М. Батунский писал это еще в период существования СССР. – Прим. ред.), и я опять-таки склонен объяснять это и тем, что его «универсализм» (а следовательно, и тяга к детерминизму175 – тем более что, по Бартольду, нет «принципиального различия» между конечными целями естествознания и исторической науки176) оказался созвучен как ряду формальных аспектов «марксистского интернационализма», включая и имплицитное оправдание имперских механизмов177, так и характерным для многих представителей современной отечественной науки космополитическо-либеральным установкам. Если же говорить о тех компонентах бартольдовской историософии, которые ее либо недалекими, либо цинично-конъюнктурными истолкователями преподносятся в качестве «марксистских» (или в той или иной степени «отражающих влияние марксизма»), то они, эти компоненты, генетически отнюдь не всегда восходят именно к марксизму. Ведь все то, что по этому вопросу писал Бартольд, для мировой (я подчеркиваю – «для мировой», ибо российские исламоведы и здесь опоздали по сравнению с их западными коллегами) исламистики вовсе не было чем-то совершенно неожиданным. Проблемы социальной дифференциации мусульманских обществ, сложных взаимозависимостей между сферами экономики, с одной стороны, и культуры и политической борьбы – с другой, отражения тех или иных групповых и сословных интересов в казавшихся порой совсем оторванными от земных треволнений теологических, философских, даже безудержно-мистических и прочих движениях и в отражавших их текстах – все это западные исламоведы исследовали еще до марксизма, независимо от марксизма и вопреки марксизму. В различных пропорциях мы найдем и эти проблемы и ответы на них и у Алоиза Шпренгера, и у Альфреда Кремера – у него, конечно, особенно, – и у Мартина Гартманна, и у Карла Беккера, и у Леонэ Каэтани. Формы этих «проблем и ответов» были, конечно, самые разные – в том числе и довольно примитивные178. Но все эти исламоведы никогда не абсолютизировали роль «экономики» (а тем более – «классовой борьбы», «социальных антагонизмов» и т. д.) или какого-нибудь другого «фактора». Для них «ни у одного из элементов социальной системы нет фундаментального приоритета перед остальными в качестве движущей силы исторического процесса. Теоретически они равны, и только эмпирически тот или иной элемент (экономика, или религия, или политика) начинает в определенных условиях играть превалирующую роль» (см.: Batunsky М. Carl Heinrich Becker… P. 246). В общем-то этот подход присущ и Бартольду. * * *Элиминируя роль биологических факторов (расово-этнических уникальностей как дифференциаторов и Запада и Востока, и одного какого-нибудь восточного региона от других), Бартольд в то же время отвергает евразийство179, хотя оно имело основания считать его одним из своих союзников, и, главное, целеустремленно проводит мысль о постоянном, активном и во многом автономном функционировании ряда мощных локализованных очагов хранения и расширения мусульманской цивилизации. Этот процесс протекает (я тут воспользуюсь современной терминологией) по типу «полифонического» (или «гетерархического») объединения религиозно-культурных и политических элит мира ислама, подчас неразрывно связанных между собой, но все же не имеющих фиксированного «центра управления». Вследствие этого Бартольд и выступает против старозаветной направленности мусульмановедческой литературы к «арабо-центризму» (или – шире – «ближневостоко-центризму») в трактовке исламом интегрируемой и освящаемой цивилизации, справедливо полагая, что тем самым принижается историческое значение зон остальных территорий «господства полумесяца» – в частности, среднеазиатских. И если и удалось – благодаря прежде всего методологии «новой школы» – в подлинно научном свете представить наиболее важные феномены прошлого и настоящего арабских стран, то «для истории Средней Азии до сих пор не сделано ничего подобного»180. А ведь история и ее и тех других регионов, «где исламу пришлось выдержать борьбу с другими культурными элементами, представляет отнюдь не меньший интерес; столь же необходимо, для целей объяснения хода всемирной истории, дать научное объяснение хода истории народов (имеются в виду монголы. – М.Б.), в среде которых была выработана военная организация, послужившая потом образцом для культурных стран»181. Бартольд очень часто подчеркивал, что русская наука должна сконцентрировать творческие – и культурно-организационные – умения на изучении тех восточных областей, которые «географически и исторически более близки России, чем другие восточные страны», где «русский ученый располагает материалом гораздо менее доступным западноевропейскому» и т. п. Но в своей – написанной в советское время – «Автобиографии» (Огонек. М., 1927. № 40. С. 14) Бартольд счел нужным особо предостеречь против того, что «русское востоковедение стало более примыкать к западноевропейским, чем к русским традициям». Этот процесс, признает он, имеет и положительные стороны. Тем не менее отрицательных оказывается больше: «отказываясь от изучения северных окраин древневосточного тюркского и буддийского мира ради изучения основ культуры (если речь идет о мусульманской, то, очевидно, одновременно имеется в виду и та тенденция к «арабо– и ближневосточно-центризму», о которой я уже упоминал. – М.Б.), русское востоковедение вместе с тем отказывается от внесения в европейскую науку нового материала и соглашается довольствоваться разработкой материала, уже затронутого западноевропейскими учеными»182. Бартольд огорчен тем, что хотя «Россия имеет сношения с мусульманским миром постоянно… а если возьмем литературу об исламе, то оригинальных русских произведений почти не найдем. Русские ученые следуют взглядам, установившимся на Западе, которые долгое время держатся у нас, иногда даже после того как они были оставлены там»183. В этой же – посвященной Бартольду – главе, я доказывал, что он (как и многие другие «маргиналы») был против узкопрагматического подхода к исламистике, справедливо опасаясь, что тогда она потеряет свой с таким трудом приобретенный научный характер, и верховодить в ней станут люди с националистическо-этатистскими ориентациями, легко поддающиеся веяниям политической конъюнктуры, стремящиеся угодить властям и т. д., – словом, антиподы ученым типа самого Бартольда. Но утверждать, что он сам принципиально избегал «прикладных проблем», было бы неверно. Бартольд довольно активно откликался на многие практические вопросы деятельности колониального аппарата в Средней Азии, подвергая ее зачастую критике, – но критике конструктивной, содержащей в себе и ценные рекомендации. Так, в 1893–1894 гг. на страницах газеты «Окраина» Бартольд высказался против введения в Туркестане института земских начальников; учитывая местные традиции, он настаивал на восстановлении локального эквивалента суда присяжных, так называемых халысов (и тогда бы «казий разбирал и решал дела совместно с двумя посторонними (халыс) сартами из лиц, наиболее уважаемых в городе»); ратовал за то, чтобы русский управленческий аппарат знал язык и быт «вверенного ему населения»184. Позднее Бартольд же не согласился с проектом положения о т. н. «Практической восточной академии» (на создании которой настаивало Императорское общество востоковедения)185 – и не потому, что целью этого учебного заведения ставилась подготовка таких строго-функционально подготовленных специалистов, которые должны были бы содействовать торгово-промышленной экспансии России на восточных рынках, а потому лишь, что оценил научную базу планируемой академии как весьма слабую186. Когда в Ташкенте намеревались (по предложению С.Ф. Ольденбурга) открыть Восточный институт187, то Бартольд и тут выступил с возражениями: нет еще для этого «серьезных научных сил» и вообще не стоит жертвовать «полнотой научного образования» в угоду практическим потребностям сегодняшнего дня188. Но зачастую все это было лишь декларациями, ибо, повторяю, Бартольд всегда и всерьез думал об оптимальных с научной точки зрения стратегических программах деятельности «могучего русского государства»189. Оно же, для того, чтобы навеки утвердится в мусульманских землях Азии: – должно ликвидировать «остатки средневекового деспотизма в (своих) азиатских владениях (имеются в виду прежде всего Бухара и Хива)»190; – не поддерживать миссионерство191, отказаться от политики «грубого русификаторства»192 (чтобы там ни писали отдельные авторы о каком-то тотальном неприятии Бартольдом советской власти, он, однако, ставил ей в заслугу то, что благодаря ей в Туркестане «нет больше близорукой обрусительной политики»)193; – держаться уважительно по отношению к коренному населению, ни в коем разе не допуская «всякого шовинизма, всякие нападки на ислам» и в особенности презрительные отзывы о «халатниках», – ибо только так можно добиться «приобщения туземцев к русской культуре»194; – решать конфликты мирными средствами195; – одновременно нейтрализуя все те мусульманские движения, которые носят антиевропейско-русский характер. Последний вопрос представляется как нельзя более интересным, и потому попытаюсь осветить его, насколько это возможно, детальнее. В общероссийском и, в частности, в туркестанском мусульманстве, Бартольд выделял «прогрессистов», с которыми «совместная работа отнюдь не невозможна»196, и «реакционеров, стремящихся якобы к сохранению и реставрации «средневековых порядков», хотя в лучшем случае и реформированных, но зато, что самое главное, максимально сепарированных от общерусской государственности. Когда Бартольд в созданном им «Мире ислама» предупреждал, что этот журнал не предоставит своих страниц ни миссионерско-полемическим трудам, ни «мусульманским тенденциям»197, он, несомненно, имел в виду именно «реакционеров». Но в эту категорию у Бартольда попадают и джадиды198, и пантюркисты, и панисламисты199. В нашумевшем – и сделавшим его имя одиозным в глазах тюркско-националистических кругов, в частности, такого их идеолога, как Ахмед Зеки Валиди (Тоган), – письме в редакцию газеты «Вакт» Бартольд утверждал: долг России состоит в том, чтобы «вести все свое население, без различия национальностей, не назад, а вперед», и потому несостоятельны «мнения современных представителей турецкого национализма в России о Туркестане как искони турецкой стране»200. В архивах хранится и следующее суждение Бартольда о функционировавших в Туркестане «татарских националистах»201: «Они не делали вывод, что необходимо покончить с ханствами (Бухарским и Хивинским. – М.Б.); напротив, они считали необходимым дорожить этими остатками мусульманско-турецкой государственности и продлить их жизнь реформами хотя бы по образцу произведенных в Турции и Персии…»202 Бартольд же полагал, что «политические волнения в Бухарском ханстве и вообще в Туркестане… происходили только во имя возвращения к местному средневековому строю»203 – т. е. были откровенно реакционными. Но чтобы глубоко понять эти сугубо современные феномены, надо, все время напоминает Бартольд, дотошно знать среднеазиатскую историю – в том числе русским «администраторам и дипломатам» для извлечения из нее соответствующих прагматических сведений. Без них нельзя ни правильно оценить предшествовавшие русскому завоеванию204 этапы прошлого Средней Азии, ни предвидеть ее возможные зигзаги – благо (тут Бартольд с сочувствием цитирует одного из западных наблюдателей) «сознательной и планомерной завоевательной политики в России никогда не было»205, политики, основанной на хорошем знании206 фактов, и, что еще значимей, свободной от предубеждений и стереотипов по отношению как к мусульманской культуре в целом, так и к исламу как ее перманентно-ведущему (но и не тотально-детерминирующему) элементу. Бартольдовскому отношению к исламу будет посвящен особый параграф. Сейчас же я хочу привлечь внимание к тому обстоятельству, что Бартольд, при всей его более чем сочувственной оценке значимости русской экспансии на мусульманский Восток, предостерегает тем не менее против того, чтобы одними только черными красками рисовать предколониальную фазу истории восточных народов: она не есть история одного только «непрерывного и безнадежного застоя, и упадка»207; и там, еще задолго до русского господства, было «больше, чем обыкновенно полагают», и таких общественных движений, которые приводили «иногда, хотя бы временно, к совершенному устранению единовластия (т. е. здесь перед нами ниспровержение еще одного устойчивого стереотипа о «вечной тяге ориенталов к автократическо-деспотическим формам власти».-МБ.)» и были связаны с развитием общественного самосознания, городской жизни, «торгово-промышленного класса». К тому же такое, например, «народное движение», как восстание сербедаров в Самарканде (1365 г.), было вызвано вовсе не «религиозными мотивами», а «притеснениями местного визира и его родственников»208. 3. Отношение Бартольда к исламу, освящаемой им культуре в том числе и в их среднеазиатских разновидностяхБартольд (в своей – и по сей день не опубликованной – рецензии на книгу Н.П. Остроумова «Сарты», Ташкент, 1896 г.) призывал к изучению быта коренных народов Средней Азии «без фальшивой идеализации их и в то же время без всяких расовых, националистических и религиозных антипатий. Необходимо помнить, что понять характер целого народа на основании наблюдений над отдельными его представителями – задача несравненно более сложная, чем полагает большинство путешественников и поверхностных наблюдателей»209. Бартольд далее предостерегает против непрестанных тенденций видеть в «мусульманском фатализме» причину «культурной отсталости» подпавших под русское владычество исповедников ислама. «… всякому, – подчеркивает он, – знакомому с историей Востока, известно, что этот фатализм в своих фактических проявлениях ничем не отличается от христианской покорности воле Божьей и служит преимущественно утешением в несчастии; никакой фатализм не мешает мусульманским государственным людям, полководцам и торговцам принимать меры к обеспечению успеха своих учреждений»210. В одном из ранних писем Розену Бартольд решительно возражает против пылко пропагандируемого В.Д. Смирновым тезиса о несовместимости ислама и культуры. Согласно же Бартольду, «в каждой из существующих христианских церквей есть догматы, абсолютно не согласные с результатами науки; эти догматы и результаты науки, по-видимому, исключают друг друга, а между тем спокойно продолжают существовать рядом». Та же ситуация характерна и для мира ислама. Поэтому «зажигательные статьи профессора Смирнова, по-моему, так же неуместны, как то официальное покровительство исламу, которого прежде держалось наше правительство»211. Столь же резко отреагировал Бартольд (1912 г., в отзыве на тезисы доклада ташкентца М.В. Лаврова) на фразы типа «ислам – окаменелый враг прогресса». Он пишет: «Если враг «окаменел», то и слава Богу, тогда он может жить только в «каменном веке», а не в жизни… Но ислам ничуть не окаменел, а сохранил до сих пор… достаточную долю жизнеспособности и умение приспособиться к обстоятельствам»212. Наконец, Бартольд напоминает и о другом – о том, что «культуроспособность и культурные заслуги туземцев (среднеазиатских. – М.Б.) вряд ли нуждаются в доказательстве; едва ли также можно поставить им в вину, что они по общему характеру своей истории, особенно в новейшее время, не могли выйти из условий средневековой жизни, когда в самой Европе в области права переход от средневековья к новому времени начался только в конце XVIII в.»213. В высшей степени интересным кажется и то, что, по мнению Бартольда, применять к современной ему Средней Азии чисто западные по генезису и потому никак не долженствующие быть переносимыми в совсем иные культурно-исторические контексты, принципы и нормы «национального начала» и этнической селекции – дело совершенно излишнее214. Не забывал он указывать на то, что «как бы ни была глубока в настоящее время пропасть между культурами мусульманской и европейской, корни обеих культур одни и те же»215. И хотя Бартольд относил себя к числу тех, кто «принимает к сердцу не столько чисто государственные интересы, сколько интересы народных масс»216, все-таки и этими, и им подобными замечаниями, советами, рекомендациями он много делал для становления такого теоретико-прагматическо-организационного комплекса, который я назвал Империология. Он в свою очередь состоял из ряда «функциональных империологий», изучающих функционирование универсальных фундаментальных («общеимперских») и конкретно-автохтонных политических, идеологических, юридических, морально-этических норм, установок, символов и т. п. Одним из наиболее значимых плодов такого подхода стала бы экспликация представлений о российкой (=«имперской») истории как достаточно стабильной и организованной тотальности, имеющей (во всяком случае, в настоящем и особенно в будущем) инвариантные свойства и закономерности развития. В таком случае лишались бы интеллектуальной и эмоциональной привлекательности представления о Российской империи как о некоей «дискретности», включающей массу разнородных этнических и конфессиональных автономно друг от друга функционирующих общин, не охваченных общей логикой изменения, не имеющих единообразных механизмов образования и трансформации. Эффективность действия этой Империологии в мусульманских владениях прямо зависела от решения вопроса – сохранится ли и далее противостояние Ислам/Христианство, или же следует переходить к полицентричным многозначным структурам, в которых эти традиционно-позитивные отношения можно дополнить отношениями неоппозитивных различий217. Бартольд решительно ратовал за второй вариант – не без оснований полагая, что он-то будет всего успешней способствовать становлению в России, особенно после того, как в ней свершилась Февральская революция, – «сильной власти, поддержанной всем народом»218, причем не только русским, но и всевозможными «инородцами», включая и среднеазиатских219 и прочих мусульманских «туземцев» (которым надо предоставить более благоприятные, более цивилизованные социальные контексты развития). Бартольд пытается быть наивозможно объективным к ним, в том числе по отношению к различным их этническим (и расовым) группам, одновременно же отстаивая и интересы – в изложении Бартольда все-таки оказывающиеся наиболее важными, при всем его «эгалитаризме» – русской культуры и ее представителей в Туркестане. В 1914 г. Бартольд писал (это очень важный фрагмент его исламологии, особенно среднеазиатоведения, и я поэтому приведу его полностью): «Если мусульман часто называли варварами, только уничтожавшими прежние религии и связанные с ними культурные ценности, то еще чаще и, казалось, с большим основанием такое обвинение выдвигалось против турок как племени. Несмотря на крайнюю шаткость «расовой психологии», пристрастные, в ту или другую сторону, суждения о расах пользуются в настоящее время среди образованного общества всех стран еще большим успехом, чем пристрастные суждения о религиях»220. Бартольд далее приводит совершенно поразительные факты о прогрессирующем влиянии на русское общество и на государственный аппарат, в том числе и колониальный, ариоцентризма и прочих чисто расистских воззрений. Он вспоминает: «Преувеличенное представление о культурных заслугах арийцев и варварстве турок не могло не отразиться на понимании задач России в Туркестане; в 1895 г. при открытии действий местного археологического кружка, высшим представителем русской власти в крае кружку была предложена задача изучить древнюю арийскую культуру края, уничтоженную варварами-турками и подлежащую восстановлению при господстве других арийцев – русских. С этой точки зрения весь период от последних лет X в. до 60-х годов XIX в. (т. е. до русского завоевания Средней Азии. – М.Б.) мог казаться временем сплошного варварства и полного упадка культуры»221. Такую оценку Бартольд считает неверной, поскольку при Тимуре была активная строительная деятельность, экономическое положение края стало довольно сносным и т. д. Но Бартольд не только не приемлет тюркско-националистические притязания на Туркестан как на свою давнюю колыбель, но даже выступил против «официального проекта» сооружения памятника Улугбеку. В лице его, полагает Бартольд, «случайно соединились деспот и ученый», и, более того, «жизнь бесконечно далеко ушла от средних веков, и прославлять памятниками средневековый восточный деспотизм и средневековую науку едва ли есть основание…»222. Мне, однако, представляется, что дело тут не только и не столько в Улугбеке, сколько в серьезных опасениях Бартольда по поводу растущей активности, и, главное, все менее и менее склонных к беспринципным политическим и идейным компромиссам с русской властью и сервилистским уступкам по отношению к ней же представителей российского и зарубежного пантюркизма (или того, что ошибочно нередко таковым именовали). В предреволюционные годы татарская пресса обвинила Бартольда в нападках на тюрок; он, судя по всему, был этим так озабочен, что послал (20.V.1915) в редакцию выходившей в Оренбурге татарской газеты «Вакт» во всех отношениях примечательное письмо. Вначале Бартольд отмечает, что исконные жители Туркестана – это иранцы, а отуречивание края началось лишь с VI в. Но, спешит он успокоить татарских журналистов, все это в прошлом, тогда как «будущее принадлежит тюркам»223. Вся история Туркестана – пример постепенного отуречивания. Процесс этот не только не остановился в результате вхождения Туркестана в состав России, но, наоборот, продолжал быстро усиливаться. За последние 50 лет господства России успехи тюркского языка стали более разительными, чем даже за 350 лет господства узбеков. Письмо заканчивается словами: «Никогда и нигде не исходили от меня «грубые слова» о тюркской национальности; пусть они не приписываются мне. Для меня это очень важно»224. Но спустя пять лет, в 1919 г. – когда в русской среде еще силен был стимулированный Первой мировой войной антитурецкий синдром – «грубые слова» о тюрках, в частности об османских турках, Бартольд все-таки написал (хотя и не опубликовал). В архиве хранится «черновик работы о восточных империях», где дается характеристика турецкого национализма как «стремления к тенденциозному возвеличению заслуг турецкого народа в прошлом и к установлению в настоящем на всем протяжении империи (Османской. – М.Б.), независимо от традиции и состава населения, господства турецкого государственного языка, как в правительственных учреждениях, так и в школе. Турецкий национализм, не оправдываемый ни талантом, ни культурным уровнем турецкого народа по сравнению с остальным населением турецкой империи, несомненно, содействовал полному крушению идеи турецкого национализма, которое, вероятно, будет одним из прочных результатов мировой войны 1914–1918 гг.»225. Бартольду этот крах османской разновидности «пантюркизма» по душе. Но поскольку он сам же предсказывал, что будущее Туркестана – за тюрками, постольку он продолжает с тревогой следить за подъемом тамошнего мусульманско-тюрского национализма в этом, уже ставшим советским, крае. В «Отчете о командировке в Туркестан (август – декабрь 1920 г.)» впервые в «ИРАН» (Известия Российской академии наук. VI. T. XV. 1921. С. 188–219) Бартольд негодует226 по поводу ведшейся тогда в советском Туркестане политики «мусульманизации», которая – затрудняет не только «научно-исследовательскую деятельность, возможную в настоящее время только на русском языке, – ибо избрала курс «исключительного покровительства языку и литературе туземцев… в вопросе о языке правящие сферы подчинились влиянию турецкого, или, по местной терминологии, «тюркского национализма» (который Бартольд, как помним, всего более не жаловал. – М.Б.), но и – протежируя лишь киргизам, узбекам и туркменам (т. е. тюркской группе. – М.Б.), не признает «таким образом, национально-культурные права за действительными аборигенами Туркестана, иранцами-таджиками»227. Не скрывая своих враждебных чувств по отношению к возглавлявшим тогда Туркестанскую советскую республику «тюркским националистам»228, Бартольд продолжает, – и на сей раз всего более обеспокоенный судьбами русского населения в этом бурлящем крае: «…не ограждены никакими юридическими нормами права русского языка, положение которого в Туркестане теперь будет основываться исключительно на его фактическом значении как органа распространения среди туземцев европейской культуры. Пишущий эти строки нисколько не сомневается в том, что русская культура и без покровительства официальных сфер (не-и даже антирусских. – М.Б.) останется объединяющим началом для всех образовавшихся на пространстве России автономных республик». И потому-то Бартольд и предостерегает – и не только научную общественность, но и центральную власть – о том, что «одностороннее покровительство местному национализму может задержать, хотя бы временно, культурное строительство»229. Этот же термин – «культурное строительство» (в многонациональной российской – пусть даже и ставшей марксистско-советской – империи) – Бартольд всегда, интерпретировал с позиций человека, никогда не сомневающегося в тотальном первенстве «передовой европейской (=«русской») цивилизации». Бартольд с необычным для него пафосом восхваляет последствия «присоединения (Sic! – М.Б.)» Средней Азии к России, акцентируя, разумеется, в первую очередь тот факт, что «города получили еще большее значение вследствие общих культурных успехов края под русским владычеством, особенно вследствие развития хлопководства и шелководства»230; он не сомневается в том, что «для населения областей, вошедших в состав России, знание русского языка и русской научной литературы» должно стать «необходимым условием для изучения своего родного края и его прошлого»231 и т. д. Бартольд, наконец, уверял, что Россия – объективно, во всяком случае, – благоприятствовала экспансии ислама. «Окончательная победа мусульманской культуры, – пишет он, – произошла на севере только при русском владычестве, а в Передней Азии – при образовании больших государств: Турции и Персии. При русском владычестве мусульманство выиграло благодаря улучшению путей сообщения и расширению торговых сношений. Известно, что русское государство вовсе не было расположено покровительствовать исламу, наоборот, при завоевании оно даже совершало гонения на ислам, за исключением второй половины XVIII в., когда оно придерживалось иной политики; несмотря на это, ислам распространялся вместе с движением русских. В областях, расположенных на юге России, где ислам был, но имел преимущественно номинальное значение и на быт народа не оказывал почти никакого влияния, теперь, вместе с русским владычеством, появляются мусульманские проповедники и, таким образом, мусульманская культура распространяется не только с юга, как это было первоначально, но и с севера»232. Важно в этой же связи напомнить еще об одной работе Бартольда – «Отзыв о трудах Н.Я. Марра по исследованию древностей Ани» (в ЗВО РАО. T. XXIII. 1916. С. 373–411). В ней приведены слова из речи графа А.С. Уварова233 на IV Археологическом съезде (в Казани 31.VIII.1897.): «…в старину Восток влиял на древнюю Русь, а теперь Россия распространяет просвещенное влияние на дальние страны Востока». Бартольд без обиняков комментирует: «Слова графа А.С. Уварова о просветительном движении России на Восток подтвердились»234. Еще более весом для Бартольда авторитет Розена и его рассуждения о роли России на Востоке. В некрологе «Барон Розен и русский провинциальный ориентализм» (ЗВО РАО, XVIII, 1909) Бартольд приводит слова какого-то другого автора о Розене как «патриоте-националисте, но не в смысле требования преимуществ для русского народа и угнетения других национальностей». По мнению же самого Бартольда, Розен «понимал, что как положение России среди культурных стран, так и первенство русского народа в созданной им империи может быть обеспечено только при условии осуществления представителями этого народа культурных задач, определяемых географическим положением России и составом ее населения»235. Эти же «культурные задачи» невозможно решить, как всегда настаивали и Розен236, и Бартольд, без признания положительной в целом роли ислама237 и освящаемой им культуры – в том числе и в их среднеазиатских разновидностях. Скептически238 относясь к попыткам преувеличить всемирно-историческое значение Средней Азии – как «родины западной и восточной культур», – Бартольд, однако, и после Октябрьской революции исходил из того, что этот громадный регион будет вечно находиться в составе Государства Российского239, и потому-то был так озабочен проблемой сохранения в различных нововозникших среднеазиатско-советских республиках благоприятных условий для распространения русской культуры (и хотя об этом умалчивалось, но тем не менее неизменно твердо подразумевалось – и русской же политической власти240). Поэтому Бартольд никогда не приходил в восторг по поводу тех правительственных мероприятий, которые в конечном счете вели к усилению мусульманско-религиозного (как, впрочем, и буддийского) начала. Так, в 1918 г. в некрологе, посвященном Николаю Ивановичу Веселовскому, Бартольд признает, что этот его покойный коллега был (как и Василий Григорьев) крайним консерватором, «патриотом-националистом»241. Но зато этот же Веселовский «открыто и решительно осуждал такие антикультурные действия, как переименование исторических городов и урочищ»242 и, главное, им «справедливо осуждались такие действия русской власти, как укрепление ислама и буддизма в XVIII в. и укрепление такого обломка средневековой государственности, как власть бухарского эмира в конце XIX в.»243. И хотя Бартольд вновь и вновь призывает не гиперболизировать степень экономического и социокультурного регресса в Средней Азии накануне прихода туда русских – в том числе в Хивинском и Кокандском ханствах244, – все-таки основным для него остается уверенность в «благотворном воздействии на среднеазиатскую русской культуры» – и не ее «внешней стороны (перенимание одежды и быта русских и т. п.)», а такие внушенные ею благие дела, как открытие школ, больниц и прочих необходимых коренному населению социальных, медицинских, просветительских учреждений европейского типа. Конечно, Бартольд, как никто, пожалуй, другой, помнит о том, что трудность стоявших перед русской властью (речь шла о времени после победы Февральской революции) «культурных задач в Средней Азии определяется тем, что здесь в состав России, в противоположность Европейской России и Сибири, вошла древняя, культурная страна»245. Все ее зоны – в том числе и номадские – оказались прочно спаянными единым культурно-религиозным комплексом246, создав единый, в сущности, и большой народ, именно поэтому имеющий право именоваться субъектом истории247. Поэтому Бартольд требует высокоспециализированного познания прошлого, анализа настоящего, предвидения будущего, умения строить точные и подвижные теоретические конструкции и прагматическо-менеджерские системы управления, контроля, информации. Тем не менее в конечном счете присоединение к России, например, части Бухарского ханства «показало преимущества русского управления перед ханским», и их, этих преимуществ, будет еще больше, если во всю свою силу проявится «лучшее средство для сближения – совместная работа для экономического прогресса»248. Бартольд порой так увлекается задачей прославления «русской цивилизаторской миссии» в Средней Азии, да и вообще на Востоке, что начинает изъясняться как те самые ультразападо-центристы, которых он сам столь сурово ругал: Русские – «единственные представители европейской культуры» в своих азиатских владениях, и «установление русской власти в областях с многовековым культурным прошлым, но за последние века оторванных от мирового прогресса, поставило перед Россией вполне определенные задачи, которые не могут быть выполнены местными культурными силами. Каков бы ни был прогресс восточных народностей под русским владычеством, для полного усвоения ими европейских научных методов, особенно методов гуманитарных наук, потребуется еще работа нескольких поколении…»249. Аргументация Бартольда становится еще более впечатляющей для тех русских интеллигентов, которые при всем своем либерализме, жалостливости и даже симпатиях к «младшим братьям» – секуляризме, антидогматизме и т. п. – отнюдь не собирались демонтировать с такими жертвами сколоченную имперскую структуру. Бартольд возлагает на них чрезвычайно важную миссию: «…если даже в Европейской России только русская интеллигенция может быть посредником между противоречивыми стремлениями различных национальностей и создаваемыми под влиянием новых стремлений националистическими теориями, то в Азии, где кроме русских нет других европейцев, еще яснее, что только русской научной мыслью могут быть созданы научные построения, свободные от влияния одностороннего национализма и религиозной догматики»250. Исходя из своего понимания «культурного прогресса» – а значит, и «культурного влияния» и «культурной диффузии» – как примата Научного Знания, Бартольд изображает проблему культурного отставания входящих в состав России мусульманских земель как проблему дефицита этого знания, без которого нельзя полноценно решать и локальные и, следовательно, общеимперские цели, т. е. как проблему в общем сугубо информационную, никак не связанную ни с какими расовыми или этническими чертами. Значит, дух «научной, свободной от заранее установленных догматов истории» (в том числе истории церкви251) вполне может быть усвоен и «прогрессивными мусульманами». И Бартольд с удовольствием называет по крайней мере двух таких авторов – крымского татарина Исмаила Гаспринского, мышление которого «определяется не столько мусульманскими традициями, сколько европейским образованием»252, и – куда менее известного – азербайджанца Ахмеда Кереди Закуева: последний «в достаточной степени усвоил достижения европейской науки по истории арабской и европейской философии», и потому он может стать «ученым, вполне удовлетворяющим европейским научным требованиям»253. Но на перспективы достаточно быстрого и более или менее массового успеха «подлинной, научно-критической европеизации» мусульманской ментальности Бартольд смотрел с недоверием и потому-то ни на йоту не сомневался в целесообразности максимальной пролонгации русского владычества над мусульманскими землями. В 1922 г. Бартольд публикует еще один «Отчет о командировке в Туркестан» (ИРАИМК. T. II. 1922. С. 1–22), где указывает, что, по сравнению с дореволюционным периодом, в крае не только «нет больше близорукой обрусительной политики», но и возникли более благоприятные «в некоторых отношениях условия научной работы… не приходится считаться с опасениями (довольно типичными для царского колониального аппарата. – М.Б.), что изучение прошлого Туркестана и памятников этого прошлого может оживить среди туземцев исторические воспоминания и содействовать укреплению сепаратических (так в тексте. – М.Б.) тенденций»254. С другой стороны, бьет тревогу Бартольд, той же революцией «созданы в Туркестане препятствия для научной и вообще для культурной работы, которых не было раньше. Политика «мусульманизации» края, т. е. покровительства туземному населению, его языку и культуре, проводится иногда столь же близоруко, как прежняя обрусительная политика. Создаются неблагоприятные условия жизни для русского культурного меньшинства; замечается стремление создавать литературу, даже научную, исключительно на языках местного мусульманского населения; деятели русской культуры подвергаются высылке из пределов Туркестана только за то, что при прежнем строе занимали должности по туркестанской администрации»255 и т. д. Но Бартольд пытался сделать все, что в его силах, с целью не допустить и оскорбления национальных и конфессиональных чувств коренного населения – в частности, попыток «уничтожить без остатка такие восточные города, как старый Ташкент и Бухара, и заменить их городами европейского типа». Бартольдовская позиция иная: «…цели новой жизни были бы, может быть, вернее достигнуты, если бы вместо уродливого смешения старого с новым, рядом со старыми городами или внутри их, на свободных площадях… строились показательные города нового типа. Вообще интересы новой жизни и интересы памятников прошлого едва ли так непримиримы, как представляется поверхностному наблюдателю»256. Я, впрочем, вижу в призывах Бартольда к сохранению любых памятников прошлого257 и отражение его благоговейно-эстетического отношения ко всем историческим разновидностям того материально-духовного космоса, который упорядочен и уплотнен вокруг человека и ценностно на него же ориентирован – идет ли речь о «типично восточных», или об арабо-мусульманской, или европейской цивилизациях. Бартольду всего более по душе курс на поиски осторожных и постепенных методов регуляции – без принципиально резких «экспериментов», «инноваций», «скачков», то есть он – за консервативную альтернативу холистическо-целевой стратегии решения предельно усложнившихся общественных проблем. Отсюда, мне думается, и его – имплицитная в основном, что, впрочем, никоим образом не меняет сути дела, – трактовка среднеазиатского региона как уже не «русской колонии», не «мусульманской земли», не «тюркской колыбели», не «ирано-арийского очага», а как качественно новой «среды обитания» разных этнических групп, конфессий, адекватных им духовных ценностей, материально-символических и социальных реалий и т. д. Она, эта среда, есть сложный социально-культурный «контекст», со своим целостным семантическим значением, причем значения образующих его компонентов («общемусульманского», «тюркско-мусульманского», «ирано-мусульманского», «русско-христианского») последовательно вскрываются лишь в процессе их функционального, формального и символического взаимодействия258. Иное дело, что бартольдовские пожелания, добиться между этими компонентами динамического равновесия, найти в имманентной каждому из них смысложизненной, мировоззренческой проблематике универсально пригодные теоретические аспекты, моральные нормы и этические ценности, не оказались эксплицированными – прежде всего не потому только, что Бартольду органично чужд был философский стиль мышления259, а вследствие его то латентных, как правило, то иногда все же резко прорывающихся наружу европоцентристских предрасположенностей. |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Вверх |
||||
|
|
||||
