|
||||
|
|
IIIИДЕЯ ЕДИНСТВА РУСИ В ГОДЫ КНЯЖЕНИЯ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА Одно из самых значительных явлений русской средневековой культуры — летописание. Политически острая летопись постоянно служила ориентиром в политической жизни городов, княжеств, областей. В летописи скрещивались вое важнейшие идейные течения Руси, в нее вносились наиболее важные документы (договоры, завещания князей, послания) и лучшие исторические литературные произведения. Возникнув во второй четверти XI в., при Ярославе Мудром, летописание сразу же достигает высоких ступеней развития. Древнейший Киевский свод Ярослава Мудрого и последующие Киево-Печерокие своды 1073 и 1093 гг. были, насколько возможно о них судить по сохранившимся в позднейших летописях фрагментам, произведениями государственного размаха и огромной идейной силы. 1Попытка Ярослава создать вокруг Софии Киевской прочный оплот русского просвещения не удалась. Вслед за русским митрополитом Иларионом, Константинополь снова присылает митрополита — грека. Центр русского просвещения передвигается со второй половины XI в. в Киево-Печерский монастырь, где получали образование первые русские епископы и попы и где книжность и литература нашли себе до поры до времени надежное пристанище. Первая переработка Древнейшего Киевского свода была произведена около 1073 г. монахом Киево-Печерского монастыря Никоном, книжная деятельность которого оказалась особо отмеченной впоследствии в житии Феодосия. Никон был в свое время (в конце 1060-х годов) сослан в Тмутаракань. Отсюда в своде ряд тмутараканских известий и преданий: о поединке черкеса-касога Редеди с Мстиславом (эпизод этот упомянут в «Слове о полку Игореве»), о хозарской дани и др. Использование фольклора Причерноморья привело к переработке рассказа Древнейшего свода о крещении Руси. Никон ввел в свод так называемую «Корсунскую легенду», рассказывавшую о крещении Владимира не в Киеве, а в Корсуни (Херсонесе), в Крыму, в результате победы, одержанной им над греками.94 Настроение торжества по поводу водворения нового порядка и христианства, которое охватывало целиком Древнейший свод, сменяется у Никона в новых политических обстоятельствах второй половины XI в, тревогой за судьбу родины, раздираемой феодальными междоусобиями. Свои политические устремления Никон осторожно выразил, поместив в свод завещание Ярослава Мудрого (произведение, возможно, написанное не Ярославом). В нем Ярослав просит своих сыновей быть «в любви межю собой» и не погубить «землю отець своих и дед своих, иже налезоша трудомь своимь великымъ».95 Свод Никона был подвергнут основательной переработке в 1093 г. В атом своде окончательно оформилась центральная часть летописи в том ее виде, в каком она вошла впоследствии в «Повесть временных лет». Это и позволило исследователям летописания назвать свод 1093 г. «Начальным». Начальный свод проникнут тем же настроением тревоги за судьбу родины, что и предшествующий ему свод Никона. Междоусобия князей приняли к этому времени такой характер, что летописцу приходилось не только призывать к прекращению распрей, но обосновывать и само единство княжеского рода. О этой целью в свод внесена легенда о призвании трех братьев-варягов. Легенда эта заимствована, повидимому, из новгородской летописи, где живы были еще предания о приглашении наемных дружин варягов. Предания эти оказались трансформированы под воздействием эпических мотивов, сильно распространенных и на Западе и на Востоке, о трех братьях — основателях городов, и под влиянием ходячих средневековых легенд о происхождении правящей династии из иноземных государств. Замечательною особенностью Печерского Начального свода 1095 г. было использование для его составления Новгородской летописи. Киевское летописание становилось, таким образом, общерусским, не только по идее, но и по исполнению. В обстановке упадка Киевского государства Начальный свод вступил на путь идеализации старых времен и старых князей, которые как бы противопоставлялись и ставились в пример новым. Ратную доблесть и неутомимость в походах больше всего ценит летописец в первых русских князьях. На основании старых дружинных песен летописец вставил в свой свод известную характеристику Святослава — описал его суровый образ жизни, предприимчивость, подвижность и рыцарское прямодушие, с которым он предупреждал о. себе врагов, ввел его энергичные обращения к дружине перед битвами и т. д. Побуждая князей к активной политике против степи, летописец в полных трагизма и скорби словах повествует о хищных набегах половцев, разорявших Русскую землю, толпами уводивших в рабство население сел! и городов. Печальные, с осунувшимися лицами, с ногами в путах, гонимые «незнаемою страною»,96 мучимые жаждою и голодом пленники со слезами говорили друг другу: «аз бех сего города», «аз сея вси» (села). Летописец Начального свода принадлежал к тем «смысленным мужам», которые видели несчастье Русской земли в распрях князей, головой пробивавших себе дорогу к Киевскому столу, и не раз обращались к князьям с призывом: «почто вы распря имате межи собою, а погании [язычники — степные народы] губять Землю Русьскую».97 2Бесспорно одна из лучших русских летописей — «Повесть временных лет», составленная в 1110–1118 гг. В предшествующий созданию «Повести» период, на рубеже XI и XII вв., Киевская Русь испытывает на себе наиболее тяжкие удары кочевников, ставшие жесточайшим народным бедствием. Степные кочевники — половцы — делают отчаянную попытку прорвать оборонительную линию земляных валов, которыми Русь огородила с юга и юго-востока свои степные границы, и осесть в пределах Киевского государства. В 1096 г. половецкий хан Боняк чуть не ворвался в Киев, ограбил и разорил Печерский монастырь, когда монахи спали по кельям. Теснимая с севера половцами и печенегами, а с моря турецким флотом с Чахой во главе, союзная Киеву Византия была бессильна предотвратить грозившую ей самой опасность. В этот тяжелый период русской истории в Киевской Руси консолидируются силы, стремящиеся к решительному нажиму на степь. Подъем этот (совпадает с освободительным движением в Испании против господства мавров и с общим движением в Европе на Восток в отпор наступающим туркам, прервавшим европейскую торговлю с Азией. Русь, составлявшая левый фланг европейской обороны против напора кочевых и полукочевых народов, полукольцом охвативших Европу, объединяется под властью Владимира Мономаха и переходит от пассивной обороны к активному наступлению на степь. Степные походы Мономаха сбивают волну половецких набегов и спасают самую Византию от гибели. Именно в это время составляется замечательный памятник русского летописания — «Повесть временных лет», вся проникнутая единой мыслью о Русской земле, о ее защите, о необходимости единения перед лицом внешней опасности. «Повесть временных лет» одновременно завершает целый период киевского летописания и вместе с тем является основой всех последующих летописаний, начало которых она, обычно, составляет. История создания величайшего памятника русского летописания — «Повести временных лет» — чрезвычайно сложна и запутана. Здесь сказалась работа целых поколений русских книжников, сказались сложные искания исторической мысли, сложное мировоззрение, в котором боролись аскетические монашеские настроения с реальными запросами русской жизни. Многочисленные литературные источники устные и книжные, русские и иноземные, язык «Повести», то просторечный, близкий к разговорному, то книжный, пересыпанный славянизмами и грецизмами, легли в основу этого грандиозного творения. В создании «Повести» принимали участие две литературные школы — Киево-Печерская и Выдубецкая, по-разному понимавшие свои задачи, но удачно сложившие свои силы в произведении, отличающемся убедительной законченностью, цельностью архитектоники. В 1110 г. монах Печерского монастыря Нестор переработал Начальный свод 1095 г. К новому своду Нестор привлек византийский исторический материал — хронику Георгия Амартола и его продолжателя, затем компилятивный «Хронограф по великому изложению» и др. Нестор связал русскую историю с мировой, придал ей центральное значение. Программа летописца и его задачи точно сформулированы в самом названии «Повести»: «Се повести временных лет, откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуда Русская земля стала есть». Показать Русскую землю в ряду других европейских стран, доказать, что русский народ не без роду и племени, что он имеет свою историю, которой вправе гордиться, — такова замечательная по своему времени цель составителя «Повести». «Повесть временных лет» должна была напомнить князьям о славе и величии родины, о мудрой политике их предшественников и об исконном единстве Русской земли. Задача эта выполнена летописцем с необыкновенным тактом и художественным чутьем. Широкий замысел сообщил спокойствие и неторопливость рассказу летописца, целеустремленность и твердость его суждениям, художественное единство и монументальность всему произведению в целом. Начало «Повести временных лет» посвящено событиям всемирной истории, предшествующим сложению Киевского государства. Летописец вводит Русь на мировую историческую арену, сообщая самые разнообразные сведения — географические, этнографические, культурно-исторические. Неторопливо раскрывает летописец ту историческую обстановку, в которой родилось Русское государство, рассказывает сперва о народах мира, затем о древнейших судьбах славянского племени и «словенского» языка. Просто и наглядно дает летописец географическое описание Руси, путей, связывающих ее с другими странами, с замечательной последовательностью начиная свое описание с водораздела рек Днепра, Западной Двины, Волги. Далее летописец описывает древнейший быт русских племен, рассматривая их как единый народ, и не забывает при этом упомянуть о соседящих с ними мере, черемисах, муроме и мордве. Летописец обращает внимание на происхождение русского языка, как на главный признак русской народности. Он выступает первым в русской истории и в истории славянства вообще защитником идеи общеславянского единства: «бе бо един язык Словеньск; а Словеньск язык и Русьскыи един есть…, аще и поляне зъвахуся, но Словеньска речь бе; полями же прозъвашася, зане в поли седяху, а язык Словеньск бысть им един».98 Чтобы придать особую значительность христианскому просвещению на Руси, составитель «Повести» включил в нее легенду о путешествии апостола Андрея через Русскую землю. Андрей благословил Киевские горы, а в Новгороде посмеялся банному обычаю: «како ся мыють и хвощются [хлещутся] младыми прутьями» и обливаются «квасом уснияным».99 «И того ся добьють, егда влезуть ли живи и облеются водою студеною и тако оживуть. И то творять мовение себе, — прибавляет Андрей, — а не мучение».100 В этом сочетании торжественного с комическим проявился подлинный художественный Темперамент летописца, не боящегося заставить апостола произносить каламбуры. Собственно русскую историю летописец дополнил договорами русских с греками, взятыми им из княжеского архива, включил легенду о сожжении Ольгой Искоростеня, о белгородском киселе и др. Обильно отразились в «Повести» произведения устного народного творчества. С русскими былинами роднит «Повесть» главным образом основная, общая им тема — оборона Русской земли от восточных кочевников. Так же, как и русские былины, летописец воспевает богатырство, силу, доблесть и подвиги русских воинов. Поединщики-богатыри по-былинному решают в летописи исход войны единоборством перед войсками. Один из редких подвигов былинного характера отразился в летописном рассказе о поединке юноши-кожемяки с печенежским богатырем перед лицом двух войск — русского и печенежского. Летопись рассказывает, как русские, вызванные на единоборство, тщетно искали поединпщка, который смог бы противостать печенежскому богатырю, как затем начал «тужить» князь Владимир и как, наконец, объявился некий старый муж я сказал Владимиру: «Князь, есть у меня один сын — меньшой — дома; с четырьмя вышел я сюда, а тот дома остался. Из детства никто еще не мог его победить: однажды я его журил, а он мял кожу, так в сердцах он разорвал ее руками». Услышав это, князь Владимир обрадовался и послал за младшим сыном старика, кожемякой. Приведенный к князю, неказистый на вид, юноша просит предварительно испытать его и привести ему большого и сильного быка. Быка привели, раздразнили его горячим железом и пустили бежать. Когда бык бежал мимо, юноша-кожемяка схватил быка рукой за бок и вырвал ему кусок кожи с мясом. Видя это, Владимир разрешил юноше бороться с печенежским богатырем. На следующее утро печенеги выпустили своего превеликого и страшного богатыря, а русские — своего. Увидел его печенежин и посмеялся, потому что русский богатырь был мал ростом. Полки размерили место для поединка, и богатыри сошлись. Юноша-кожемяка так сильно сжал печенежина руками, что удавил его и бросил его на землю. Раздался крик в полках, и устрашенные печенеги бежали. Обрадованный Владимир заложил на месте поединка город, а скромного кожемяку сделал «великим мужем».101 В этом рассказе «Повести» впервые отразилась мысль, ставшая затем излюбленным мотивом русской литературы вплоть до наших дней, о скромности настоящего героизма, о силе народного духа в незаметных внешне героях (Пушкин, Лермонтов, Л. Толстой, Достоевский и др.). Невысокий ростом ремесленник, пятый сын своего отца, которого даже не берут в поход, а оставляют дома, побеждает превеликого и страшного богатыря-печенежина, против которого не решался выйти никто из профессионалов-воинов. Спустя короткий срок, в 1116 г., потребовалась новая переработка летописи. Причина, побудившая к этой переработке, заключалась в том, что «Повесть», торжественная и патетичная вначале, не давала ответов на вопросы современной ей политики в известиях, касавшихся княжения Владимира Мономаха. На этот раз летописание было перенесено по воле Мономаха в Выдубецкий Михайловский монастырь, державшийся политической ориентации Мономаха. Сторонник Мономаха — игумен Сильвестр — особенно придирчиво переработал последние летописные статьи с 1093 г. по 1110 г., идеализировал Мономаха за его походы на половцев, за властную политику, за ум, за смелость и заботу об общенародных интересах. Сильвестр не скупится приводить программные речи Мономаха, в которых последний призывал к единству Руси, к твердому отпору наступающей степи: «Почто губим Русьскую Землю, сами на ся котору деюще, а Половци землю нашу несуть розно и ради суть, иже межю нами рати; да ноне отселе имемся в едино сердце и блюдем Рускые земли».102 C сочувствием передает Сильвестр возражения Мономаха дружине, не хотевшей итти в поход на степь, чтобы не губить по весенней распутице лошадей смердов: «дивно ми, дружино, — говорит им Мономах, — оже лошадий жалуете, ею же кто ореть [пашет]; а сего чему не промыслите, оже то начнеть орати [пахать] смерд, и приехав половчин ударить и [его] стрелою, а лошадь его поиметь, а в село его ехав иметь жену его и дети его, и все его именье. То лошади жаль, а самого не жаль ли».103 С тою же целью возвеличения общенародных устремлений Мономаха введен в «Повесть» драматичный рассказ попа Василия об ослеплении в междоусобной борьбе с родичами князя Василька Теребовльского. Множество бытовых подробностей и реалий делает этот рассказ одним из самых живых в летописи киевского периода. С потрясающей силой развертывает рассказ Василия картину феодальных раздоров. Подробно и не торопясь повествует поп Василий, как заманили Василька на именины, как постепенно оставили ею одного в комнате, как схватили и везли затем на телеге в Белгород, где бросили в «истобку [избу] малу». Оглядевшись Василько догадался, что хотят с ним сделать, стал кричать и плакать. Вошли конюхи, разостлали ковер и хотели повалить на него Василька. Василько отчаянно отбивался. Конюхи позвали подмогу. Василька схватили и связали, а затем сняли с печи доску, положили ему на грудь и сели по концам. Но Василько и тут сопротивлялся так отчаянно, что сняли с печи и вторую доску и придавили ею «яко персем троскотати [трещать]». Кончив точить, нож, овчарь Святополка подошел и ударил им в глаз Василька, но сначала промахнулся и перерезал ему лицо: «И есть рана та Василька и ныне».104 «По семь же вверте ему ножь в зеницю и изя зеницю, по сем в другое око въврьте ножь и изя другую зеницю».105 Ослепленного, едва живого Василька снова взвалили на телегу я повезли во Владимир Волынский. Трогателен путевой эпизод с окровавленной сорочкой Василька, которую ослепители, остановясь для обеда в Воздвиженске, дали постирать попадье. «Сего не бывало есть в Русьскей земьли ни при дедех наших, ни при отцих наших, сякого зла»,106 — сказал ужаснувшийся при известии об ослеплении Василька Владимир Мономах и послан за Давидом и Олегом Святославичами сказать: «поидета к Городцю, да поправим сего зла, еже ся створи се в Русьскей земьли и в нас, в братьи, оже ввержен в ны ножь: да аще сего не правим, то болшее зло встанеть в нас, и начнетъ брат брата закалати, и погыбнетъ земля Руская, и врази наши, половци, пришедше возмуть земьлю Русьскую».107 Сознание необходимости единения перед лицом внешней опасности, возмущение моральной низостью современных летописцу русских князей, их раздорами, составляют основную мысль летописи в описании феодального разброда конца XI в. Не было «сякого зла» в Русской земле, не такие были русские князья в прежние времена, не разоряли они населения поборами, обороняли Русскую землю, советовались во всем со своей дружиной, в ладьях на холстинных парусах ходили на самую Византию, гнушались золотом и паволоками, любя одно оружие. «Отци ваши и деди ваши трудом великим и храбрьством, побарающе по Русьской земли, ины земли приискываху, а вы хочете погубити землю Русьскую»,108 — в этом обращении к русским князьям в 1097 г. ключ к историческим воззрениям на события своего времени составителя «Повести временных лет». Есть и сейчас князья, подобные древнему Святославу — это Владимир Мономах; его держитесь, как бы хочет сказать выдубецкий летописец. Своим призывом на борьбу со степью, к прекращению междоусобий и к сплочению вокруг Владимира Мономаха выдубецкий летописец внес последний штрих в «Повесть временных лет», сделав ее цельным и законченным произведением, отразившим глубокое понимание национальных задач и точно отвечавшим политическим запросам своего времени. Впоследствии, когда составлялись новые летописи, «Повесть временных лет» всегда переписывалась в их начале. «Повесть» как бы служила политическим введением к разного рода городским, княжеским, митрополичьим летописям и идеи ее (идеи защиты родины) резко отражались в последующем летописании. В тяжкие годы татаро-монгольского ига бесчисленные списки «Повести временных лет», открывавшие собою местные, городские и княжеские летописи, напоминали русскому народу о временах его независимости, о былом могуществе его родины, о необходимости объединения для борьбы о грозным степным врагом. Призывы «Повести» к борьбе со степными кочевниками — половцами — воспринимались в те годы как призывы к борьбе с татарами и сыграли значительную роль в пропаганде идеи свержения татаро-монгольского ига на Руси. Такова была замечательная русская летопись, созданная по повелению Владимира Мономаха. 3Богатое разнообразными литературными фактами время Владимира ярче всего характеризуется произведениями самого Мономаха— талантливого и начитанного писателя. Сохранившееся в единственном списке Лаврентьевской летописи 1377 г. «Поучение» Мономаха (в испорченном состоянии) распадается на два произведения: «грамотицу» Мономаха к своим детям («поучение» в собственном смысле этого слова)и послание Мономаха к князю Олегу Святославичу черниговскому, в котором он оплакивает своего сына Изяслава, убитого в 1096 г. под Муромом в сражении с войсками этого Олега, и просит отпустить захваченную им сноху — вдову Изяслава. Идеологическое содержание «Поучения» Мономаха не ограничивается призывом сыновей и всех, «кто прочтет» его «Поучение», к единению, к прекращению междоусобий, к соблюдению общенациональных интересов. Идея борьбы с братоубийственными междоусобиями заключена была еще в завещании Ярослава I: «имейте в себе любовь, понеже вы есте братья единого отца |и матере». Мономах дает в автобиографической части своего «Поучения» образ мужественного, деятельного, смелого, неутомимого правителя, горячего печаловника о Русской земле, который «ночь и день, на зною и на зиме, не дал себе упокоя». Мономах приглашает заботиться о смерде, о челяди, о «хрестьяных душах» и «убогих вдовицах», призывает к строгому соблюдению крестных целований, осуждает междоусобия и особенно пользование военной помощью чужеземцев, поляков и половцев, которых наводили князья на Русскую землю для решения своих династических споров. «Не вдавайте сильным погубити человека», — пишет Мономах в «Поучении» и, вместе с тем, приглашает не лениться в учении, не лениться в дому своем и на молитве, не лениться «на войне и на ловех». «На войну вышед, не ленитеся, не зрите на воеводы; ни питью, ни еденью не лагодите [не предавайтесь], ни спанью; и стороже сами наряживайте, и ночь, отвсюду нарядивше около вои, тоже лязите, а рано встанете; а оружья не снимайте с себе вборзе, не разглядавше ленощами, внезапу бо человек погыбает».109 Таков своеобразный воинский устав Мономаха. Политическая программа Мономаха находит себе объяснение в событиях его времени. Мономах в общенародных интересах энергично стремился к смягчению феодальной эксплоатации, достигшей в конце XI в. чрезвычайно жестких форм, к установлению на Руси твердой и единой великокняжеской власти и к активному наступлению на степь. Свой образ князя-патриота Мономах дополнил личным примером. Мономах описывает в «Поучении» свои «пути» и «ловы», т. е. военные и охотничьи подвиги, всюду, наряду с христианским идеалом воздержания от греха, молитвой, уважением к старшим и духовным лицам, проповедуя идею деятельной, жизни, неустанного труда на пользу родины, отваги и энергичной защиты интересов своего народа. «А из Чернигова до Киева нестишь [около 100 раз] ездих ко отцю, днем есмь переездил до вечерни; а всех путий [походов] 80 и 3 великих, а прока [прочих] не испомню меньших. И миров есм створил с половечьскыми князи без единого 20… А се тружахъся ловы дея… конь диких своима рукама связал есмь в пущах 10 и 20… Тура мя 2 метала на розех и с конем, олень мя один бол… вепрь ми на бедре мечь оттял… лютый зверь скочил ко мне на бедры и конь со мною поверже…».110 Реальным изображением княжеского поведения — походов, сражений, охот, заключений договоров, каждодневного, неустанного соблюдения народных интересов и т. д. — Мономах дополнил свои патриотические наставления, дал нарочитый образец для подражания. Мономах не стремился составить в своем поучении законченную автобиографию или законченный автопортрет, а передавал лишь цепь примеров из своей жизни, которые он считал поучительными и в которых постоянно акцентируется им общественно-идейная сторона. В этом уменье выбрать из своей жизни то, что представляло не личный, а гражданский, общенациональный интерес, заключается замечательное своеобразие автобиографии Мономаха, резко противоположной эгоцентрической автобиографий протопопа Аввакума или автобиографическим отрывкам в переписке Курбского с Грозным — двум другим автобиографическим произведениям в древней русской литературе. Образ Мономаха выступает в «Поучении» как бы помимо его воли, чем достигает особенной художественной убедительности. «Поучение» Мономаха давало жизненный идеал князя-патриота, администратора, хозяина, воина, отвечало на конкретные запросы русской жизни. Можно предполагать, что «Поучение» имело значительный резонанс в русской действительности. Не случайно Владимир Мономах был впоследствии идеализирован русской летописью. 4Времени Мономаха принадлежит первое из дошедших описаний паломничеств — «Хождение» Даниила, также отразившее патриотические идеи эпохи. Средневековые паломничества в «святую землю» имели существенное познавательное значение, способствовали международному обмену культурными ценностями, приучали к терпимости и, вместе с тем, развивали в паломниках здоровое национальное чувство. Замечательною чертою Даниила является отсутствие в нем каких бы то ни было узко местных тенденций. Всюду, куда он ни попадает, он чувствует себя представителем всей Русской земли в целом. Он называет себя «русские земли игуменом», у гроба Господня ставит «кандило» «от всея русьскые земли», отличается терпимостью к чуждым верованиям (латинству и магометанству) и умеет всюду внушить к себе уважение, не вмешиваясь в распри сарацин и крестоносцев. Даниил свел — знакомство со «старейшиной срацинъским» и иерусалимским королем Балдуином I, Фландрским (1110–1118) и побывал там, куда не пускали других. Наши представления о литературе времени Мономаха далеко неполны, но и то, что мы знаем, свидетельствует о тех широких и разнообразных путях, на которые вступила в это время культура Киевского государства, черпавшая свои идейные силы в защите общенародных интересов, в идее единения перед лицом внешней опасности. В литературе этою периода нет той стройности и торжественности, которая была в литературных произведениях времени Ярослава, но она ближе к русской жизни, она разнообразнее, как разнообразнее были и запросы эпохи, она неспокойна и тревожна, как тревожны были события того времени. Примечания:II БОРЬБА РУСИ ЗА СВОЮ КУЛЬТУРНУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ЯРОСЛАВЕ МУДРОМ >Правительственное введение на Руси христианства приобщило русский народ к древнейшей христианской европейской культуре Византии. Византия в конце X в. была наиболее культурной страной тогдашней Европы; в ней соединялись местные традиции, идущие еще от античности, с культурными традициями всего Средиземноморья, теснейшим образом связанного с Византийской империей. Центральное положение Византии между европейским Севером и азиатским Востоком, африканским Югом и Западом Европы делало ее средоточием всей передовой мировой культуры. Принятие христианства принесло Руси целый ряд и культурных и политических выгод, отвечало потребностям феодализировавшегося русского государства, но оно же грозило молодому новообращенному народу рядом серьезных опасностей. >1 До самого падения Константинополя императорская власть представлялась в Византии властью всемирною и исключительною. Несмотря на несоответствие этих претензий реальному положению дел, греческие политические деятели не допускали возможности существования рядом с византийским императором равных ему по силе и независимых от него властителей. Только император ромеев мог быть единственным главою всех христиан, и в глазах византийцев эта теория освящалась доводами богословия. В словах апостола Петра «бога бойтесь, царя чтите» греки видели указание, что во вселенной должен и может существовать лишь один царь, власть которого была тем самым как бы освящена церковью. Иоанн Киннама с изумлением и негодованием говорит о притязаниях Фридриха I Барбароссы на титул императора.22 Притязания византийских императоров распространить свою власть на всю вселенную основывались на воззрении, что император является не только главою государства, но и главою церкви. При таких условиях византийская идея императорской власти лучше всего мирилась со старою римскою теорией, делавшей из императора главу jus sacrum, поскольку последнее являлось частью jus publicum. Единым главою всех христиан признавался император, а константинопольский патриарх являлся лишь его ближайшим помощником в сфере церковного управления. В силу этого, все органы церковного управления Империи были проникнуты идеей всемирной власти императора. До «самого падения Константинополя Византия постоянно пыталась привести варварские народы к признанию того, что все христиане являются одновременно и подданными императора. Во времена Комненов Римская империя понималась как «страна, где живут христиане». Христиане же тем самым становились, в свою очередь, подданными Империи, где бы они ни проживали. Римские законы были для них обязательны, и отрицавшие это считались по меньшей мере схизматиками. Патриарх Марк Александрийский спрашивал в письме к патриарху Феодору Вальсамону: «не подлежим ли мы, александрийцы, осуждению за то, что в нашей стране нет шестидесяти книг Василик и по отношению к ним мы, поэтому, находимся в полнейшей темноте». Отсутствие в Александрии последнего свода гражданских законов кажется Марку церковным преступлением. Ответ патриарха Феодора Вальсамона не менее характерен. Он спешит извинить невольное преступление христиан-иноземцев, найти ему снисходительное оправдание, но самый факт церковной преступности незнания римских гражданских законов признается им безусловно: «Все гордящиеся христианством, живут ли они на Востоке, или в Александрии, или где бы то ни было, носят имя римлян и обязаны жить по законам [римским]. Но они не связаны законом, который гласит, что для римлян неизвинительно незнание законов. Ибо только живущие в Риме, т. е. в столице, богатой многочисленными знатоками законов, связываются законами, как оковами. Ибо для них, кто бы они ни были, было бы неизвинительно ссылаться на незнание законов, так как они могли бы узнать содержание законов от своих соседей. Живущие же вне Рима, т. е. сельчане и другие, а тем более александрийцы, не знающие законов, получают снисхождение».23 Отсюда ясно, почему при распространении христианства среди таких народов, где не было византийской гражданской организации, церковь становилась основным проводником византийских гражданских законов. Церковная организация стремилась заменить отсутствующее у варваров государственное управление. Обязательность для всех христиан, где бы они ни жили, римских законов ставила, таким образом, все новообращенные народы в политическую зависимость от Империи. Среди этих-то новообращенных народов, а также на территориях, занятых у Византии «варварами», церковный строй призван был заменить собою недостающую с точки зрения греков византийскую государственную организацию. Вот почему Империя особенно дорожила на таких территориях епископами и митрополитами из греков. Эти ставленики византийской церкви были вместе с тем и проводниками императорской политики. На обязанности духовенства в новообращенной стране лежало ознакомить варварский народ с римским правом и римской культурой. Поэтому-то принятие христианства «варварским» народом — Русью вело к приобщению его к новой европейской культуре Империи, но вместе с тем навязывало ему церковную организацию во главе с митрополитом или епископом-греком, становившимся фактически чиновником Империи, на котором держалась связь новообращенного народа с императором и на которого возлагалась задача инкорпорирования новых «ромеев» в состав Империи. Осложняющим обстоятельством для Византии являлось наличие на Руси своей государственной организации. Епископ или митрополит-грек волей-неволей обязан был делить юрисдикцию с местным князем. Самые принципы христианского римского права Византии требовали признания власти князя и в гражданском и, в какой-то мере, в церковном отношении. Поэтому Империя была особенно озабочена отношениями митрополита к князю на Руси и неустанно поддерживала авторитет митрополита, стремясь сделать его. фактическим руководителем князя. Самого князя Империя стремилась ввести в состав византийской чиновничьей иерархии, а Русскую землю сделать провинцией Византии, под управлением посылаемых из Византии митрополитов. И, несмотря на то, что греки в равной мере официально признавали всех христиан ромеями, в Византии стремились всё же, вопреки теории, но последовательно в практическом отношении! назначать русского митрополита из ромеев-греков, а не из ромеев-русских. Таким образом, принятие христианства Русью имело обоюдоострый характер. С одной стороны, оно приносило вновь обращенному народу европейскую византийскую культуру, [что являлось живой необходимостью для молодого феодализирующегося государства. С другой же стороны, принятие христианства угрожало политической самостоятельности Руси, грозило превратить Русскую землю в провинцию Империи. И эта опасность была во-время осознана русскими князьями. Особенно острая борьба завязывается между Русским государством и Византией в годы могущественного княжения Ярослава Мудрого. Русский князь блестяще парирует все попытки Константинополя лишить русских церковной самостоятельности и превратить русскую церковь в агентуру Империи. Ярославу удается еще более высоко поднять международный авторитет Руси и упрочить основания русской политической и церковной самостоятельности, русской книжности, русского летописания, русской архитектуры и изобразительного искусства. Византийский писатель. Михаил Пселл пишет про русских, имея в виду военное столкновение Руси и Империи в 1043 г.: «Это варварское племя всегда питало яростную и бешеную ненависть против греческой игемонии; при каждом удобном случае изобретая то или другое обвинение, они создавали из него предлог для войны о нами».24 Говоря о «яростной и бешеной ненависти» русских, Пселл, главным образом, считается с фактом постоянных попыток русских добиться признания независимости русской церкви. Он ставит в связь эту ненависть русских к византийской «игемонии» с походом Владимира Ярославича на Константинополь, закончившимся поражением русских, во время которого с ними поступили, как с бунтовщиками: пленные русские были ослеплены.25 Поход Владимира Ярославича на Константинополь был кульминационным пунктом борьбы Руси в эпоху княжения Ярослава за свою культурную, гражданскую и церковную самостоятельность. Неуспех похода Владимира Ярославича не сломил волю русских. Военное размирие с Константинополем было только внешним и наиболее «скандальным» выражением той борьбы, которую вел вновь обращенный русский народ со своими крестителями. Эта борьба за свою самостоятельность захватывала все области духовной культуры Киевского государства; печатью этой борьбы отмечены и литературное произведения этой поры, и летопись, и бурное архитектурное строительство, и изобразительное искусство княжения Ярослава. >2 В 1037 г. Ярослав Мудрый добился учреждения в Киеве особой митрополии Константинопольского патриархата. Назначение особого митрополита для Киевского государства, было немалым успехом Ярослава, так как оно поднимало международный престиж Русской земли. Давая разрешение на установление отдельной Киевской митрополии, греки все же надеялись, что новый митрополит, избираемый императором из угодных ему ромеев-греков, станет надежным агентом Византийской империи и будет проводить политику полного подчинения Руси императору. В свою очередь, Ярослав рассматривал назначение особого киевского митрополита, как успех своей политики к рассчитывал добиться впоследствии полного признания независимости русской церкви от Константинополя.26 Торжество русской политики, крупный политический успех в отношениях с Империей и свои надежды на жизненно крепкое будущее Руси Ярослав подкрепил богатым строительством: «В лето 6545. Заложи Ярослав город великыи, у него же града суть Златая врата, заложи же и церковь святыя Софья, митрополью; и по семь цьркъвь на Золотых воротех святое Богородице Благовещенье, по семь святого Георгия манастырь и святыя Ирины» (Лавр. лет.). То, что Ярослав смотрел на назначение киевского митрополита только, как на первый успех своей политики, доказывается тем, что сразу же после 1037 г. Ярослав продолжает свои домогательства в Константинополе, добиваясь расширения прав русской митрополии и постепенного освобождения ее из-под опеки константинопольского патриарха и византийского императора. Для этого Ярослав стремится к поставлению митрополита из русских и к канонизации русских святых; он ведет военные приготовления против Империи и начинает крупную идеологическую борьбу с византийской теорией Вселенской Церкви, отождествлявшейся со Вселенской Империей нового Рима. Совершенно исключительное значение в этой идеологической борьбе Ярослава имело составление Древнейшего летописного свода 1039 г. Его идейная сторона ярко выразилась в том его составе, как он определен академиком А. А. Шахматовым.27 М. Д. Приселков считает, что составление летописного свода 1039 г. принадлежало исключительно инициативе первого русского митрополита — грека Феопемпта, который, «вступив в управление новой митрополии Цареградского патриархата, задался целью составить летописец, где изложить возникновение Киевской державы и историю установления своей митрополии».28 Основной идеей свода 1039 г. М. Д. Приселков считает идею церковной и политической несамостоятельности Руси. О точки зрения М. Д. Приселкова, «к прошлому нашей истории Древнейший свод 1039 г. отнесся отрицательно, начиная ее только с установления над русскою церковью греческой руки патриарха».29 Эту свою точку зрения, высказанную им в 1913 г. в «Очерках по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв.», М. Д. Приселков в основном повторил 27 лет спустя в «Истории русского летописания XI–XV вв.»: «…обычай византийской церковной администрации требовал при открытии новой кафедры, епископской или митрополичьей, составлять по этому случаю записку исторического характера о причинах, месте и лицах этого события для делопроизводства патриаршего синода в Константинополе. Несомненно, новому „русскому“ митрополиту, прибывшему в Киев из Византии, и пришлось озаботиться составлением такого рода записки, которая, поскольку дело шло о новой митрополии Империи у народа, имевшего свой политический уклад и только вступившего в военный союз и „игемонию“ Империи, должна была превратиться в краткий исторический очерк исторических судеб этого молодого политического образования».30 Категорически возражаем против такой характеристики начала русского летописания. В самом деле, по обилию исторического материала, по разнообразию вошедших в него жанров, в том числе по использованию исторических песен, пословиц, поговорок, по своим высоким художественным достоинствам Древнейший Киевский свод 1039 г. никак не мог быть «запиской», предназначенной митрополитом-греком для отсылки в «делопроизводство патриаршего синода в Константинополе». Древнейший Киевский свод соединил в себе в совершенно отчетливой форме все особенности последующего киевского летописания: художественность изложения, умелое ведение диа. логов, чувство юмора, острую бытовую наблюдательность а главное, высокое патриотическое сознание летописца. Совершенно исключительное значение для всего последующего летописания имел самый выбор языка, на котором велась летопись — простого, ясного, лишь в малой степени впитавшего в себя славянизмы церковной книжной речи. Этот выбор языка отнюдь не мог совпадать с потребностями официальной «записки», предназначенной для греков в Константинополе. Русский язык Древнейшего летописного свода не только не соответствовал этим потребностям митрополита-грека, который, конечно, составил бы его по-гречески или по-болгарски, но разительно контрастировал с языком большинства одновременных ему западноевропейских хроник (кроме англо-саксонских), составлявшихся на чуждом и непонятном народу латинском языке. Поразительно стремление летописца как можно шире и полнее представить ход русской истории не только с момента принятия христианства от Империи (как думает М. Д. Приселков),31 но и значительно раньше. Свой труд летописец предпринимает с изумительной для своего времени исторической пытливостью. В круг исторических источников первого летописного свода включаются памятники материальной культуры прошлого, данные языка, письменные произведения предшествующей поры, документы и рассказы очевидцев, народные песни и легенды. Составитель Древнейшего свода указывает урочища, рвы и могилы, сохранившиеся от времен минувших. Приводит летописец и пословицы и поговорки, имеющие историческое происхождение. Голод в осажденной Родне позволяет ему объяснить поговорку «беда, аки в Родьни».32 Летописец как бы запросто беседует со своим читателем, напоминает ему о том, что он и сам может знать, будит его любознательность, сообщает ему попутно сведения географические, бытовые и т. д. Еще одна черта составляет своеобразие древнейшей русской летописи, черта необъяснимая, если составителем ее водила враждебная русским рука грека: это крепкая связь летописания с фольклором. Древнейший Киевский свод в значительной мере основывается на народных преданиях и исторических песнях. Чисто народный юмор, неприличный и непонятный в официальном отчете митрополита патриарху, но вполне уместный в летописи, звучит то в каламбуре по поводу радимичей, потерпевших поражение на реке Пищане от воеводы Волчий хвост («темь и Русь коряться радимичем, глаголюще: „Пищаньци вълчия хвоста бегають“»),33 то в юмористическом изображении сетований дьявола при крещении Руси,34 то в передаче насмешек над тучным польским королем Болеславом («да то ти прободем трескою чрево твое тълстое»).35 Юмор этот теснейшим образом связан с наблюдательностью летописца, уменьем в лицах — рассказать историческое событие, дать краткие и выразительные характеристики. Но самым разительным в работе составителя Древнейшего свода был тот патриотический подъем, который руководил им при составлении характеристик русских князей. Составитель Древнейшего Киевского свода кратко, ярко и энергично обрисовал образ бесстрашного и неутомимого в походах богатыря князя Святослава,36 вещего Олега, мудрого князя Ярослава, предателя Блуда. Драматично рассказано в нем бегство предателя и братоубийцы Святополка «в пустыню межю Ляхы и Чехы».37 Со средневековой прямолинейностью делит летописец всех действующих лиц своей летописи на положительных и отрицательных, причем единственным критерием этого деления служит патриотическая оценка. Самыми черными чертами рисуются образы предателей, самыми светлыми — образы князей-победителей русских врагов. Очень часто летописец характеризует греков резко отрицательными чертами. Летописец изображает попытку греков отравить воинов Олега,38 их попытку обмануть Святослава, во время им разгаданную.39 Говорит летописец и о дани, которою обложил Святослав греков.40 Все это отнюдь не свидетельствует о греческой точке зрения на русскую историю. Центральное событие свода — крещение Руси и Владимира. Крещение Руси выдвинуло на историческую арену новый народ — русских, и Древнейший свод подчеркивает «богоизбранничество» русского народа: «благословен господь Иисус Христос, иже възлюби новыя люди, Руську землю, и просвети ю крещениемъ святымъ»,41 «…господь в векы пребываетъ, хвалим от Русьскых сынов, певаем в Троици, демони проклинаеми от благоверьных мужь и от говеиньных жен, иже прияли суть крыцение и покаяние в отпущение грехов, новые людие хрьстияньски, избрании богъмь».42 Образ Владимира и его характеристика как бы подготовляют особою в своде характеристику Ярослава. Владимир вспахал землю и сделал ее мягкой, т. е. просветил крещением. Ярослав засеял сердца верующих людей книжными словами, а мы русские — «новые христиане» — пожинаем. Такова историческая концепция свода. Похвала Ярославу составляет ее торжественную заключительную часть. Итак, центральные события свода — крещение Руси: и просветительная деятельность Ярослава. Центральная идея свода — превосходство христианства над язычеством и «новых людей» — русских — над прежними «невегласами». Идея эта объединяет единым настроением все изложение свода, заканчивавшегося тенденциозной концовкой: «И радовашеся Ярослав зело, а враг сетовашетъся, побежаем новыми людьми хрьстияньскыми». 43 В каком бы составе ни восстанавливать свод Ярослава, к какому бы году княжения Ярослава его ни относить, кажется ясным, что начало русского летописания не могло быть созданием митрополита-грека. И самая идея создания особой истории вновь обращенного народа-варваров, и самый характер изложения событий стоят в резком противоречии с основной тенденцией Империи: принять русских в подданство императору и распространить среди них ромейскую культуру с ее языком, лишив их культурной и политической самостоятельности. Совершенно очевидно, что свод 1039 г. был делом инициативы самого Ярослава и входил в круг его книжных предприятий, о которых сообщал летописец: «И бе Ярослав любя цьркъвьныя уставы, попы любяше по велику, излиха же чьрноризьце, и кънигам прилежа, почитая я часто в нощи и в дьне. И събра письце мъногы и перекладаше с ними от Грьчьска на Словеньское письмо, и съписаша кънигы мъногы, имиже поучающеся верьнии людие наслаждаються учения божьствьнаго. Ярослав же кънигы мъногы написав, положи в святей сеиг цьркъви, юже съзъда сам».44 «Летопись — это один из самых ярких показателей высоты: древнерусской культуры, — пишет академик Б. Д. Греков. — Это не просто погодная запись событий, как часто приходится слышать и читать, это законченный, систематизированный труд по истории русского народа и тех нерусских народов, которые вместе с русским народом были объединены в одно Киевское русское государство».45 Свод Ярослава был тем дипломатическим и юридическим актом, которым русские заявили о своем равноправии всем народам Европы. >3 Идеологические тенденции Древнейшего летописного свода стоят в ближайшем отношении к идеям «Слова о законе и благодати» пресвитера загородной дворцовой церкви Ярослава, в Берестове — Илариона. Тема «Слова» — тема равноправности народов, резко противостоящая средневековым теориям богоизбранничества лишь одного народа, теориям вселенской империи или вселенской церкви. Иларион указывает, что Евангелием и крещением Бог «все народы спас»,46 прославляет русский народ среди народов, всего мира и резко полемизирует с учением об исключительном праве на вселенское господство Нового Рима — Византии. Идеи эти изложены в «Слове» с пластической ясностью и исключительной конструктивной цельностью. Точность и ясность замысла отчетливо отразились в самом названии «Слова»: «О законе Моисеом данеем, и о благодати и истинне, Иисус Христомь бывшим, и како закон отъиде, благодать (же) и истина всю землю исполни, и вера в вся языки простреся: и до нашего языка [народа], русьскаго, и похвала кагану нашему Владамеру, от негоже крещени быхом (и молитва к Богу от всеа земли нашеа)».47 Трехчастная композиция «Слова», подчеркнутая в названии, позволяет органически развить основную тему «Слова» — прославление Русской земли, ее «кагана» Владимира и князя Ярослава. Каждая часть легко вытекает из предшествующей, постепенно сужая тему, логически, по типическим законам: средневекового мышления, переходя от общего к частному, от общих вопросов мироздания к частным его проявлениям, от универсального к национальному, к судьбам русского народа. Основной пафос «Слова» лежит в систематизации, в приведении в иерархическую цепь фактов вселенской истории в духе средневековой схематизации. Первая часть произведения касается основного вопроса исторических воззрений средневековья: вопроса взаимоотношения двух заветов — Ветхого и Нового, «закона» и «благодати». Взаимоотношение это рассматривается Иларионом в обычных: символических схемах христианского богословия, в последовательном проведении символического параллелизма. Символические схемы этой части традиционны. Ряд образов заимствован: в ней из византийской богословской литературы. В частности, неоднократно указывалось на влияние «слова» Ефрема Сирина, «на Преображение».48 Однако самый подбор этих традиционных символических противопоставлений оригинален. Иларион создает собственную патриотическую концепцию всемирной истории. Он нигде не упускает из виду основной своей цели: перейти затем к прославлению Русской земли и ее «просветителя» Владимира. Иларион настойчиво выдвигает вселенский, универсальный характер христианства, Нового Завета («благодати»), сравнительно с национальной ограниченностью Ветхого Завета («закона»). Подзаконное состояние при Ветхом Завете сопровождалось рабством, а «благодать» (Новый Завет) — свободой. Закон сопоставляется с тенью, светом луны, ночным холодом, благодать — с солнечным сиянием, с теплотой. Взаимоотношение людей с Богом раньше, в эпоху Ветхого; Завета устанавливалось началом рабства, несвободного подчинения— «закона», в эпоху же Нового Завета — началом свободы— «благодати». Время Ветхого Завета символизирует образ рабыни Агари, время Нового Завета — свободной Сарры. Особенное значение в этом противопоставлении Нового Завета Ветхому Иларион придает моменту национальному. Ветхий Завет имел временное и ограниченное значение, Новый же Завет вводит всех людей в вечность. Ветхий Завет был замкнут в еврейском народе, а Новый имеет всемирное распространение. Иларион приводит многочисленные доказательства того, что время замкнутости религии в одном народе прошло, что наступило время свободного приобщения к христианству всех народов без исключения; все народы равны в своем общении с Богом. Христианство, как вода морская, покрыло всю землю,49 и ни один народ не может хвалиться своими преимуществами в делах религии. Всемирная история представляется Илариону как постепенное распространение христианства на все народы мира, в том числе и на русский. Развивая эту свою мысль, Иларион явно полемизировал с идеями византинизма, противопоставляя им новое учение, резко расходившееся с притязаниями средневековья на универсализм светской и церковной власти. Излагая эту идею, Иларион прибегает к многочисленным параллелям из Библии и упорно подчеркивает, что для новой веры потребны новые люди. «Лепо бо бе благодати и истине на новые люда въсияти, не вливают бо — по словеси господню — вина нового, учения благодатна, в мехы ветхы… но новое учение, новы мехы, новы языки [народы], новое и съблюдеться, якоже и есть».50 По мнению исследователя «Слова» И. Н. Жданова, митрополит Иларион привлекает образы иудейства, Ветхого Завета только для того, чтобы «раскрыть посредством этих образов свою основную мысль о призвании язычников: для нового вина нужны новые мехи, для нового учения нужны новые народы, к числу которых принадлежит и народ русский».51 Сама по себе эта мысль была явно направлена против идеалов византинизма. Поэтому во многих из укоров Ветхому Завету можно видеть прямые укоры Византии, стороннице не свободного, а рабского наделения христианством. Прямою угрозою по адресу Константинополя звучали напоминания Илариона о конечном разорении Иерусалима за стремление замкнуть в себе дело религии.52 Итак, подчеркивая и настойчиво варьируя свою мысль о преимуществах новых народов перед старыми, о награждении меньших перед большими, о разрушении Иерусалима за ограничение божественного откровения, Иларион явным образом имел в виду греко-русские отношения своего времени. «Слово» родилось в обстановке подготовки военного похода на Константинополь Владимира Ярославича или непосредственно за ним,53 в обстановке противодействия греков канонизации Владимира.54 В этой же обстановке возникли и «Память и похвала князю Владимиру» Иакова Мниха и вышедшая из грекофильствующей среды «Корсунская легенда».55 «В судьбах новых народов „сбывается“, что в символических образах представлено в истории ветхозаветной, — писал о «Слове» академик И. Н. Жданов. — Нужно только понимать эти образы: „да разумеешь, иже чтешь“».56 Рассказав о вселенском характере христианства сравнительно с узко национальным характером иудейства и подчеркнув значение новых народов в истории христианского учения, Иларион свободно и логично переходит затем ко второй части своего «Слова», сужая свою тему, — к описанию распространения христианства по Русской земле: «вера бо благодатная по всей земли распростреся и до нашего языка русьскаго доиде… Се бо уже и мы съ всеми христианы славим святую Троицу».57 Русь равноправна со всеми странами и не нуждается ни в чьей опеке: «вся страны благий Бог помилова, и нас не презре, въсхоте и спасе ны и в разум истиный приводе».58 Воззрения русских, подчеркивает Иларион, диаметрально противоположны национально-исключительным воззрениям греков: «а не иудейски хулим, но христиански благословим, не съвета творим, якоже распяти, но яко распятому поклонитися».59 Русскому народу принадлежит будущее, принадлежит великая историческая миссия: «и събыстся о нас языцех [народах] реченое: открыет мышцу свою святую предо всеми языки [перед всеми народами] и узрят вси конци земля спасение Бога нашего (Исаии, LII, 10)».60 Патриотический и полемический пафос «Слова» растет, по мере того как Иларион описывает успехи христианства среди русских. Словами Писания Иларион приглашает всех людей, все народы хвалить Бога. Пусть чтут Бога все люди и возвеселятся все народы, все народы восплещите руками Богу. От Востока и до Запада хвалят имя Господа; высок над Всеми народами Господь. Патриотическое воодушевление Илариона достигает высшей степени напряжения в третьей части «Слова», посвященной прославлению Владимира I Святославича. Вели первая часть «Слова» говорила о вселенском характере христианства, а вторая часть — о русском христианстве, то третья часть предназначена для похвалы князю Владимиру. Органическим переходом от второй части к третьей служило изложение средневековой богословской идеи, что каждая из стран мира имела своим просветителем одного из апостолов.61 Есть и Руси кого хвалить, кого признавать своим просветителем: «Похвалим же и мы, по силе нашей, малыми похвалами, великая и дивная сътворшаго, нашего учителя и наставника, великаго кагана нашея земля, Владимера».62 Русская земля и до Владимира была славна в странах, в ней и до Владимира, были замечательные князья: Владимир «внук старого Игоря, сын же славного Святослава».63 Оба эти князя «в своя лета, владычествующа, мужьством же и храбрьством прослуша. [прославились] в странах многих и поминаются ныне и словуг [славятся]».64 Иларион высоко ставит авторитет Русской земли, среди стран мира. Русские князья и до Владимира не в худой и не в неведомой земле владычествовали, но в русской, которая ведома и слышима есть всеми концами земли.65 Владимир — это только «славный от славных», «благородный из благородных».66 Иларион описывает далее военные заслуги Владимира. Владимир «единодержець быв земли своей, покорив под: ся округныа страны, овы миром, а непокоривыя мечем».67 Силу и могущество русских князей, славу Русской земли, «единодер-жавство» Владимира и его военные успехи Иларион описывает с нарочитою целью — показать, что принятие христианства могущественным Владимиром не было вынужденным, что оно было результатом свободного выбора Владимира. Описав общими чертами добровольное, свободное крещение Владимира, отметая всякие возможные предположения о просветительной роли греков, Иларион переходит затем к крещению Руси, приписывая его выполнение исключительной заслуге Владимира, совершившего его без участия греков.68 Подчеркивая, что крещение Руси было личным делом одного только князя Владимира, так как это позволяло ему соединение в нем «благовериа с властью», Иларион явно полемизирует с точкой зрения греков, приписывавших себе инициативу крещения «варварского» народа. Затем Иларион переходит к описанию личных качеств Владимира и его заслуг, очевидным образом имея в виду указать на необходимость канонизации Владимира, против которой возражали греки. Довод за доводом приводит Иларион в пользу — святости Владимира: он уверовал в Христа, не видя его,69 он неустанно творил милостыню; он очистил свои прежние грехи этой милостыней; он крестил Русь — славный и сильный народ и тем самым равен Константину, крестившему греков. Сопоставление дела Владимира для Руси с делом Константина для ромеев-греков направлено против греческих возражений на канонизацию Владимира: равное дело требует равного почитания.70 Нетерпимое и обидное для греков-ромеев, сопоставление Владимира с Константином Иларион развивает особенно пространно, а затем указывает на продолжателя дела Владимира — на его сына Ярослава, перечисляет его заслуги, его строительство. Патриотический пафос этой третьей части, прославляющей Владимира, еще выше, чем патриотический пафос второй. Он достигает сильнейшей степени напряжения, когда, пространно описав просветительство Владимира, новую Русь и «славный град» Киев, Иларион обращается к Владимиру с призывом восстать из гроба и посмотреть на плоды своего подвига: «Встани, о честная главо, от гроба твоего, встани, отряси сон, неси бо умерл, но спиши до общаго всем въстаниа. Встани, неси умерл, несть бо ти лепо умрети, веровавшу во Христа, живота всему миру. Отряси сон, возведи очи, да видиши, какоя тя чьсти господь тамо сподобив и на земли не безпамятна оставил сыном твоим».71 За третьею, заключительною частью «Слова» следовала молитва к Владимиру, пронизанная тем же патриотическим подъемом, патриотическою мыслью. «И донелиже стоит мир, — обращался Иларион в ней к Богу, — не наводи на ны [т. е на русских] напасти искушениа, ни предай нас в рукы чуждиих [т. е. врагов], да не прозовется град твой [т. е. Киев] град, пленен, и стадо твое [т. е. русские] пришельцы в земли не своей».72 Итак, истинная цель «Слова» Илариона не в догматико-богословском противопоставлении Ветхого и Нового Заветов, как думали некоторые его исследователи.73 По выражению В. М. Истрина — это «ученый трактат в защиту Владимира».74 Иларион прославляет Русь и её «просветителя» Владимира. Византийской теории вселенской церкви и вселенской империи Иларион противопоставил свое учение о равноправности всех народов, свою теорию всемирной истории, как постепенного и равного приобщения всех народов к культуре христианства. Широкий универсализм характерен для произведения Илариона. История Руси и ее крещение изображены Иларионом как логическое следствие развития мировых событий. Чем больше сужает Иларион свою тему, постепенно переходя от общего к частному, тем выше становится его патриотическое одушевление. Таким образом, все «Слово» Илариона от начала до конца представляет собой стройное и органическое развитие единой патриотической мысли. Впоследствии своим принятием сана митрополита без санкции Константинополя, единственно по выбору русских епископов, Иларион практически выступил против гегемонии Византии, доказывая, что русская церковь — церковь свободы, а не рабства, а Киев равноправен Константинополю. >4 А. А. Шахматов установил ту связь, которая существовала между началом русского летописания и построением Софии Киевской.75 Аналогичную связь можно установить между «Словом» Илариона и Софией. Архитектура эпохи Ярослава входит, как существенное звено, в единую цепь идеологической взаимосвязи культурных явлений начала XI в. «Слово» Илариона составлено между 1037 и 1050 гг… М. Д. Приселков сужает эти хронологические вехи до 1037–1043 гг., считая, и, повидимому, правильно, что оптимистический характер «Слова» указывает на его составление до несчастного похода Владимира Ярославича в 1043 г.76 Трудно предположить, что «Слово» Илариона, значение которого равнялось значению настоящего государственного акта, государственной декларации, было произнесено не в новом, только что отстроенном Ярославом центре русской самостоятельной митрополии — Софии. «Слово», несомненно, предназначалось для произнесения во вновь отстроенном храме, пышности которого удивлялись современники. Против произнесения «Слова» в Десятинной церкви, как уже было отмечено исследователями, свидетельствует то место «Слова», где Иларион, говоря о Владимире, упоминает Десятинную церковь, в качестве посторонней: «Добр послух благоверью твоему [Владимира], о блажениче, святаа церкы, святыя богородица Мария… идеже мужьственное твое тело лежит».77 Присутствие Ярослава и жены его Ирины на проповеди Илариона, отмеченное в «Слове»,78 прямо указывает на Софию, как на место, где было произнесено «Слово» Илариона. Ведь именно София была придворной церковью, соединяясь лестницей с дворцом Ярослава.79 Именно здесь, в Софии, мог найти Иларион то «преизлиха» насытившееся «сладости книжной»80 общество, для которого, как он сам говорит в «Слове», он предназначал свою проповедь. Ведь именно Софию Ярослав сделал центром русской книжности, собрав в ней «письце мъногы» и «кънигы мъногы».81 Если «Слово» было действительно произнесено в Софии, тонам станут понятны все те восторженные отзывы о строительной деятельности Ярослава и о самой Софии, которые содержатся в «Слове». Иларион говорит о Софии, что подобного ей храма «дивна и славна»… «не обрящется в всем полунощи [севере] земном, от востока до запада».82 Можно и еще более уточнить место произнесения проповеди Илариона. «Известно, что в Византии царь и царица в своих придворных церквах слушали богослужение, стоя на хорах, царь на правой, а царица на левой стороне».83 Можно считать установленным, что на Руси этот обычай существовал до середины XII в. Здесь на хорах князья принимали причастие, здесь устраивались торжественные приемы, хранились книги и казна. Вот почему до тех пор, пока на Руси держался этот обычай, хоры в княжеских церквах отличались обширными размерами, были ярко освещены и расписаны фресками на соответствующие сюжеты. Очевидно, что именно здесь на хорах и было произнесено «Слово» Илариона, в присутствии Ярослава, Ирины и работавших здесь книжников. Росписи Софии и, в частности, ее хоров, представляют собой любопытный комментарий к «Слову» Илариона. К X и XI вв. росписи храмов выработались в сложную систему изображения мира, всемирной истории и «невидимой церкви». Весь храм представлялся как бы некоторым микрокосмосом, совмещавшим в себе все основные черты символического христианско-богословского строения мира. Это в особенности следует сказать и о храме Софии Киевской. Фрески и мозаики Софии воплощали в себе весь божественный план мира, всю мировую историю человеческого рода. Эта история человечества обычно давалась в средние века как история Ветхого и Нового Заветов. Противопоставление Ветхого и Нового Заветов — основная тема росписей Софии. Оно же — исходная тема и «Слова» Илариона. Следовательно, произнося свою проповедь, Иларион непосредственно исходил из темы окружающих изображений. Фрески и мозаики киевской Софии могли наглядно иллюстрировать проповедь Илариона. Росписи хоров представляют собой в этом отношении особенное удобство. Именно здесь на хорах были те сцены Ветхого Завета, персонажи которых подавали наибольший повод для размышлений Илариона: «встреча Авраамом трех странников», «гостеприимство Авраама», а также «жертвоприношение Исаака». Своими словами «яко человек иде на брак в Кана Галилеи, и яко бог воду в вино преложи»84 Иларион мог прямо указать два противостоящие друг другу изображения, символически поясняющие чудо на браке в Кане, претворение воды в вино, и рядом вечерю Христа с учениками по воскресении. Для средневековой проповеди было типично исходить из такого символического толкования устройства церкви, ее названия в честь того или иного события, божества, святого; из символического толкования находящихся в ней изображений. В той же проповеди Илариона имеется символическое толкование основания церкви Благовещения на Киевских Золотых воротах в прямом отношении к будущей судьба Киева. Название церкви Благовещения на Золотых воротах, по мнению Илариона, символично. Подобно тому, как архангел Гавриил дал целование девице, т. е. деве Марии, — «будет и граду сему» (т. е. Киеву). К деве Марии архангел обратился со словами: «радуйся, обрадованная, Господь с тобою»; к городу же Киеву через эту церковь архангел также как бы обращается со словами: «радуйся, благоверный граде, Господь с тобой».85 Таким образом, Иларион символически и патриотически толкует название церкви Благовещения; так же символически толкует Иларион и росписи Софии, тема которых становится основным исходным моментом его «Слова». Благодаря этому вся проповедь Илариона сильно приобретала в доказательности. >5 В средние века отвлеченные понятия очень часто отождествлялись с их материальными воплощениями. Нередко самые отвлеченные идеи представлялась грубо натуралистическими. Средневековые миниатюристы и иконописцы изображали душу Марии в композиции Успения в виде спеленутого ребенка, ад — в виде морского чудовища, реку Иордан — в виде старца и т. д. Аналогичным образом смешивались отвлеченное понятие церкви и самое церковное здание — строение. «Натуралистическое» понимание понятия церкви как организации было широко распространено и на Западе и в самой Византии. Так, например, девятый член Символа веры: «Верую во едину святую, соборную и апостольскую церковь», очень часто иллюстрировался миниатюристами изображением церковного здания с епископом, совершающим внутри его евхаристию. Такое «натуралистическое» понимание церкви, как организации, мы встречаем и у Даниила Заточника, изменившего сообразно этому своему представлению даже текст Писания: «Послушайте, жены, апостола Павла глаголяща: крест [вм. правильного «Христос»] есть глава церкви, а муж жене своей».86 Втечение многих веков русские, говоря о Иерусалимской церкви, как о патриархии, имели в виду храм Воскресения в Иерусалиме. Так, например, митрополит Феодосий писал в своем послании 1464 г.: «Сион всем церквам глава, мати суще всему православию».87 Аналогичным образом на Руси: постоянно отождествлялась константинопольская патриархия с константинопольским храмом Софий. Именно поэтому в захвате Константинополя турками и в последующем обращении храма Софии в мечеть русские увидели падение греческой церкви, падание константинопольской патриархии и перестали признавать константинопольского патриарха, а признали Иерусалимскую церковь [т. е. храм-Воскресения] главой всех православных церквей.88 Такое же точно натуралистическое смешение понятия церкви, как организации, с храмом было свойственно и эпохе Ярослава. Сам Иларион отождествлял эти два термина. В своем «Исповедании» Иларион говорит: «К кафоликии и апостольской церкви притекаю, с верою вхожду, с верою молюся, с верою исхожду».89 Вот почему и в летописи сказано о Ярославе: «заложи же и цркъвь святыя София, митрополию».90 Итак, строя храм Софии в Киеве, Ярослав «строил» русскую митрополию, русскую самостоятельную церковь. Называя вновь строящийся храм тем же именем, что и главный храм греческой церкви, Ярослав как бы бросал ей тем самым вызов, претендуя на равенство русской церкви греческой. Самые размеры и великолепие убранства Софии становились прямыми «натуралистическими» свидетельствами силы и могущества, русской церкви, ее прав на самостоятельное существование. Отсюда ясно, какое важное политическое значение имело построение киевской Софии — русской «митрополии», а вслед за ней и Софии Новгородской. Торжественное монументальное зодчество времени Ярослава, четкая делимость архитектурного целого, общая жизнерадостность внутреннего убранства, обилие света, продуманная система изобразительных композиций, тесно увязанных с общими архитектурными формами, — все это было живым, «натуралистическим» воплощением идей эпохи, широких и дальновидных, надежд лучших людей того временя на блестящее будущее русского народа. Отождествление русской церкви с храмом Софии Киевской вело к обязательному подчинению всей архитектуры вновь отстраивавшегося храма — патрональной святыни Русской земли — идее независимости русского народа, идее равноправности русского народа народу греческому. Вот почему, исходя в своем патриотическом «Слове» из самой системы росписей Софийского собора, изображавших всемирную историю в ее средневековом истолковании, как историю Ветхого и Нового Заветов, Иларион вооружал свою проповедь чрезвычайно существенною для средневекового сознания силою доказательности. Начиная свою проповедь с темы росписей Софии, Иларион имел в виду не только ораторский эффект, не только придание своей речи наглядности, не только иллюстрирование ее имеющимися тут же изображениями, а убеждение слушателей теми реальными, материальными, «каменными» аргументами, которые имели особенное значение для склонного к «натурализму» средневекового мышления. Кроме того, Иларион вводил тем самым традиционную тематику мозаичных и фресковых изображений Киевской Софии в общую идеологию своей эпохи, заставляя «работать» изобразительное искусство Софии на пользу Руси и русского государства. Итак, русская литература эпохи Ярослава, русская историческая мысль, русская архитектура, русское изобразительное искусство этого периода были подчинены общей задаче: утвердить равноправие русского народа среди других народов мира. >6 Первая русская летопись и «Слово» Илариона явились блестящим выражением того народно-патриотического подъема, который охватил Киевское государство в связи с общими культурными успехами Руси. Оптимистический характер культуры этого периода позволил даже говорить об особом характере древнерусского христианства, якобы чуждого аскетизма, жизнерадостного и жизнеутверждающего. Академик Н. К. Никольский писал, что «при Владимире и при сыне его Ярославе русское христианство было проникнуто светлым и возвышенным оптимизмом мировой религии».91 М. Д. Приселков выступил с гипотезой, где объяснил происхождение этого жизнерадостного христианства (струя которого прослеживалась им и за пределами княжения Ярослава) особым характером болгарского христианства X–XI вв., передавшегося на Русь через Охридскую епископию.92 Этим оптимистическим характером отличались Древнейший Киевский летописный свод и «Слово» Илариона. Тою же верою в будущее русского народа были продиктованы и грандиозное строительство эпохи Ярослава и ее великолепное изобразительное искусство. Общие черты византийской архитектуры этой эпохи — четкая делимость архитектурных масс, обширные внутренние пространства, обилие света, конструктивная ясность целого, роскошь внутреннего убранства, тесная увязка мозаики и фресок с архитектурными формами — пришлись, как нельзя более кстати, к жизнерадостному духу, русской культуры времени Ярослава. Эта культура впоследствии вошла, как определяющая и важнейшая часть, во всю культуру Древней Руси: свод Ярослава лег в основу всего последующего русского летописания, определив его содержание и стиль; «Слово» Илариона получило широкую популярность и отразилось не только во многих: произведениях древнерусской письменности, но и в письменности славянской. «Слово» Илариона и, в особенности, две последние, наиболее патриотические части его отразились в похвале Владимиру в Прологе (XII–XIII в.), в Ипатьевской летописи (похвала Владимиру Васильковичу и Мстиславу Васильковичу), в житии Леонтия Ростовского (XIV–XV в.), в произведениях Епифания Премудрого (в житии Стефана Пермского) и др. «Слово» Илариона созвучно даже народному творчеству. Та часть «Слова», где Иларион обращался к Владимиру с призывом встать из гроба и взглянуть на оставленный им народ, на своих наследников, на процветание своего дела, близка к излюбленной схеме народных плачей о царях (о Грозном, о Петре). Наконец, за русскими пределами «Слово» Илариона отразилось в произведениях хиландарского сербского монаха Доментиана (XIII в.) — в двух его житиях: Симеона и Саввы.93 Молитва Илариона, заканчивавшая собою «Слово», повторялась во все наиболее критические моменты древнерусской жизни. Строки ее, посвященные мольбе за сохранение независимости Русской земли, произносились в наиболее грозные годины вражеских нашествий. Архитектура эпохи княжения Ярослава так же, как и книжность, была обращена к будущему Русской земли. Грандиозные соборы Ярослава в Киеве, в Новгороде и в Чернигове были задуманы как палладиумы этих городов. София Киевская соперничала с Софией Константинопольской. Замысел этой Софии был также проникнут идеей равноправности Руси Византии, как и вся политика эпохи Ярослава, основанная на стремлении создать свои собственные, независимые от Империи центры книжности, искусства, церковности. Не случайно, думается, София в Киеве, церковь Спаса в Чернигове, София в Новгороде остались самыми крупными и роскошными церковными постройками в этих городах на всем протяжении русской истории до самого XIX в. София Новгородская никогда не была превзойдена в Новгороде, ни в своих размерах, ни в пышности своего внутреннего убранства, ни в торжественно-монументальных формах своей архитектуры. Знаменательно, что вся культура эпохи Ярослава, все стороны культурной деятельности первых лет XI в. проходят под знаком тесного взаимопроникновения архитектуры, живописи, политики, книжности. >7 При Ярославе высоко вырос международный авторитет Киевского государства. Русь выступает на страницах западноевропейских исторических документов не как отсталая, варварская страна, а как равноправное государство. Об этом же свидетельствуют обширные политические связи Киевской Руси со всеми европейскими государствами. Сам князь Ярослав Мудрый был связан со всеми дворами Европы. Он был женат на Ингигерде, дочери шведского короля Олафа. Старшая дочь его была замужем за французским королем Генрихом I и была одно время регентом Франции при своем малолетнем сыне Филиппе I. Вместе со своим несовершеннолетним сыном она подписывала французские государственные документы. Средняя дочь Анастасия была 'замужем за венгерским королем Андреем I. Сын Ярослава Всеволод был женат на греческой царевне Анне; он был высоко образован и владел пятью иностранными языками. Сын Изяслав был женат на сестре польского короля Казимира. Упорно добивался руки дочери Ярослава Елизаветы знаменитый викинг Гаральд Строгий, впоследствии норвежский король, подвиги которого гремели по всей Европе. Внешний облик Киева, его замечательное искусство, развитие ремесел, обширная мировая торговля соответствовали при. Ярославе международному авторитету Киевского государства, его обширным связям со странами Востока и Запада. >III ИДЕЯ ЕДИНСТВА РУСИ В ГОДЫ КНЯЖЕНИЯ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА >Одно из самых значительных явлений русской средневековой культуры — летописание. Политически острая летопись постоянно служила ориентиром в политической жизни городов, княжеств, областей. В летописи скрещивались вое важнейшие идейные течения Руси, в нее вносились наиболее важные документы (договоры, завещания князей, послания) и лучшие исторические литературные произведения. Возникнув во второй четверти XI в., при Ярославе Мудром, летописание сразу же достигает высоких ступеней развития. Древнейший Киевский свод Ярослава Мудрого и последующие Киево-Печерокие своды 1073 и 1093 гг. были, насколько возможно о них судить по сохранившимся в позднейших летописях фрагментам, произведениями государственного размаха и огромной идейной силы. >1 Попытка Ярослава создать вокруг Софии Киевской прочный оплот русского просвещения не удалась. Вслед за русским митрополитом Иларионом, Константинополь снова присылает митрополита — грека. Центр русского просвещения передвигается со второй половины XI в. в Киево-Печерский монастырь, где получали образование первые русские епископы и попы и где книжность и литература нашли себе до поры до времени надежное пристанище. Первая переработка Древнейшего Киевского свода была произведена около 1073 г. монахом Киево-Печерского монастыря Никоном, книжная деятельность которого оказалась особо отмеченной впоследствии в житии Феодосия. Никон был в свое время (в конце 1060-х годов) сослан в Тмутаракань. Отсюда в своде ряд тмутараканских известий и преданий: о поединке черкеса-касога Редеди с Мстиславом (эпизод этот упомянут в «Слове о полку Игореве»), о хозарской дани и др. Использование фольклора Причерноморья привело к переработке рассказа Древнейшего свода о крещении Руси. Никон ввел в свод так называемую «Корсунскую легенду», рассказывавшую о крещении Владимира не в Киеве, а в Корсуни (Херсонесе), в Крыму, в результате победы, одержанной им над греками.94 Настроение торжества по поводу водворения нового порядка и христианства, которое охватывало целиком Древнейший свод, сменяется у Никона в новых политических обстоятельствах второй половины XI в, тревогой за судьбу родины, раздираемой феодальными междоусобиями. Свои политические устремления Никон осторожно выразил, поместив в свод завещание Ярослава Мудрого (произведение, возможно, написанное не Ярославом). В нем Ярослав просит своих сыновей быть «в любви межю собой» и не погубить «землю отець своих и дед своих, иже налезоша трудомь своимь великымъ».95 Свод Никона был подвергнут основательной переработке в 1093 г. В атом своде окончательно оформилась центральная часть летописи в том ее виде, в каком она вошла впоследствии в «Повесть временных лет». Это и позволило исследователям летописания назвать свод 1093 г. «Начальным». Начальный свод проникнут тем же настроением тревоги за судьбу родины, что и предшествующий ему свод Никона. Междоусобия князей приняли к этому времени такой характер, что летописцу приходилось не только призывать к прекращению распрей, но обосновывать и само единство княжеского рода. О этой целью в свод внесена легенда о призвании трех братьев-варягов. Легенда эта заимствована, повидимому, из новгородской летописи, где живы были еще предания о приглашении наемных дружин варягов. Предания эти оказались трансформированы под воздействием эпических мотивов, сильно распространенных и на Западе и на Востоке, о трех братьях — основателях городов, и под влиянием ходячих средневековых легенд о происхождении правящей династии из иноземных государств. Замечательною особенностью Печерского Начального свода 1095 г. было использование для его составления Новгородской летописи. Киевское летописание становилось, таким образом, общерусским, не только по идее, но и по исполнению. В обстановке упадка Киевского государства Начальный свод вступил на путь идеализации старых времен и старых князей, которые как бы противопоставлялись и ставились в пример новым. Ратную доблесть и неутомимость в походах больше всего ценит летописец в первых русских князьях. На основании старых дружинных песен летописец вставил в свой свод известную характеристику Святослава — описал его суровый образ жизни, предприимчивость, подвижность и рыцарское прямодушие, с которым он предупреждал о. себе врагов, ввел его энергичные обращения к дружине перед битвами и т. д. Побуждая князей к активной политике против степи, летописец в полных трагизма и скорби словах повествует о хищных набегах половцев, разорявших Русскую землю, толпами уводивших в рабство население сел! и городов. Печальные, с осунувшимися лицами, с ногами в путах, гонимые «незнаемою страною»,96 мучимые жаждою и голодом пленники со слезами говорили друг другу: «аз бех сего города», «аз сея вси» (села). Летописец Начального свода принадлежал к тем «смысленным мужам», которые видели несчастье Русской земли в распрях князей, головой пробивавших себе дорогу к Киевскому столу, и не раз обращались к князьям с призывом: «почто вы распря имате межи собою, а погании [язычники — степные народы] губять Землю Русьскую».97 >2 Бесспорно одна из лучших русских летописей — «Повесть временных лет», составленная в 1110–1118 гг. В предшествующий созданию «Повести» период, на рубеже XI и XII вв., Киевская Русь испытывает на себе наиболее тяжкие удары кочевников, ставшие жесточайшим народным бедствием. Степные кочевники — половцы — делают отчаянную попытку прорвать оборонительную линию земляных валов, которыми Русь огородила с юга и юго-востока свои степные границы, и осесть в пределах Киевского государства. В 1096 г. половецкий хан Боняк чуть не ворвался в Киев, ограбил и разорил Печерский монастырь, когда монахи спали по кельям. Теснимая с севера половцами и печенегами, а с моря турецким флотом с Чахой во главе, союзная Киеву Византия была бессильна предотвратить грозившую ей самой опасность. В этот тяжелый период русской истории в Киевской Руси консолидируются силы, стремящиеся к решительному нажиму на степь. Подъем этот (совпадает с освободительным движением в Испании против господства мавров и с общим движением в Европе на Восток в отпор наступающим туркам, прервавшим европейскую торговлю с Азией. Русь, составлявшая левый фланг европейской обороны против напора кочевых и полукочевых народов, полукольцом охвативших Европу, объединяется под властью Владимира Мономаха и переходит от пассивной обороны к активному наступлению на степь. Степные походы Мономаха сбивают волну половецких набегов и спасают самую Византию от гибели. Именно в это время составляется замечательный памятник русского летописания — «Повесть временных лет», вся проникнутая единой мыслью о Русской земле, о ее защите, о необходимости единения перед лицом внешней опасности. «Повесть временных лет» одновременно завершает целый период киевского летописания и вместе с тем является основой всех последующих летописаний, начало которых она, обычно, составляет. История создания величайшего памятника русского летописания — «Повести временных лет» — чрезвычайно сложна и запутана. Здесь сказалась работа целых поколений русских книжников, сказались сложные искания исторической мысли, сложное мировоззрение, в котором боролись аскетические монашеские настроения с реальными запросами русской жизни. Многочисленные литературные источники устные и книжные, русские и иноземные, язык «Повести», то просторечный, близкий к разговорному, то книжный, пересыпанный славянизмами и грецизмами, легли в основу этого грандиозного творения. В создании «Повести» принимали участие две литературные школы — Киево-Печерская и Выдубецкая, по-разному понимавшие свои задачи, но удачно сложившие свои силы в произведении, отличающемся убедительной законченностью, цельностью архитектоники. В 1110 г. монах Печерского монастыря Нестор переработал Начальный свод 1095 г. К новому своду Нестор привлек византийский исторический материал — хронику Георгия Амартола и его продолжателя, затем компилятивный «Хронограф по великому изложению» и др. Нестор связал русскую историю с мировой, придал ей центральное значение. Программа летописца и его задачи точно сформулированы в самом названии «Повести»: «Се повести временных лет, откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуда Русская земля стала есть». Показать Русскую землю в ряду других европейских стран, доказать, что русский народ не без роду и племени, что он имеет свою историю, которой вправе гордиться, — такова замечательная по своему времени цель составителя «Повести». «Повесть временных лет» должна была напомнить князьям о славе и величии родины, о мудрой политике их предшественников и об исконном единстве Русской земли. Задача эта выполнена летописцем с необыкновенным тактом и художественным чутьем. Широкий замысел сообщил спокойствие и неторопливость рассказу летописца, целеустремленность и твердость его суждениям, художественное единство и монументальность всему произведению в целом. Начало «Повести временных лет» посвящено событиям всемирной истории, предшествующим сложению Киевского государства. Летописец вводит Русь на мировую историческую арену, сообщая самые разнообразные сведения — географические, этнографические, культурно-исторические. Неторопливо раскрывает летописец ту историческую обстановку, в которой родилось Русское государство, рассказывает сперва о народах мира, затем о древнейших судьбах славянского племени и «словенского» языка. Просто и наглядно дает летописец географическое описание Руси, путей, связывающих ее с другими странами, с замечательной последовательностью начиная свое описание с водораздела рек Днепра, Западной Двины, Волги. Далее летописец описывает древнейший быт русских племен, рассматривая их как единый народ, и не забывает при этом упомянуть о соседящих с ними мере, черемисах, муроме и мордве. Летописец обращает внимание на происхождение русского языка, как на главный признак русской народности. Он выступает первым в русской истории и в истории славянства вообще защитником идеи общеславянского единства: «бе бо един язык Словеньск; а Словеньск язык и Русьскыи един есть…, аще и поляне зъвахуся, но Словеньска речь бе; полями же прозъвашася, зане в поли седяху, а язык Словеньск бысть им един».98 Чтобы придать особую значительность христианскому просвещению на Руси, составитель «Повести» включил в нее легенду о путешествии апостола Андрея через Русскую землю. Андрей благословил Киевские горы, а в Новгороде посмеялся банному обычаю: «како ся мыють и хвощются [хлещутся] младыми прутьями» и обливаются «квасом уснияным».99 «И того ся добьють, егда влезуть ли живи и облеются водою студеною и тако оживуть. И то творять мовение себе, — прибавляет Андрей, — а не мучение».100 В этом сочетании торжественного с комическим проявился подлинный художественный Темперамент летописца, не боящегося заставить апостола произносить каламбуры. Собственно русскую историю летописец дополнил договорами русских с греками, взятыми им из княжеского архива, включил легенду о сожжении Ольгой Искоростеня, о белгородском киселе и др. Обильно отразились в «Повести» произведения устного народного творчества. С русскими былинами роднит «Повесть» главным образом основная, общая им тема — оборона Русской земли от восточных кочевников. Так же, как и русские былины, летописец воспевает богатырство, силу, доблесть и подвиги русских воинов. Поединщики-богатыри по-былинному решают в летописи исход войны единоборством перед войсками. Один из редких подвигов былинного характера отразился в летописном рассказе о поединке юноши-кожемяки с печенежским богатырем перед лицом двух войск — русского и печенежского. Летопись рассказывает, как русские, вызванные на единоборство, тщетно искали поединпщка, который смог бы противостать печенежскому богатырю, как затем начал «тужить» князь Владимир и как, наконец, объявился некий старый муж я сказал Владимиру: «Князь, есть у меня один сын — меньшой — дома; с четырьмя вышел я сюда, а тот дома остался. Из детства никто еще не мог его победить: однажды я его журил, а он мял кожу, так в сердцах он разорвал ее руками». Услышав это, князь Владимир обрадовался и послал за младшим сыном старика, кожемякой. Приведенный к князю, неказистый на вид, юноша просит предварительно испытать его и привести ему большого и сильного быка. Быка привели, раздразнили его горячим железом и пустили бежать. Когда бык бежал мимо, юноша-кожемяка схватил быка рукой за бок и вырвал ему кусок кожи с мясом. Видя это, Владимир разрешил юноше бороться с печенежским богатырем. На следующее утро печенеги выпустили своего превеликого и страшного богатыря, а русские — своего. Увидел его печенежин и посмеялся, потому что русский богатырь был мал ростом. Полки размерили место для поединка, и богатыри сошлись. Юноша-кожемяка так сильно сжал печенежина руками, что удавил его и бросил его на землю. Раздался крик в полках, и устрашенные печенеги бежали. Обрадованный Владимир заложил на месте поединка город, а скромного кожемяку сделал «великим мужем».101 В этом рассказе «Повести» впервые отразилась мысль, ставшая затем излюбленным мотивом русской литературы вплоть до наших дней, о скромности настоящего героизма, о силе народного духа в незаметных внешне героях (Пушкин, Лермонтов, Л. Толстой, Достоевский и др.). Невысокий ростом ремесленник, пятый сын своего отца, которого даже не берут в поход, а оставляют дома, побеждает превеликого и страшного богатыря-печенежина, против которого не решался выйти никто из профессионалов-воинов. Спустя короткий срок, в 1116 г., потребовалась новая переработка летописи. Причина, побудившая к этой переработке, заключалась в том, что «Повесть», торжественная и патетичная вначале, не давала ответов на вопросы современной ей политики в известиях, касавшихся княжения Владимира Мономаха. На этот раз летописание было перенесено по воле Мономаха в Выдубецкий Михайловский монастырь, державшийся политической ориентации Мономаха. Сторонник Мономаха — игумен Сильвестр — особенно придирчиво переработал последние летописные статьи с 1093 г. по 1110 г., идеализировал Мономаха за его походы на половцев, за властную политику, за ум, за смелость и заботу об общенародных интересах. Сильвестр не скупится приводить программные речи Мономаха, в которых последний призывал к единству Руси, к твердому отпору наступающей степи: «Почто губим Русьскую Землю, сами на ся котору деюще, а Половци землю нашу несуть розно и ради суть, иже межю нами рати; да ноне отселе имемся в едино сердце и блюдем Рускые земли».102 C сочувствием передает Сильвестр возражения Мономаха дружине, не хотевшей итти в поход на степь, чтобы не губить по весенней распутице лошадей смердов: «дивно ми, дружино, — говорит им Мономах, — оже лошадий жалуете, ею же кто ореть [пашет]; а сего чему не промыслите, оже то начнеть орати [пахать] смерд, и приехав половчин ударить и [его] стрелою, а лошадь его поиметь, а в село его ехав иметь жену его и дети его, и все его именье. То лошади жаль, а самого не жаль ли».103 С тою же целью возвеличения общенародных устремлений Мономаха введен в «Повесть» драматичный рассказ попа Василия об ослеплении в междоусобной борьбе с родичами князя Василька Теребовльского. Множество бытовых подробностей и реалий делает этот рассказ одним из самых живых в летописи киевского периода. С потрясающей силой развертывает рассказ Василия картину феодальных раздоров. Подробно и не торопясь повествует поп Василий, как заманили Василька на именины, как постепенно оставили ею одного в комнате, как схватили и везли затем на телеге в Белгород, где бросили в «истобку [избу] малу». Оглядевшись Василько догадался, что хотят с ним сделать, стал кричать и плакать. Вошли конюхи, разостлали ковер и хотели повалить на него Василька. Василько отчаянно отбивался. Конюхи позвали подмогу. Василька схватили и связали, а затем сняли с печи доску, положили ему на грудь и сели по концам. Но Василько и тут сопротивлялся так отчаянно, что сняли с печи и вторую доску и придавили ею «яко персем троскотати [трещать]». Кончив точить, нож, овчарь Святополка подошел и ударил им в глаз Василька, но сначала промахнулся и перерезал ему лицо: «И есть рана та Василька и ныне».104 «По семь же вверте ему ножь в зеницю и изя зеницю, по сем в другое око въврьте ножь и изя другую зеницю».105 Ослепленного, едва живого Василька снова взвалили на телегу я повезли во Владимир Волынский. Трогателен путевой эпизод с окровавленной сорочкой Василька, которую ослепители, остановясь для обеда в Воздвиженске, дали постирать попадье. «Сего не бывало есть в Русьскей земьли ни при дедех наших, ни при отцих наших, сякого зла»,106 — сказал ужаснувшийся при известии об ослеплении Василька Владимир Мономах и послан за Давидом и Олегом Святославичами сказать: «поидета к Городцю, да поправим сего зла, еже ся створи се в Русьскей земьли и в нас, в братьи, оже ввержен в ны ножь: да аще сего не правим, то болшее зло встанеть в нас, и начнетъ брат брата закалати, и погыбнетъ земля Руская, и врази наши, половци, пришедше возмуть земьлю Русьскую».107 Сознание необходимости единения перед лицом внешней опасности, возмущение моральной низостью современных летописцу русских князей, их раздорами, составляют основную мысль летописи в описании феодального разброда конца XI в. Не было «сякого зла» в Русской земле, не такие были русские князья в прежние времена, не разоряли они населения поборами, обороняли Русскую землю, советовались во всем со своей дружиной, в ладьях на холстинных парусах ходили на самую Византию, гнушались золотом и паволоками, любя одно оружие. «Отци ваши и деди ваши трудом великим и храбрьством, побарающе по Русьской земли, ины земли приискываху, а вы хочете погубити землю Русьскую»,108 — в этом обращении к русским князьям в 1097 г. ключ к историческим воззрениям на события своего времени составителя «Повести временных лет». Есть и сейчас князья, подобные древнему Святославу — это Владимир Мономах; его держитесь, как бы хочет сказать выдубецкий летописец. Своим призывом на борьбу со степью, к прекращению междоусобий и к сплочению вокруг Владимира Мономаха выдубецкий летописец внес последний штрих в «Повесть временных лет», сделав ее цельным и законченным произведением, отразившим глубокое понимание национальных задач и точно отвечавшим политическим запросам своего времени. Впоследствии, когда составлялись новые летописи, «Повесть временных лет» всегда переписывалась в их начале. «Повесть» как бы служила политическим введением к разного рода городским, княжеским, митрополичьим летописям и идеи ее (идеи защиты родины) резко отражались в последующем летописании. В тяжкие годы татаро-монгольского ига бесчисленные списки «Повести временных лет», открывавшие собою местные, городские и княжеские летописи, напоминали русскому народу о временах его независимости, о былом могуществе его родины, о необходимости объединения для борьбы о грозным степным врагом. Призывы «Повести» к борьбе со степными кочевниками — половцами — воспринимались в те годы как призывы к борьбе с татарами и сыграли значительную роль в пропаганде идеи свержения татаро-монгольского ига на Руси. Такова была замечательная русская летопись, созданная по повелению Владимира Мономаха. >3 Богатое разнообразными литературными фактами время Владимира ярче всего характеризуется произведениями самого Мономаха— талантливого и начитанного писателя. Сохранившееся в единственном списке Лаврентьевской летописи 1377 г. «Поучение» Мономаха (в испорченном состоянии) распадается на два произведения: «грамотицу» Мономаха к своим детям («поучение» в собственном смысле этого слова)и послание Мономаха к князю Олегу Святославичу черниговскому, в котором он оплакивает своего сына Изяслава, убитого в 1096 г. под Муромом в сражении с войсками этого Олега, и просит отпустить захваченную им сноху — вдову Изяслава. Идеологическое содержание «Поучения» Мономаха не ограничивается призывом сыновей и всех, «кто прочтет» его «Поучение», к единению, к прекращению междоусобий, к соблюдению общенациональных интересов. Идея борьбы с братоубийственными междоусобиями заключена была еще в завещании Ярослава I: «имейте в себе любовь, понеже вы есте братья единого отца |и матере». Мономах дает в автобиографической части своего «Поучения» образ мужественного, деятельного, смелого, неутомимого правителя, горячего печаловника о Русской земле, который «ночь и день, на зною и на зиме, не дал себе упокоя». Мономах приглашает заботиться о смерде, о челяди, о «хрестьяных душах» и «убогих вдовицах», призывает к строгому соблюдению крестных целований, осуждает междоусобия и особенно пользование военной помощью чужеземцев, поляков и половцев, которых наводили князья на Русскую землю для решения своих династических споров. «Не вдавайте сильным погубити человека», — пишет Мономах в «Поучении» и, вместе с тем, приглашает не лениться в учении, не лениться в дому своем и на молитве, не лениться «на войне и на ловех». «На войну вышед, не ленитеся, не зрите на воеводы; ни питью, ни еденью не лагодите [не предавайтесь], ни спанью; и стороже сами наряживайте, и ночь, отвсюду нарядивше около вои, тоже лязите, а рано встанете; а оружья не снимайте с себе вборзе, не разглядавше ленощами, внезапу бо человек погыбает».109 Таков своеобразный воинский устав Мономаха. Политическая программа Мономаха находит себе объяснение в событиях его времени. Мономах в общенародных интересах энергично стремился к смягчению феодальной эксплоатации, достигшей в конце XI в. чрезвычайно жестких форм, к установлению на Руси твердой и единой великокняжеской власти и к активному наступлению на степь. Свой образ князя-патриота Мономах дополнил личным примером. Мономах описывает в «Поучении» свои «пути» и «ловы», т. е. военные и охотничьи подвиги, всюду, наряду с христианским идеалом воздержания от греха, молитвой, уважением к старшим и духовным лицам, проповедуя идею деятельной, жизни, неустанного труда на пользу родины, отваги и энергичной защиты интересов своего народа. «А из Чернигова до Киева нестишь [около 100 раз] ездих ко отцю, днем есмь переездил до вечерни; а всех путий [походов] 80 и 3 великих, а прока [прочих] не испомню меньших. И миров есм створил с половечьскыми князи без единого 20… А се тружахъся ловы дея… конь диких своима рукама связал есмь в пущах 10 и 20… Тура мя 2 метала на розех и с конем, олень мя один бол… вепрь ми на бедре мечь оттял… лютый зверь скочил ко мне на бедры и конь со мною поверже…».110 Реальным изображением княжеского поведения — походов, сражений, охот, заключений договоров, каждодневного, неустанного соблюдения народных интересов и т. д. — Мономах дополнил свои патриотические наставления, дал нарочитый образец для подражания. Мономах не стремился составить в своем поучении законченную автобиографию или законченный автопортрет, а передавал лишь цепь примеров из своей жизни, которые он считал поучительными и в которых постоянно акцентируется им общественно-идейная сторона. В этом уменье выбрать из своей жизни то, что представляло не личный, а гражданский, общенациональный интерес, заключается замечательное своеобразие автобиографии Мономаха, резко противоположной эгоцентрической автобиографий протопопа Аввакума или автобиографическим отрывкам в переписке Курбского с Грозным — двум другим автобиографическим произведениям в древней русской литературе. Образ Мономаха выступает в «Поучении» как бы помимо его воли, чем достигает особенной художественной убедительности. «Поучение» Мономаха давало жизненный идеал князя-патриота, администратора, хозяина, воина, отвечало на конкретные запросы русской жизни. Можно предполагать, что «Поучение» имело значительный резонанс в русской действительности. Не случайно Владимир Мономах был впоследствии идеализирован русской летописью. >4 Времени Мономаха принадлежит первое из дошедших описаний паломничеств — «Хождение» Даниила, также отразившее патриотические идеи эпохи. Средневековые паломничества в «святую землю» имели существенное познавательное значение, способствовали международному обмену культурными ценностями, приучали к терпимости и, вместе с тем, развивали в паломниках здоровое национальное чувство. Замечательною чертою Даниила является отсутствие в нем каких бы то ни было узко местных тенденций. Всюду, куда он ни попадает, он чувствует себя представителем всей Русской земли в целом. Он называет себя «русские земли игуменом», у гроба Господня ставит «кандило» «от всея русьскые земли», отличается терпимостью к чуждым верованиям (латинству и магометанству) и умеет всюду внушить к себе уважение, не вмешиваясь в распри сарацин и крестоносцев. Даниил свел — знакомство со «старейшиной срацинъским» и иерусалимским королем Балдуином I, Фландрским (1110–1118) и побывал там, куда не пускали других. Наши представления о литературе времени Мономаха далеко неполны, но и то, что мы знаем, свидетельствует о тех широких и разнообразных путях, на которые вступила в это время культура Киевского государства, черпавшая свои идейные силы в защите общенародных интересов, в идее единения перед лицом внешней опасности. В литературе этою периода нет той стройности и торжественности, которая была в литературных произведениях времени Ярослава, но она ближе к русской жизни, она разнообразнее, как разнообразнее были и запросы эпохи, она неспокойна и тревожна, как тревожны были события того времени. >IV КУЛЬТУРА И НАРОД НАКАНУНЕ ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ >Начавшийся с конца XI в. распад Киевского государства был связан с ростом его отдельных частей, с развитием производительных сил на местах, с образованием новых областных центров, городов, с подъемом активности городских масс населения. Этот процесс политического дробления Киевского государства и роста областных центров имел первостепенное значение в интенсивном культурном развитии Руси XII и начала XIII вв. Русская культура, которая в эпоху расцвета «империи Рюриковичей» была по преимуществу культурой Киева, с конца XI в. дробится и концентрируется вокруг многочисленных культурных областных гнезд: Новгорода, Чернигова, Полоцка, Смоленска, Владимира-Волынского, Галича, Ростова, Суздаля, Владимира Залесского и др. Все эти областные центры обнаруживают с конца XI в. решительное стремление к политической самостоятельности и культурному отъединению. «Каждая из обособившихся земель обращается в целую политическую систему, со своей собственной иерархией землевладельцев (князей и бояр), находящихся в сложных взаимных отношениях. Эти разрозненные ячейки, все больше замыкаясь в тесном пространстве своих узких интересов по сравнению с недавним большим размахом международной политической жизни Киевского государства, заметно мельчали. Однако внутренняя жизнь этих политически разрозненных миров текла интенсивно и подготовила базу для образования новых государств в восточной Европе и самого крупного из них — Московского».111 Это образование отдельных местных и областных культур с их своеобразными, индивидуальными чертами было связано с другой характерной чертой культурного развития XII–XIII вв. — интенсивным влиянием на утонченную культуру верхов русского общества многовековой местной народной культуры, восходящей своими корнями к древней культуре скифов и антов, издавна введенной в сферу влияния античности. Эти местные народные черты могут быть без труда вскрыты еще в первых произведениях каменного зодчества Руси,112 в ее книжности113 и в прикладном искусстве. С конца же XI в. и на протяжении XII и начала XIII вв. киевская культура испытывает особенно существенное изменение под воздействием местной народной культуры и сама широко распространяется в городских и сельских слоях населения. На почве этого взаимопроникновения создается новая высшая культура Руси XII в., тесно связанная с народом, местными традициями и государством. Канун татарско-монгольского нашествия был периодом чрезвычайно значительной, но подспудной, внутренней работы, чреватой величайшими последствиями. Мало заметная вначале, эта работа приводит к ощутимым результатам уже со второй половины XII в., когда, в противовес общей децентрализации русской жизни, начинают сказываться и обратные идейные стремления к объединению князей, княжеств, — гораздо раньше, чем аналогичные тенденции возникли на Западе. >1 Личное летописание Мономаха, выдубецкую переработку «Повести временных лет», продолжает его старший сын Мстислав, внук по матери последнего англо-саксонского короля Гаральда. Именно Мстиславу адресовал Мономах свое знаменитое «Поучение» к детям. Мстислав воспринял его, точно следуя отцовским заветам и в своей политической деятельности и в заботах о книжности и летописании. Подобно своему отцу, Мстислав заботился о продолжении летописания и сам был, повидимому, незаурядным писателем.114 Летописание Мстислава имело огромное значение для всего последующего развития летописного дела на Руси. Выполненный по его указанию и при его участии летописный свод (так называемая 3-я редакция «Повести временных лет») лег в начало летописания Новгорода, где одно время княжил Мстислав, затем в начало княжеского летописания Переяславля Южного, где также княжил Мстислав, и наконец — Киева, куда Мстислав перешел княжить после смерти отца. Из Переяславля Южного «Повесть временных лет» в 3-й редакции (редакции Мстислава) передалась на северо-восток — во Владимирско-Суздальскую землю. Три отростка когда-то единого ствола общерусского летописания — новгородский, переяславский и киевский — стали наиболее мощными ветвями, которые в первой четверти XII в. дало летописание мономаховичей. Вслед затем летописание дробится более и более, многочисленными побегами охватывая все наиболее значительные княжества Руси. Князья стремятся обзаводиться личными и семейными летописями. Их имели Ольговичи черниговские (Святослав и его сын Игорь Святославич, герой «Слова о полку Игореве»), Мономаховичи переяславские (особенно известен летописец Владимира Глебовича), Ростиславичи смоленские, князья владимирские и ростовские. Новые формы летописания и исторического повествования, которые с такою интенсивностью развиваются в XII в., выросли из непосредственных потребностей самой русской жизни, из тех явлений, которые имели место на русской почве еще до принятия ею христианской цивилизации Византии. Византийская историческая литература не знала семейных и родовых летописцев. Это — явление чисто русское; оно должно быть поставлено в связь с теми устными родовыми преданиями, существование которых мы предполагаем на основании некоторых фрагментов их в летописи. Летописание на Руси становится жизненной необходимостью, бытовым явлением. Князья заинтересованы в нем как в политическом документе своих прав и притязаний и решительно озабочены своевременным ведением летописных записей. Однако не одни князья и монастыри ведут свои летописи. Рядом с личным и родовым летописанием князей начинает развиваться летописание городское. Изгнание в 1136 г. новгородского князя Всеволода, внука Владимира Мономаха, восставшим ремесленным и сельским населением грозит прекращением княжеского летописания мономаховичей в Новгороде. Поэтому новое новгородское правительство с Нифонтом во главе берет летописание в свои руки. В 1136 г. по приказу Нифонта доместик новгородского Антониева монастыря Кирик составляет работу по хронологии, подсобного для ведения летописи характера, — «Учение, им же ведати числа всех лет» — и в том же 1136 г. принимает участие в широко задуманном пересмотре всего предшествующего княжеского летописания Новгорода. Летопись мономаховичей (с «Повестью временных лет») отбрасывается из начала новгородского летописания и заменяется резко антикняжеским Киево-Печерским сводом 1093 г. Составляется тот «Софийский временник», который затем продолжается в Новгороде до самого его присоединения к Москве. «Софийский временник» открывался предисловием, полным горьких упреков князьям в «ненасытстве», в алчности, в притеснении людей вирами и «продажами», налогами и поборами. Упреки эти были как нельзя более своевременны в Новгороде в середине XII в., когда одни за другими отбираются у новгородского князя его доходы, урезываются права, конфискуются земли. Можно думать, что такие же городские летописи велись и по другим областям: в Полоцке, в Ростове, в Галицко-Волынской области. Дробление летописания на этом не остановилось. Насколько распространенным было ведение летописей в XII в., показывает наличие в течение двух столетий (XII и XIII) интенсивного летописания при незначительной новгородской церкви Якова в Неревском конце, воздвигнутой на месте победы новгородцев над полоцким князем Всеславом, происшедшей в день Якова, «брата Господня». Первый летописец этой церкви — Герман Воята — ведет свою летопись в 40-х—80-х годах XII в. почти, как личный дневник. Часто он делает свои записи от первого лица; во многих из них он проявляет интересы городского обывателя, сообщающего городские слухи (Новгородская летопись по Синодальному списку, 1138), сведения о погоде (1145), об уличных происшествиях, о сене, о дровах, об урожае, о состоянии воды в Волхове (1145), о поломках и починках моста через Волхов (1142, 1143), о раннем громе (1138), о поздно стоящей дождливой погоде (1143), наконец, о собственном поставлении в попы (1144) и т. д. Летопись Германа Вояты наглядно свидетельствует, насколько развитым и распространенным было в XII в. ведение летописей, насколько сильным и всеобщим было в XII и XIII вв. стремление к историческому осмыслению событий. Летописание, которое в XI в. в основном держалось мощной поддержкой Киевской митрополии или Киево-печерского монастыря, отражало традиции византийской императорской историографии, отныне становится достоянием княжеских семей, городских церквей, превращается в повседневное бытовое явление. В XII в. широкой струей вливается в язык летописи и исторического повествования дипломатическая, деловая, военная терминология и бытовое просторечие. В новгородскую летопись проникают местные диалектизмы, разговорные обороты с пропуском сказуемого или подлежащего, в ней почти отсутствуют книжные, церковно-славянские обороты речи. Записи Германа Вояты в составленной им летописи ведутся запросто, с употреблением чисто просторечных выражений: «бысть гром велий, яко слышахом чисто в истьбе седяще» (Новгородская летопись по Синодальному списку, 1138), «стояста 2 недели пълне, яко искря жгуце, тепле вельми, переже жатвы; потом найде дъжгь, яко не видехом ясна дни ни до зимы; и много бы уйме жит и сена не уделаша; а вода бы больши третьего лета на ту осень; а на зиму не бысть снега велика, ни ясна дни, и до марта» (1145). Летописец сообщает, как посадника Якуна сбросили с Волховского моста, «обнаживъше, яко мати родила» (1141), в просторечной манере говорит о граде, выпавшем величиной «яблъков боле» (1157) и т. д. и т. п. Грандиозное по исполнению отдельных сводов в XI в., летописание в XII в. становится не менее грандиозным по широте своего распространения, по многочисленности отдельных сводов, по глубине проникновения в народную жизнь. Однако потребность в историческом осмыслении происходящего не ограничивается в XII в. только составлением многочисленных летописцев и летописных сводов. Те же потребности вызывают появление в XII в. обширной и разнообразной литературы повестей о междукняжеских отношениях. В повестях этих рассказывается о наиболее важных моментах княжеских распрей, нарушениях крестных целований, братоубийственных войнах, ослеплениях, политических убийствах и т. д. Авторы этих повестей ставили себе целью доказать правоту одних и виновность других. Знаменательно то, что при том же Владимире Мономахе, со времени которого начинает развиваться родовое и личное летописание князей, составляется и первая повесть этого типа, повесть попа Василия об ослеплении Василька Теребовльского. Затем следует многочисленный ряд повестей с аналогичным содержанием: повести об убиении Игоря Ольговича, послужившем поводом для распри Святослава Ольговича черниговского и Изяслава Мстиславича киевского, повесть киевлянина Кузмища об убиении Андрея Боголюбского, повесть боярина Петра Бориславича о клятвонарушениях и смерти Владимира галицкого и ряд других. Повести эти пространные, изящно написанные, насыщенные бытовыми подробностями, дышащие азартом междукняжеской борьбы своего времени, составлялись обычно непосредственными участниками событий, чаще всего послами (поп Василий, Петр Бориславич, киевлянин Кузмище); они наполнены драматическими подробностями, точно передают содержание переговоров, речи князей и послов, насыщены дипломатической терминологией своего времени. Повестей этих особенно много в летописях Киевской, Галицкой и Волынской, благодаря чему вместивший все эти летописи Ипатьевский список кажется особенно пространным и литературным. Жанр исторических повестей о междукняжеских отношениях также возник из потребностей русской жизни и получил самобытные черты своего внешнего выражения. Повести эти резко разрушают византийские средневековые литературные каноны, обнаруживая поразительную свежесть восприятия, свидетельствующую о своеобразных реалистических тенденциях в русской литературе XII в. Поразительна своими реалистическими тенденциями повесть Петра Бориславича — связный литературно-развитой рассказ, имеющий своей целью убедить читателей в правоте киевского князя Изяслава Мстиславича, описать с точки зрения сторонника Изяслава историю борьбы Киевского и Галицкого княжеств. Подробное описание смерти разбитого параличом Владимирка составляет эффектную развязку, доказывающую правоту Изяслава. В повести детально фиксированы речи при переговорах, насмешки «многоглаголивого» Владимирка, возражения Петра, точно отмечено время, в которое совершались те или иные события (к вечеру, до обеда, к ночи, до кур и т. д.), точно сказано, где происходили события (на сенях, на переходах, на степени, во дворе и т. д.), отмечены одежды действующих лиц (клобуки, мятли), описаны переживания самого Петра Бориславича (его обиды, тревоги, недоумения). Замечательно, что во всех этих повестях о междукняжеских отношениях продолжает жить представление о Русской земле, как о целом. Эта идея живет и в сознании враждующих князей, стремящихся оправдать свои притязания доводами защиты попранных прав и старых установлений и необходимостью восстановления утраченного единства Русской земли. Таким образом, исторические жанры — летопись и повести о междукняжеских отношениях — с необычайной интенсивностью распространяются по всей Русской земле. Они становятся явлениями русской жизни, развиваются параллельно распространению книжности вообще. Несомненно, что обильные культурные всходы XII в… были выражением постепенного углубления процесса феодализации, роста производительных сил страны, а вместе с тем роста народной культуры и потребностей в историческом осмыслении событий. >2 То же проникновение народных, местных начал отчетливо сказывается и в искусстве периода феодальной раздробленности Руси. Чрезвычайное развитие городов, ремесел, появление многочисленных артелей строителей, живописцев приводит к проникновению в высокое искусство Руси местных традиций, вкусов непосредственных исполнителей, вносивших в свои произведения черты народного искусства. Княжение Владимира Мономаха стоит на переломе двух эпох не только в области литературы, но также и в области зодчества. C одной стороны, княжение Владимира Мономаха завершает собою период монументальных и обширных сооружений, которыми был богат XI в., с другой — оно начинает собою длинный ряд сооружений XII — начала XIII вв., в которых с нарастающей силой проявляются местные народные вкусы. Как указывает проф. Н. Н. Воронин, при Владимире Мономахе народные формы архитектуры заявляют о себе в строительстве Владимира Мономаха в Вышгороде, где новые строительные приемы оформляют созданный на Руси культ первых русских святых Бориса и Глеба. При Владимире Мономахе же Новгород создает первых замечательных русских зодчих, построивших в начале XII в. такие грандиозные, поражающие своей монументальностью, лаконичностью форм и прочно найденными пропорциями сооружения, как Николо-Дворищенский собор (1113), собор Антониева монастыря (1116) и Георгиевская церковь в Юрьевом монастыре (1119), — из этих зодчих известен мастер Петр. Асимметричное трехглавое здание Георгиевской церкви Юрьева монастыря с ритмично вытянутыми в высоту мощными стенами является одним из лучших произведений русской архитектуры XII в., далеко отошедшей в Новгороде от византийских прототипов. Из Новгорода уже очень рано начинают выписывать мастеров, в частности для строительства в далеком Киеве стен Выдубицкого монастыря и др. (Коров Яковлевич, посадник Милонег). Особенно заметным это проникновение местных народных начал в искусство Новгорода становится с середины XII в., когда городские организации уличан, концов и сотни начинают играть значительную роль в новгородском государстве. Чрезвычайно существенным для всего новгородского культурного развития представляется то, что улицы и концы выступают с половины XII в. в качестве инициаторов различных культурных предприятий: в 1165 г. «шестициници», т. е. уличане Шестичинской улицы, ставят церковь «святые троицы»;115 в 1185 г. «лукиници», т. е, жители Лукиной улицы, ставят церковь Петра и Павла на Синичьей горе («Сильнищи»)116 и т. д. Организации уличан принимают активное участие в развитии книжности и в переписывании рукописей. Так, например, Пролог 1390 г. имеет следующую запись: «написаны быша книгы сия, глаголемые пролог, ко св. чудотворцома Козьмы и Дамьяну… повелением… всех бояр и всей улицы Кузмодемьяне». Создаются и новые формы осуществления общественных предприятий. Начиная с середины XII в. в Новгороде все более или менее крупные предприятия осуществляются «дружинами» — артелями. Эти «дружины» существуют, прежде всего, при дворе новгородского епископа и населяют его «слободы» в окрестностях города и поблизости Детинца (новгородского кремля). Члены этих «дружин» носят название «владычных паробков» или «владычных ребят». «Паробки» и «ребята» переписывают священные книги, составляют артели строителей и расписывают церкви. Характерно, что замечательный памятник русского искусства XII в. — церковь Нередицы — расписывало не меньше 10 мастеров одновременно. В связи с этим заметно иные, более «демократические» формы приобретает и живопись и в особенности новгородская архитектура XII в. Новгородское строительство второй половины XII в. вырабатывает новый тип четырехстолпного, квадратного в плане, укороченного храма, более упрощенного типа и меньших размеров, сравнительно с грандиозными княжескими соборами предшествующей поры. В отличие от церквей княжеской постройки с резким разделением молящихся на привилегированных, «избранных», и остальную массу молящихся, новые церкви не разделяют молящихся на категории. Князья строили церкви с обширными, сильно освещенными каменными хорами, на которых слушали богослужение княжеская семья и приближенные. Новые же, возводимые со второй половины XII в. церкви имеют скромные деревянные хоры служебного значения. Сокращение размеров вновь воздвигаемых храмов отнюдь нельзя рассматривать, как упадок зодчества: княжеские постройки предшествующей поры сравнительно редки, церквей же нового типа воздвигается огромное количество. Новгород, который в начале XII в. имеет всего 5–6 каменных храмов, правда грандиозных по размерам, из которых храм Софии остался непревзойденным но величине во всё последующее время, в середине XII в. обрастает многочисленными каменными церквами, организующими его своеобразный архитектурный облик. Еще более самобытными чертами отличаются постройки Пскова (собор Спасо-Мирожского монастыря и др.). Аналогичные процессы в области архитектуры происходят в XII в. в Киеве, Чернигове, Полоцке и др. В Смоленске в конце XII в. кн. Давид строит церковь Михаила Архангела, отличавшуюся резко своеобразными, народными приемами своей архитектуры. Огромное значение для живописи в XII в. имело вытеснение дорого стоившей мозаики широко развившейся фресковой живописью, со сравнительно свободной техникой, более дешевой, резче мозаики способной отразить индивидуальную манеру исполнителей. Стиль тех фресок новгородской Нередицы (1199), которые были выполнены русскими мастерами, свидетельствует о народных вкусах их исполнителей. Таковы в особенности бытовые подробности в композиции Крещения (фигуры сбрасывающего рубашку и плывущего в Иордане) и изображение Страшного Суда на западной стороне церкви. Народные начала сказываются и в стиле рисунков на страницах рукописей XII в. Черты быта проникают в псковские и новгородские рукописи XII в. (изображения гусляров, пешехода с корзиной, отдыхающего земледельца и проч.). Проникновение местных народных начал в искусство XII в. не означало, однако, создания какого-то единого нового народного стиля. Каждая из областей, каждый город имеет свои характерные и неповторимые черты культурного развития, свои местные, областные черты искусства, местные литературные манеры. Такими резко своеобразными чертами обладают искусство и литература Галицко-Вольшского, Владимиро-Суздальского, Киевского, Новгородского, Полоцко-Смоленского и других княжеств. Культура второй половины XII и начала XIII вв. дробится между множеством областей и обилием в них противоречивых тенденций. Киев, Владимир, Новгород, Смоленск, Туров, Галич, Владимир-Волынский — каждый из этих городов, составляет самостоятельный культурный центр. Рафинированная городская культура предшествующей поры подвергается в них всюду различному воздействию народной стихии. Широкое проникновение народных, демократических начал в книжность, в архитектуру, в живопись XII — начала XIII вв., так же как и рост вечевых собраний с конца XI в., говорит о том, что широкие массы населения все более осознают свое значение в общей жизни страны. Отсутствие в середине XII в. единого общерусского летописания и таких значительных исторических произведений, как «Повесть временных лет», отнюдь не свидетельствует еще об упадке в XII в. исторического и народного самосознания. >3 Местные, областные тенденции развиваются в XII в. параллельно росту объединительных стремлений русского парода. И центробежные и центростремительные силы, одновременно действуя, одновременно же способствуют развитию культуры русского народа. В XI в. киевские летописные своды стремились к ясному изображению единого развития Русского государства. «Откуда есть пошла Русская земля», такую задачу ставил себе не только составитель «Повести временных лет», но и предшествующие ему киевские летописцы. Эта идея единства Русского государства оплодотворяла собою литературу, архитектуру, живопись. Эта идея единства Руси, с такою настойчивостью проведенная во всех киевских сводах XI — начала XII вв., была искусно подкреплена летописцами оригинальной теорией единства княжеского рода. Именно в этих целях составитель летописи внес в нее легенду о призвании родоначальников «рюриковичей», трех братьев-варягов, подчинив этой легенде всё изложение истории Руси.117 Именно в этих целях летописец стремился доказать, что междукняжеские войны — братоубийственны, что все русские князья «одного деда внуки». Это летописное доказательство единства Руси, как единства княжеского рода, претерпело жестокое поражение в междукняжеских распрях XII в. Вот почему идея единства Русской земли в этой своей форме почти исчезает из летописей середины XII в. Однако распри князей не уничтожили в народе Стремления к единению. Распалась лишь излюбленная летописная идея о единстве княжеского рода, как о предпосылке и основе единства русской государственности. Именно этой идее был нанесен жестокий удар междоусобной борьбой князей. Уже к 70-м — 80-м годам XII в. относятся попытки нового подъема в литературе идеи единства Руси, на этот раз на иной, более глубокой основе. Предпосылкой этого нового подъема явилась половецкая опасность, тяжелой тучей нависшая над Русью во второй половине XII в. С 70-х годов XII в. начинается «рать без перерыва». Натиск половцев разбивается об ответные наступательные походы русских князей. Однако после ряда поражений половцы объединяются под властью хана Кончака. Половецкие войска получают великолепную организацию и хорошее вооружение. В их армии появляются и катапульты, и баллисты, и «греческий» («живой») огонь, огромные передвигавшиеся «на возу высоком» луки-«самострелы», тетиву которых натягивало более 50 человек. Под влиянием усилившихся в 70-х и 80-х годах XII в. набегов половцев идея необходимости объединения вспыхнула с новой силой. Идеи единения находили себе дорогу к реальной политической жизни, несмотря на утрату единства экономических интересов, поддерживавших в XI в. объединительную политику Киева, несмотря на то, что углубление процесса феодализации привело к общей децентрализации когда-то единого Киевского государства. В 80-х годах XII в. встает мираж объединения перед окончательным распадением Руси на ряд отдельных земель-княжеств, связь которых в единое целое фактически уже не могла осуществиться. На юге Руси состоялось соглашение Ростиславичей и Ольговичей. Святослав Ольгович, отец героя «Слова о полку Игореве», «получает „старейшинство и Киев“ и 13 лет сидит на Киевском столе в почетной роли слабосильного патриарха».118 Совершается и ряд других попыток примирения отдельных враждующих групп. В 1134 г. объединенными усилиями русских князей половцы были разбиты. Захвачены были «военные машины», отбиты пленные, попал в плен сам хан Кобяк и «басурменин», стрелявший «живым» огнем. Эти объединительные тенденции перед лицом нависшей половецкой опасности не замедлили отразиться в летописи. Именно в 80-х годах XII в. летописание Владимира Залесского привлекает в свой состав известия летописей Переяславля Южного, стремясь расширить рамки своего летописания и превратить его в летописание общерусское.119 Именно в 70-х—80-х годах новгородское летописание делает попытки выйти из узких пределов только новгородского летописания и использует какую-то киевскую летопись, стремясь охватить и события Южной Руси.120 Аналогичным образом внимательный анализ Ипатьевского списка выясняет чрезвычайно значительную попытку создания в 90-х годах XII в. общерусского летописного свода в Чернигове при дворе черниговского князя Игоря Святославича — героя «Слова о полку Игореве».121 В основу этого летописания кладется родовой летописец Святослава Ольговича черниговского и его сына Игоря Святославича. Этот летописец дополняется летописцем черниговского епископа. Поход Игоря Святославича на половцев (1185), в котором участвовали войска Владимира Глебовича переяславского, исконного врага черниговских князей, создает почву для привлечения к летописанию Ольговичей богатого летописания Переяславля Южного, широко охватившего события южнорусской жизни. Известия этого летописания Переяславля Южного и сейчас читаются в составе Ипатьевского списка в сильной черниговской переработке. К черниговскому летописанию привлекается и киевское, также подвергшееся в Чернигове основательной переработке в духе примирения двух враждующих групп — Ольговичей и Мономаховичей. Идейное обоснование необходимости этого примирения составляет замечательную особенность черниговского летописания 80-х—90-х годов. Именно ради этого в Черниговский свод была включена переяславская версия повести об убийстве в Киеве Игоря Ольговича, чья кровь, павшая на киевского князя, мешала примирению двух основных враждующих княжеских группировок: Мономаховичей и черниговских Ольговичей. Эта переяславская повесть об убиении Игоря Ольговича, составленная при дворе переяславского епископа Евфимия, заинтересованного в примирении Изяслава Мстиславича и Святослава Ольговича, стремилась изобразить убийство Игоря Ольговича как несчастный случай, как дело рук киевской толпы, совершившей его в разрез с желаниями Изяслава. Как рассказывает повествователь, брат Изяслава — Владимир — собственным телом прикрыл Игоря Ольговича, принимая на себя удары убийц. Сам Изяслав безутешно плачет по Игоре; дружина утешает его и свидетельствует его очевидную непричастность к преступлению. Таким образом, создание в Чернигове общерусского свода идет под знаком примирения междоусобных войн. Узкое летописание черниговских князей прерывает свой тип родового летописца и пытается вернуться на широкую дорогу общерусского летописания. Но не только в летописании делаются серьезные попытки отражения общерусских интересов: меняется и самый тип исторических повестей. Эти исторические повести, как это мы видели выше, имели с конца XI в. своими сюжетами, главным образом, междукняжеские отношения, раздоры князей между собой. В 80-х годах делается первый значительный опыт создания самостоятельной исторической повести о борьбе русских князей с внешним врагом. Знаменательно, что эта попытка делается одновременно в двух враждебных лагерях и имеет своей общей темой поход (1185) Игоря Святославича новгород-северского. Составившаяся первоначально на юге — в Переяславле Южном, историческая повесть о походе Игоря Святославича сделалась известной во Владимире и в Чернигове. В Чернигове составляется самостоятельная повесть о событиях похода, несчастных для русских; она замечательна опять-таки тою же примирительной тенденцией, которой придерживается и черниговская летопись. Автор этой повести вкладывает в уста Игоря Святославича покаянный счет своих княжеских преступлений, знаменующий собою необычайно смелый в тех условиях отказ от предшествующей политики черниговских князей. В этом покаянном счете главное место занимает раскаяние Игоря Святославича в разорении переяславского города Глебля, до крайности ожесточившем вражду переяславских и черниговских князей: «помянух аз грехы своя перед господом богом моим, яко много убийство, кровопролитие створих в земле крестьяньстей, яко же бо аз не пощадех хрестъян, но взях на щит город Глебов у Переяславля; тогда бо не мало зло подьяша безвиньнии хрестьани, отлучаеми отець от рожений своих, брат от брата, друг от друга своего, и жены от подружий своих, и дщери от материй своих, и подруга от подругы своея, и все смятено пленом и скорбью тогда бывшею, живии мертвым завидять, а мертвии радовахуся, аки мученици святеи огнем от жизни сея искушение приемши… и та вся сотворив аз, рече Игорь…».122 Здесь же в Чернигове в 1174–1175 гг. создается, посвященное памяти князей, братьев Бориса и Глеба, «Слово о князьях», резко обличавшее братоубийственные междоусобия своего времени. Таким образом, в последней четверти XII в. с разных сторон, а по преимуществу в черниговском летописании и в черниговской школе книжников делаются попытки примирения княжеских распрей, попытки создания общерусского летописания и нового типа исторической повести о борьбе с внешним врагом. Естественно, однако, что старые жанры не могли в полной мере отвечать новым задачам, которые ставились историческому повествованию в 80-х годах XII в. В этих условиях становится понятным создание в 80-х годах XII в. такого значительного произведения древнерусской литературы, как «Слово о полку Игореве». Нам понятно теперь, почему именно в конце XII в. с такой силой проявились в русской литературе великая идея родины, чувство родины, народный патриотизм. По-своему грандиозная летописная идея единства Руси, как единства княжеского рода, отмерла, но идея единства Руси, основанная на глубоком чувстве любви к родине, продолжала жить. Идея эта потребовала для своего выражения создания нового жанра поэтической повести, в которой с поразительной силой сказались народные основы патриотизма, опирающегося на живое чувство любви к родине, как к живому существу. Литература XI — начала XII вв. в произведениях Илариона, Нестора, Мономаха, в летописи и в житиях создала торжественный и героический образ Русской земли — обширной, могущественной и славной в иных странах. Но во второй половине XI в. это чувство гордости за свою родину окрашивается тонами лирической скорби о ее страданиях. Лирический образ родины, ощущение ее как живого и страдающего существа особенно остро проявилось в гениальном произведении XII в. — «Слове о полку Игореве», этом наивысшем выражении ведущих тенденций культурного развития Руси второй половины XII в. «Слово о полку Игореве» — песнь о всей Русской земле в целом. Лирический образ ее воссоздан в «Слове» с изумительной силой чувства. Небольшое по объему (2875 слов, не многим более ¼ печатного листа) «Слово» чрезвычайно обширно по своей теме. В зачине к «Слову» автор говорит, что он собирается вести свое повествование «от старого Владимира (Мономаха) до нынешнего Игоря». Излагая историю несчастного похода на половцев князя Игоря, автор охватывает события русской жизни за полтора столетия и ведет свое повествование, «свивая славы оба полы сего времени», — постоянно обращаясь от современности к истории, сопоставляя прошлые времена с — настоящим. Автор вспоминает века Трояновы, годы Ярославовы, походы Олеговы, времена старого Владимира (Мономаха). В своеобразной перекличке, которую устраивает автор русским князьям участвуют и его современники и их предшественники. Широкому хронологическому охвату повести соответствует и широта ее территориального охвата. Едва ли в мировой литературе есть произведение, в котором были бы одновременно втянуты в действие такие огромные географические пространства. Половецкая степь («страна незнаема»), Дон, Черное и Азовское моря, Волга, Рось и Оула, Днепр, Донец, Дунай, Западная Двина, Стугна, Немига, а из городов — Корсунь, Тмутаракань, Киев, Полоцк, Чернигов, Курск, Переяславль, Белгород, Новгород, Галич, Путивль, Римов и др., — вся Русская земля находится в поле зрения автора, введена в круг его повествования. При этом автор «Слова» не выключает Русскую землю из среды окружающих ее народов, заставляя прислушиваться к происходящим в ней событиям немцев и венецианцев, греков и моравов, а литву, финнов, половцев, ятвягов и деремелу (литовское племя) втягивает непосредственно в ход русской истории. Подобно Ярославу галицкому, прозванному за свой политический ум Осмомыслом, престол которого господствует над Венгрией и Киевом, откуда он обозревает происходящее, автор «Слова» видит Русь как бы с идеальной высоты. Огромность Русской земли подчеркивается одновременностью действия в разных ее частях: «девицы поют на Дунае, вьются голоса через море до Киева»; «трубы трубят в Новегороде, стоят стяги в Путивле»; «кони ржут за Сулою, звенит слава в Киеве» и т. д. Таким же, как у него самого, обостренным слухом и зрением, способным прозревать пространство, наделяет автор и своих героев: когда Всеславу в Полоцке позвонят к заутрене рано у святой Софии в колокола, он в Киеве уже звон слышал, а когда князь Олег Уступал в золотое стремя в городе Тмутаракане, тот звон слышал давнишний великий Ярославов сын Всеволод, а Владимир (Мономах) всякое утро уши себе закладывал в Чернигове. Широкое пространство действия объединяется гиперболической быстротой передвижения в ней действующих лиц. В обширных пространствах Руси сами герои «Слова» приобретают гиперболические размеры: Владимира Мономаха нельзя было пригвоздить к горам киевским; галицкий Ярослав подпер горы угорские своими железными полками, загородив королю путь, затворив Дунаю ворота. Такою же грандиозностью и острым ощущением родины, как единого большого и живого существа, отличается и пейзаж? «Слова», всегда тем не менее конкретный и взятый как бы в движении: перед битвой с половцами кровавые зори свет поведают, черные туча с моря идут… быть грому великому, итти дождю стрелами с Дону великого… Ветер, солнце, грозовые тучи, в которых трепещут синие молнии, утренний туман, дождевые облака, щекот соловьиный по ночам и галочий крикутром, вечерние зори и утренние восходы, море, овраги, реки составляют титанический фон, на котором развертывается действие «Слова». В радостях и печалях русского народа принимает участие вся русская природа. Понятие родины — Русской земли — объединяет для автора ее историю, «страны» (т. е. сельские местности), города, реки и всю природу. Солнце тьмою заслоняет путь князю — предупреждает его об опасности; Див вопит на вершине дерева, велит послушать земле незнаемой — половецкой степи, морю (Сурожу), Волге, Приморью, Посулью, Корсуни и Тмутараканскому болвану на Керченском полуострове; Донец стелет бегущему из плена Игорю постель на зеленом берегу, одевает его теплым туманом, сторожит чайками и дикими утками. Чем шире охватывает автор Русскую землю, тем конкретнее и жизненнее становится ее образ, в котором оживают реки, вступающие в беседу с Игорем, наделяются человеческим разумом звери и птицы, принимают участие в судьбе Русской земли даже стены городов, унывающие при поражении русского войска. По точному определению академика А. С. Орлова, героем «Слова» является не какой-нибудь из князей, а вся «Русская земля, добытая и устроенная трудом великим всего русского» народа».123 Таким образом, «Слово о полку Игореве» — это поэма о всей Русской земле, образ которой, ее природа и история очерчены автором широкою и свободною рукою. Новое ощущение родины как грандиозного живого существа, как совокупности всей русской истории, культуры и природы, с такой силой сказавшееся в «Слове», несомненно обязано той народной стихии, которая определила во многом и самую художественную форму «Слова о полку Игореве» — народную и фольклорную. Замечательно, что именно в этом живом чувстве родины находит себе опору «призыв русских князей к единению»,124 составляющий основную задачу и основной смысл поэмы. Этот широкий образ Русской земли пронизывает русскую литературу на всем протяжении ее развития. Теми же широкими приемами, что и в «Слове о полку Игореве», описана в «Слове о погибели Русскые земли» XIII в. «светло-светлая и украсно украшена земля Руськая», изобилующая озерами многочисленными, реками и колодцами местнопочитаемыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами чистыми, полями дивными, зверями различными, птицами бесчисленными, городами великими, селами дивными, садами монастырскими, домами церковными, грозными князьями, честными боярами и вельможами многими. Тот же широкий образ «светлой» Руси повторяется в житии Александра Невского, в поздних летописях и историческом повествовании, вплоть до XVII в., приобретя традиционные черты. В последние годы в работах: некоторых реакционных западноевропейских ученых неоднократно повторялось утверждение, что «Слово о полку Игореве» ничем не связано с общей культурой и идейной жизнью Руси XII в., что возникновение его в 80-х годах XII в. случайно и ничем необусловлено. Утверждение это основано на невежественных представлениях о русской идейной жизни XII в. На самом деле «Слово о полку Игореве» создано на богатой почве культуры Руси второй половины XII в. Оно тесно связано с ней и идейно и общим для всей культуры второй половины XII в. обращением к живительным народным началам. >4 Одной из своих тенденций «Слово о полку Игореве» имеет ближайшее отношение к Владимиро-Суздальской Руси. Идея необходимости единения перед лицом внешней опасности соединена в «Слове» с идеей сильной княжеской власти. Не бессилие русских князей отмечает «Слово», а их силу и могущество. Великий Всеволод суздальский так силен, что мог бы «Волгу веслы раскропити, а Дон шеломом выльяти». Будь он на юге, «была бы чага по ногате, а кощей по резани».125 Галицкий Ярослав Осмомысл «высоко» сидит «на своем златокованнем столе, подпер горы угорьскыи своими железными полкы», заступил пути королю венгерскому, затворил ворота к Дунаю, суды рядя до Дуная. Несчастие русского народа не в том, что Русская земля бессильна и князья в ней слабы. Беда Руси в том, что никто из русских сильных князей не слышит призыва загородить полю ворота своими острыми стрелами. Идея единства Руси неотторжима в «Слове о полку Игореве» от идеи сильной княжеской власти. Именно эта идея необходимости сильной княжеской власти дает реальную весомость идее необходимости единения. Эта идея сильной власти князя была особенно прочна на северо-востоке Руси во Владимиро-Суздальской области. Она нашла себе отчетливое выражение во всех сторонах культуры этой области. Спокойная и сильная архитектура владимиро-суздальских храмов, с их стенами, богато украшенными снаружи импозантными геральдическими изображениями львов, барсов, грифов, кентавров, всадников, святых и т. д., выражает идею силы и могущества их строителей. Та же идея отражена в летописи и литературных произведениях владимиро-суздальской Руси. Особенно характерно в этом отношении «Моление Даниила Заточника». Восхваляя князя Ярослава, Даниил заявляет себя сторонником сильной княжеской власти. Многочисленными афоризмами Даниил стремится обосновать необходимость неограниченной власти своего князя, подчеркивая ее «естественный», изначальный характер: «женам глава муж, а мужем князь, а князем Бог»; «орел-птица — царь над всеми птицами, а осетр — над рыбами, а лев — над зверями, а ты, княже, — над переяславцы. Лев рыкнет, кто не устрашится; а ты, княже, речеши, кто не убоится»; «гусли строятся персты, а град наш твоею [князя] державою» и т. д. В заключительной части своего «Моления» Даниил обращается к Богу с просьбой: «силу князю нашему укрепи», и повторяет слова митрополита Илариона, как бы непосредственно вводя нас в обстановку надвигающегося нашествия монголов: «Не дай же, господи, в полон земли нашей языком [народом], не знающим Бога, да не рекут иноплеменницы: где есть Бог их…». >5 Развитие русской культуры в XI — начале XIII вв. представляет собою непрерывный поступательный процесс, процесс, который, накануне татаро-монгольского нашествия достиг своего наивысшего уровня: в живописи — новгородские фрески, в архитектуре — владимиро-суздальское зодчество, в литературе — летописи и «Слово о полку Игореве». Проникновение в культуру высших классов общества народных начал делает вторую половину XII в. и начало XIII в. особенно значительными в истории русской культуры. Вопреки реакционным утверждениям некоторых немецких историков искусства о том, что русская культура до татаро-монгольского завоевания находилась на очень низком уровне развития, что росток византийской культуры, пересаженный на русскую почву, не развивался, а хирел, — вопреки этим утверждениям следует признать, что вся история русской культуры до татаро-монгольского завоевания свидетельствует о необычайной творческой силе русского народа, о ее все нарастающем поступательном движении. Только исключительно тяжелым гнетом татаро-монгольского ига может быть объяснена та задержка в культурном развитии Руси, которая наступила с середины XIII в. — с того самого времени, когда как-раз особенно интенсивным становится культурное развитие Европы, защищенной русской кровью от опустошительного урагана с Востока. Татаро-монгольское нашествие не «завершило собою естественного процесса постепенного упадка», наоборот, оно внешней силой, искусственно, катастрофически затормозило интенсивное развитие древнерусской культуры. Именно поэтому татаро-монгольское нашествие было воспринято на Руси, как космическая катастрофа, как вторжение потусторонних сил, как нечто невиданное и непонятное. «Явишася языци [народы], ихже никто же добре ясно не весть, — кто суть и отколе изидоша, и что язык их, и которого племени суть, и что вера их; и зовут я татары, а инии глаголют таурмени, а друзии печенези, ини глаголють ясно се суть, о них же Мефодий Патарский епископ свидетельствует… яко к скончанию времен явитися тем, яже загна Гедеон, и попленять всю землю от Востока до Ефранта и от Тигра до Понетьского [Черного] моря, кроме Ефиопья», — так выразил свои впечатления от первого появления татар на границах Руси автор летописной повести о Калкской битве. То же впечатление от татаро-монгольского завоевания, как от мировой катастрофы, скорбь и горе от гибели величайших культурных ценностей русского народа отразились в многочисленных литературных и летописных откликах на нашествие Батыя. «Величьство наше смирися, красота наша погыбе, богатство наше онем [т. е. врагам] в корысть бысть, труд наш погании наследоваша, земля наша иноплеменным в достояние бысть», — писал знаменитый русский проповедник середины XIII в. Серапион Владимирский. Недаром Серапиону Владимирскому приходили на память образы землетрясения; он говорит о том, что земля не терпит грехи людей. Бог, как дерево, трясет землю, и опадают листья. Катастрофические события второй четверти XIII в. действительно могут быть уподоблены землетрясению: многие города были разрушены до основания, лучшие произведения русского зодчества лежали в развалинах, земля была покрыта пеплом сожженных деревень. Однако дух русского народа не был уничтожен. Своеобразные «геологические» сбросы повели к обнажению в русской жизни многих задатков будущего, таившихся в глубине и вскрытых катастрофой под внешними наслоениями. В ослепительной чистоте заблестели идеи единства Руси, беззаветная любовь к родине, чувство родины, как реального, живого существа. «Слово о погибели Русскыя земли», светская повесть о мужестве Александра Невского, повести о рязанском разорении с остатками былины о Евпатии Коловрате, летописные повести о взятии Владимира, Киева и др. полны образами и идеями, предвещающими будущую идейную направленность литературы великой собирательницы Русской земли — Москвы. Самый тип великого русского князя этой поры — Александра Ярославича Невского, его военная и дипломатическая деятельность представляют собой как бы прототип будущих московских великих князей, властных и могущественных, сочетающих в себе таланты дипломатов и военачальников с глубоким знанием интересов русского народа в целом. Однако то, чего не смогла сделать татарская сабля в первый натиск на Русь Батыя, сделали долгие годы «томления» и «муки» татаро-монгольского ига; книжность угасала, зодчество почти оборвалось. Тем не менее в эти годы под навалившейся тяжестью иноземного ига продолжала теплиться жизнь. Русский народ сохранял интерес к своему прошлому, летописание продолжалось по городам. Русская культура, достигшая своего весеннего цветения накануне татаро-монгольского ига, придавленная копытами татарской конницы, сохраняла силы для будущего развития. Народные начала, вошедшие в нее накануне татаро-монгольского ига, заложили прочные основы для последующего образования национальных культур трех великих братских народов: русского, украинского и белорусского. >V ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ И ПОБЕДА НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ >Образованию Русского национального государства при Иване III предшествовала широчайшая идеологическая подготовка, своеобразное культурное возрождение русского народа; оно началось еще с 80-х годов XIV в., вслед за Куликовской битвой. Именно вслед за победой на Куликовом поле, явившейся перовым этапом свержения татаро-монгольского ига, возник тот подъем народного самосознания, который еще в конце XIV в., а особенно резко в первой половине XV в. привел к серьезному подъему творческих сил русского народа. >1 Ко второй половине XIV в. относится расцвет новгородской фресковой живописи. Наблюдение природы, которое внесли в свое искусство мозаичисты и — фрескисты Византии, а вслед за ними Чимабуэ, Джотто и Дуччио в Италии, естественный ландшафт, натуральные человеческие фигуры в сильном движении, элементы перспективы и светотени, появление сложных повествовательных сюжетов и попытки изобразить человеческие переживания— все это характерно для новгородских фресок второй половины XIV в. — для фресок церкви Спаса Преображения, Федора Стратилата, Болотова, Рождества на Кладбище, Михайло-Сковородского монастыря, Ковалева, То немногое, что мы знаем об искусстве Москвы второй половины XIV в., позволяет говорить об аналогичном подъеме в живописи и в этом городе. В Москве по-настоящему созрела национальная школа живописи, высшим представителем которой на рубеже XIV–XV вв. выступает гениальный русский художник Андрей Рублев. В 1405 г. А. Рублев известен уже как вполне зрелый сорокалетний мастер, расписывающий вместе со знаменитым Феофаном Греком и старцем Прохором из Городца кремлевский Благовещенский собор.126 Работы Рублева не стояли одиноко на рубеже XIV и XV вв. Многочисленные реставрации икон той поры, произведенные после Великой Октябрьской социалистической революции, и многочисленные новые находки икон конца XIV — начала XV вв. говорят о необычайно высоком уровне русской живописи того времени. Можно с несомненностью утверждать, что эпоха объединения русского народа вокруг Москвы была одновременно и эпохой высшего расцвета древнерусской живописи. Слава русских художников той поры была настолько велика, что их приглашали работать далеко за пределы родины. Особенно много остатков фресок древнерусских мастеров сохранилось в Польше, где в эпоху королей Ягелла и Казимира русские иконописцы работали в Кракове, в Святокрестецком монастыре на Лысой горе, в Люблине и Гнезне.127 Новгородские фрески частично сохранились в г. Висби на острове Готланде. Новгородских мастеров приглашали расписывать церкви Ганзейской колонии в Новгороде. Русские мастера ездили работать в Золотую Орду. С конца XIV в. значительное движение вперед наблюдается в русской письменности. Первые признаки зарождающегося индивидуализма отличают русскую книжность так же, как живопись конца XIV — начала XV вв. В противоположность безыменности большинства литературных произведений предшествующих веков, в конце XIV — начале XV вв. впервые появляется иное отношение к авторству. Авторы житий много говорят о себе, пишут обширные предисловия, в которых рассказывают о причинах, побудивших их приняться за перо, раскрывают свои намерения, пишут о своих личных отношениях к святым, что показалось бы в предшествующие века верхом греховного самовосхваления. Изложение проникается лиризмом и субъективизмом. Индивидуалистически настроенные писатели начала XV в. (Епифаний Премудрый, Пахомий Серб) относятся с видимым интересом к внутреннему миру своих героев. Впервые, хотя еще примитивно и схематично, толкуют писатели начала XV в. о психологических переживаниях действующих лиц своих произведений, о внутреннем религиозном развитии святых. Самые картины природы, интерес к которой постепенно растет, служат образцами для изображения душевного состояния святых. Характерная для эпохи зарождающегося гуманизма любовь к слову отразилась в русских житиях этого периода обилием длинных речей, многочисленностью риторических прикрас, так называемым «плетением словес», ритмической организацией речи, введением ассонансов, внутренних рифм, свидетельствующих о высоком литературном мастерстве русских авторов. Это высокое литературное мастерство в значительной мере поддерживалось живым культурным общением Руси с Византией и южнославянскими странами, особенно интенсивным с конца XIV в. Целый поток югославянских рукописей нахлынул на Русь во второй половине XIV в. Вместе с тем русские рукописи проникают в югославянокие страны, вызывая здесь подражания. Сербский монах Доментиан подражает «Слову» митрополита русского Илариона. Общение книжное увеличивалось непосредственным общением людским. На Русь приезжают болгарские и сербские книжники (Григорий Цамблак, Киприан, Пахомий Серб), а сами русские образуют целые колонии на Афоне и в Константинополе, занятые переписыванием книг, вмешиваются во внутреннюю жизнь и оказывают влияние на культуру югославянских стран. Русский боярин Иван на службе у болгар в правление царя Михаила с 3 тысячами конницы чуть было не овладел Константинополем.128 Насколько основательным было влияние русских книжников, живших на Афоне и в Константинополе, можно заключить хотя бы из того что Константин Костенчский в своем сочинении о правописании называет русский язык «красивейшими тончайшим», ставит его в образец другим славянским языкам и сообразует с ним свои правила орфографии. Русский язык оказывает существенное влияние на болгарский язык XIV в.129 Но самым важным явлением русской культуры конца XIV — начала XV вв. был возродившийся интерес к истории Русской земли. Вся русская культура конца XIV — начала XV вв. пронизана духом историзма, духом любви к славному прошлому своей родины. Как мы увидим ниже, темами русской истории увлечены не только русские книжники: к прошлому Руси обращаются и русская живопись и русская архитектура. Центральное место в этом возродившемся интересе к родной истории, ко временам русской независимости, к домонгольскому периоду русской истории принадлежит Москве. В конце XIV — начале XV вв. работа московских летописцев стала важнейшим государственным делом. Ведя политику собирания Русской земли в единое целое, Москва нуждалась в идеологическом обосновании своих действий, в реальном возрождении исконной летописной идеи о единстве Русской земли. Московские митрополиты и великие князья свозили в Москву различные областные летописи и широко пользовались ими в своем летописании. Московская летопись из узкой, областной становилась благодаря этому общерусской, приобретала общенародный характер и невиданный ранее размах. Эта работа московских летописцев, соединивших в самом конце XIV — начале XV вв. разрозненное летописание отдельных областей, значительно опережала реальный политический рост Москвы. Характер московского летописания, по выражению крупнейшего исследователя русских летописей академика А. А. Шахматова, «свидетельствует об общерусских интересах, о единстве земли русской в такую эпоху, когда эти понятия едва только возникали в политических мечтах московских правителей».130 В самом конце XIV в. в Москве был составлен первый большой летописный свод, названный «Летописцем великим русским». По одним предположениям (А. А. Шахматов), «Летописец» этот возник в 1396 г., по другим (М. Д. Приселков) — в 1389 г.131 Попытки выйти за пределы узко московских интересов еще очень слабо ощущаются в этом своде. Однако чрезвычайно серьезным новшеством, наложившим резкий отпечаток на всё последующее московское летописание, было то, что в начало этого свода была включена «Повесть временных лет». «Повесть временных лет» была тем произведением древнерусской исторической мысли времени Владимира Мономаха, которое живо хранило идейные традиции литературы домонгольской Руси, сознание единства княжеского рода и Русской земли. Отсюда московские летописцы могли заимствовать идею служения князя народу, свободную критику действий князей, идею обороны Русской земли от кочевников соединенными усилиями русских княжеств. Именно с момента включения «Повести временных лет» в качестве составной, вступительной части в московские летописи мы видим в них не безразличное к политическому смыслу происходящего наименование татар половцами, татарской степи — половецкой, и, наоборот, половцев и печенегов — татарами; очевидно, что «Повесть временных лет» не только переписывалась в это время, но и усиленно читалась, и события, изображенные в ней, применялись в определенном смысле к событиям современности. Призывы «Повести временных лет» к борьбе с половцами воспринимались как призывы к борьбе с татарами. И летописец не без умысла менял эти названия, сопоставляя тех и других как общих врагов русской независимости. Первый общерусский свод, по-настоящему поднявшийся над узкими местными интересами — тверскими, московскими, суздальско-нижегородскими, ростовскими, рязанскими, новгородскими — и осветивший русскую историю с точки зрения единства Русской земли, был составлен в Москве в 1408 г.132 Инициатива составления этого свода принадлежала митрополиту Киприану. Он превратил Москву в религиозный центр всей Руси и фактически подчинил московской митрополии церковные организации отдельных русских областей, в том числе и тех, которые входили еще в состав Литвы. В самые последние годы своей жизни Киприан собрал с различных концов Руси местные летописи, действуя в этом отношении через подчиненную ему церковную организацию. К своду были привлечены новгородская летопись, рязанская — княжеская, суздальская, тверская, некоторые местные московские летописи (например серпуховская) и предшествовавший московский «Летописец великий русский». Кроме того, в свод Киприана впервые были включены известия по истории Литвы, так как и в Литве находились русские земли, на которые претендовала Москва. Составленная таким образом летопись (окончание работы над нею относится уже ко времени после смерти Киприана) известна под названием Троицкой. Летопись эта сгорела во время московского пожара 1812 г., выдержки из нее сохранились в приложениях к «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина. Существенным моментом в Киприановской летописи явился ее учительный, публицистико-назидательный характер по отношению к московским великим князьям. Следующий за Киприановским сводом свод Фотия не только удержал, но и развил именно эту учительную по отношению к московскому великому князю тенденцию. Критическое отношение к московскому великому князю за недостаточно решительные, по мнению летописца, действия против Орды составляло отныне одну из самых «боевых» сторон московской летописи. Она ориентировалась на «Повесть временных лет», на возрожденные традиции киевского летописания. Свод Фотия отразил в своем составе всё летописное богатство древней Руси. Он соединил в себе в обширных извлечениях летописи тверскую, новгородскую, ростовскую, ярославскую нижегородскую и т. д. Эти местные летописи не были здесь обезличены: они сохранили, иногда в неизменном виде, местные симпатии и политические устремления. Свод Фотия стремится вести историческое повествование беспристрастно и объективно. Сглаживается изложение борьбы Москвы с соперничающими центрами, опускаются некоторые узко московские известия, сведения семейно-княжеского характера и т. д. Изъятию подверглись пренебрежительные выпады против новгородцев, тверичей, суздальцев. Такая переработка летописных известий, несомненно, была вызвана тем, что в своей борьбе с областными центробежными силами Москва стремилась опереться на местное демократическое население, была заинтересована в прекращении областной вражды и ощущала себя носительницей идеи единства Руси. Решительною новостью со времени «Повести временных лет» явилось использование в своде народных эпических преданий о богатырях Владимирова цикла и о гибели богатырей на Калке. В летописи рассказывалось о богатырском подвиге Демиана Куденевича, о Рагдае Удалом, который один выходил на триста воинов, об Александре Поповиче и слуге его Торопе. Упоминались и многие другие богатыри, как, например, Добрыня Рязанич Златой Пояс, Андриан Добрянкович Храбрый, Ян Усмошвец, одержавший победу над половцами вместе с Александром Поповичем, и др.133 Москва явно стремилась придать летописанию общенародный характер. Соединение в единую летопись разрозненных летописей множества разобщенных областей свидетельствует о вполне созревшей уже мысли о единстве Руси. Мысль эта сочеталась пока с бережным использованием местной литературы, местных, иногда демократических тенденций и не диктовала еще, как позднее, сурового сокращения и цензурования местных памятников. Наоборот, московская летопись в эти годы явно начинала занимать все более и более демократическую позицию, выдвигая роль горожан в защите Руси от кочевников. Иную трактовку получила, например, в новом своде повесть о Тохтамыше.134 В предшествующем летописном своде главная роль в защите Москвы от войск Тохтамыша принадлежит внуку Ольгерда Остею,135 заменившему ушедшего в Кострому великого князя Дмитрия Ивановича. Гибель этого литовца сломила, якобы, сопротивление Москвы. В новой редакции этой повести о Тохтамыше в своде Фотия с особенным вниманием рассказывается о московских купцах-гостях — «сурожанах» суконниках и др. Они названы поборниками земли Русской; против них, главным образом, направлена ненависть татар. Литовский князь Остей не выступает уже защитником Москвы от Тохтамыша, как в своде Киприана: сами горожане оберегают город. В повествование введен новый рассказ о подвиге суконника Адама, который, заметив с Фроловских (Спасских) ворот кремля важного татарского князя, попал ему из самострела прямо «в сердце его гневливое». Взять Москву Тохтамышу удалось лишь при помощи измены в русском стане и ложными, вероломными обещаниями. Демократический характер этой переделки несомненен. Версия эта носит следы фольклорного происхождения: былины знают горького пьяницу Василия Игнатьевича, который в Киеве со стены города поражает стрелами трех знатнейших татарских вельмож. Таким образом, идея единства Руси вошла в московские летописные своды вместе с демократическими тенденциями. Действия великого князя московского обсуждаются в них с точки зрения соответствия их задачам общенародной политики. В этом последнем отношении чрезвычайно показательна неясная по своему происхождению, возможно составленная в Твери, пространная и витиеватая повесть о походе на Москву татарского хана Эдигея (1408). Повесть резко заострена против политики московского великого князя, пригласившего к себе на помощь татар и приютившего «ляха» Свидригайло. Когда пограничные отряды Эдигея пришли, чтобы помочь русским против Витовта, «сгарци же сего не похвал шла, глаголюще: „Добра ли се будеть дума юных наших бояр, иже приведоша половець на помощь?“».136 Летописец осуждает князей, которые наводят на Русь половцев-татар. Но особенному осуждению подвергся в летописи великий князь Василий Дмитриевич за то, что отдал Свидригайлу, «ляху верою», кафедральный город митрополита всея Руси — Владимир. В повесть вставлена похвальная характеристика города Владимира как стола Русской земли, «мати градом» русским, города пречистой богоматери, в котором «князи велиции Русстии первоседание и стол земли Русскыя приемлють».137 Резкому осуждению подвергнуты в повести и нерешительные действия русских войск. По поводу оставления великим князем Москвы вставлена цитата из псалма, не оставляющая никаких сомнений в цели ее применения: «добро есть уповати на Господа, нежели уповати на князя».138 Замечательно, что, желая оправдать свою резкую критику действий князя, летописец под конец повести ссылается на «начального летословца Киевского», который «временна богатства земская не обинуяся показуеть», и на великого Селивестра (одного из редакторов «Повести временных лет»), «не украшая пишущего». Ссылается летописец и на первых властодержцев русских, повелевавших без гнева «вся добрая и недобрая прилучившаяся написовати»,139 Эта небольшая приписка к повести об Эдигее, полной укоров и обличений, лучше всего показывает, какого широкого взгляда держался московский летописец на свою работу, какая острота политического обличения влагалась им в летописные своды начала XV в., и каким авторитетом пользовалась «Повесть временных лет». Со времени ее написания работа исторической мысли еще не была так интенсивна, как в этот период. Никогда еще работе летописцев и историческим концепциям не придавалось такого исключительного значения — значения государственной важности. Общенародный господствующий характер обращения после Куликовской битвы (1380) к временам независимости, к Киеву, к «Повести временных лет», к Владимиру как к городу, овеянному воспоминаниями, связанными с эпохой независимости Руси, ярко выступает не только в книжности. Сопоставление летописной работы начала XV в. с тем, что происходило в это время в области живописи и архитектуры, ярче всего демонстрирует, какого грандиозного размаха достигли в начале XV в. восстановительные тенденции. Конец XIV — начало XV вв. могут рассматриваться как эпоха возрождения, связанного с особым интересом к родной истории и к памятникам прошлого. Резкий перелом в области московского искусства наступил именно в княжение Дмитрия Донского. Архитектурные формы постепенно обнаруживали стремление к внешнему блеску, к пышности и богатству, как бы отражающим общий подъем народного самосознания после первых побед над татарами. С княжения Дмитрия Донского впервые в русской истории началась реставрация памятников, связанных с воспоминаниями об эпохе независимости Руси. Очевидно, что именно в княжение Дмитрия Донского Успенский собор во Владимире (1158) капитально ремонтировался и стал княжеским собором. Реставрационные работы особенно усилились в начале XV в. В 1403 г. обновлялся собор 1152 г. в Переяславле Залесском. В 1408 г. знаменитый русский живописец Андрей Рублев восстановил по приказанию московского великого князя древнюю домонгольскую живопись Успенского собора во Владимире.140 Реставрационные работы над памятниками домонгольской поры велись в Ростове, в Твери, в Звенигороде и т. д. Полоса этих реставраций тянулась вплоть до Ивана III, когда итальянский зодчий Аристотель Фиораванти построил центральную святыню нового русского государства — Успенский собор московского кремля, по образцу владимирского Успенского собора 1158 г. Тот же интерес к произведениям домонгольского периода характеризует и русскую книжность. Составлялись новые и вновь редактировались старые переводы произведений, известных еще с XI–XII вв.; во множестве создавались новые исторические сказания и повести, главным образом касающиеся борьбы с татарами. В течение всего XV в. мы встречаем усиленное подражание литературным произведениям эпохи независимости. Это обращение во всех областях культурной жизни Руси конца XIV — начала XV вв. ко временам независимости вызвало к жизни оригинальную историческую теорию, символически противопоставившую начало и конец татаро-монгольского ига. Читая и перечитывая «Слово о полку Игореве», как перечитывались в конце XIV в. «Повесть временных лет», «Киево-Печерский патерик», «Сказания о рязанском разорении», подвергшиеся в это время существенным переделкам, древнерусский книжник усмотрел в событиях «Слова» начало татаро-монгольского ига. Немалую роль в этом имело самое отожествление половцев и татар, типичное для московских летописных сводов.141 Такой взгляд на «Слово о полку Игореве», как на произведение о начале татаро-монгольского ига, побудил вскоре же после Куликовской победы противопоставить ему произведение о конце татаро-монгольского ига. Таким своеобразным «ответом» на «Слово о полку Игореве» явилась «Задонщина». Автор «Задонщины» имел в виду не бессознательное использование художественных сокровищ величайшего произведения древней русской литературы — «Слова о полку Игореве», не простое подражание его стилю (как это обычно считается), а вполне сознательное сопоставление событий прошлого и настоящего, событий, изображенных в «Слове о полку Игореве», с событиями современной ему действительности. И те и другие символически противопоставлены в «Задонщине». Чтобы пояснить читателю эту идею, автор «Задонщины» предпослал ей предисловие, составленное в эпически-былинных тонах. На пиру у воеводы Микулы Васильевича великий князь Дмитрий Иванович обращается к «братии милой» с предложением пойти на юг, взойти на горы киевские, посмотреть на славный Днепр «и оттоле на восточную страну, жребий [удел] «Симов», от которого родились татары: «те бо на реце на Каяле одолеша род Афетов [русских], оттоле Русская земля сидит невесела, от Калатьския [Каяльская] рати до Мамаева побоища тугою и печалию покрышася, плачущися, чады своя поминаючи». «Снидемся, братия и друзи и сынове русские, составим слово к слову, возвеселим Русскую землю, возверзем печаль на восточную страну, в Симов жребий» [т. е. на татар], — приглашает автор «Задонщины» в начале своего произведения. Дальнейшее описание событий битвы на Дону имеет в виду именно это — «возвеселить Русскую землю», «ввергнуть печаль» на страну татар. В «Слове о полку Игореве» грозные предзнаменования сопровождают поход русских войск: волки сулят грозу по оврагом, орлы клёкотом зовут зверей на кости русских, лисицы лают на щиты русских. В «Задонщине» те же зловещие знамения сопутствуют походу татарского войска: грядущая гибель татар заставляет птиц летать под облака, часто граять воронов, говорить свою речь галок, клекотать орлов, грозно выть волков ж брехать лисиц. В «Слове» — «дети бесови [половцы] кликом поля перегородиша»; в «Задонщине» — «русские же сынове широкие поля кликом огородиша». В «Слове» — «чрьна земля под копыты» была посеяна костьми русских; в «Задонщине» — «черна земля под копыты костьми татарскими» была посеяна. В «Слове» — кости и кровь русских, посеянные на поле битвы, всходят «тугою» «по Русской земли»; в «Задонщине» — «уже бо восстона земля татарская, бедами и тугою покрыся». В «Слове» — «тоска разлияся по Русской земли»; в «Задонщине» — «уже по Русской земле простреся веселие и буйство». В «Слове» — «а погании с всех стран прихождаху с победами на землю Русскую»; в «Задонщине» же сказано о татарах: «уныша бо царей их веселие и похвала на Русскую землю ходити». В «Слове» — готские красные девы звенят русским золотом; в «Задонщине» — русские жены «восплескаша татарским златом». «Туга», разошедшаяся в «Слове» после поражения Игоря по всей Русской земле, сходит с нее в «Задонщине» после победы Дмитрия. То, что началось в «Слове», кончилось в «Задонщине». То, что в «Слове» обрушилось на Русскую землю, в «Задонщине» обратилось на ее врагов. Итак, начало того исторического периода, с которого Русская земля «сидит невесела», автор «Задонщины» относит к битве на Каяле, в которой были разбиты войска Игоря Севзрского. «Задонщина» повествует, следовательно, о конце этой эпохи «туги и печали», о начале которой повествует «Слово о полку Игореве». Отсюда преднамеренное противопоставление в «Задонщине» конца — началу, битвы на Дону — битве на Каяле, победы — поражению, и преднамеренное сопоставление Каялы с Калкой, половцев с татарами. Отсюда внешнее сходство произведений, проистекающее из исторических воззрений автора «Задонщины», типичных для своего времени. Обращение к стилю «Слова о полку Игореве» входит, следовательно, в самый замысел «Задонщины», как идеологическое освещение тех событий, начало которых автор «Задонщины» видел в битве на Каяле— Калке, а конец — в битве на Дону. Таким образом, стилистическая близость «Слова о полку Игореве» и «Задонщины» не является результатом творческого бессилия автора «Задонщины» — это вполне сознательный прием: на фоне стилистического единства «Слова» и «Задонщины» ярче и острее должно была казаться самое противопоставление двух событий — прошлого и настоящего. Куликовская битва рассматривается, следовательно, в «Задонщине» как реванш за поражение, понесенное войсками Игоря Святославича на реке Каяле, сознательно отожествляемой автором «Задонщины» с рекой Калкой, поражение русских на которой в 1224 г. явилось первым этапом завоевания Руси татарами. Эта идея реванша, как и самая идея обращения ко временам независимости Руси, сказавшаяся и в письменности, и в архитектуре, и в живописи, и в политике, имела глубоко народный характер. В этом убеждает русский былевой эпос, русские былины, где эти же идеи сказались в полной мере. Есть основание полагать, что сложение русского былевого эпоса в единый киевский цикл произошло не позднее середины XV в. Хотя главные сюжеты былинных песен о князе Владимире относятся еще к домонгольским временам (например сюжеты, связанные с Добрыней, исторически засвидетельствованные «Повестью временных лет»), однако присоединение к ним сказаний рязанских, тверских, муромских, ростовских не могло совершиться до объединения этих областей в единое государство. В то же время создание этого цикла явно не могло произойти и после присоединения Новгорода к Москве, так как новгородские былины составили особый цикл, вернее они не вошли ни в какой цикл: новгородские былины остались без того объединяющего лица, которое получили былины киевские, ростовские, рязанские, московские, сгруппировавшиеся вокруг «старого Владимира» «Красного Солнышка». Следовательно, сложение киевского цикла не могло произойти и позднее 1479 г. — года воссоединения Новгорода и Москвы. Косвенное указание на время расцвета русского былевого эпоса и создания киевского цикла былин дают московские летописные своды XV в., в которые были включены отражения различных былинных сюжетов. В частности, чрезвычайно показательны отражения в московских летописных сводах сюжетов, героем которых был ростовский богатырь Александр (Алёша) Попович. Первоначально Александр Попович, поскольку это выясняет анализ летописных сюжетов с его участием, — один из «храбров» Всеволода Большое Гнездо. Александр — житель Ростова, со смертью Всеволода он переходит на службу к его сыну Константину. Боевые подвиги Александра связаны с борьбой за наследство Всеволода между его сыновьями. Он — главный герой Липецкой битвы. Сказания о нем, сложившиеся до XIV в., тесно связывают его имя с урочищами Ростова. Эти сказания, повидимому, первоначально распространялись только в Ростово-Суздальской земле. С ослаблением центробежных областнических, узко местных тенденций в конце XIV — начале XV вв., с ростом сознания общерусского единства Александр Попович теряет черты местного ростовского герой и становится героем общерусским. Параллельно реальному политическому объединению русских земель создаются произведения, объединяющие русских богатырей, начинающих служить общерусским интересам. Создается сюжет об отъезде Александра Поповича из Ростова во главе других русских храбров, отказывающихся от служения местным князьям. Александр Попович и все русские князья приезжают в Киев — мать городов русских — и служат «единому» русскому князю Мстиславу Романовичу, а затем гибнут в Калкской битве. В летописном своде Фотия (1418 или 1423), в известии о смерти в битве на Калке Александра Поповича и «инех» 70 храбрых можно видеть древнейшее отражение в средневековой письменности эпического сюжета о гибели богатырей. Это один из древнейших этапов сложения былин в единый цикл, один из основных и первоначальных сюжетов, рисующих объединение богатырей (объединение, правда, перед лицом смерти, объединение в гибели за общерусское дело). Недовольство княжеской властью в конце XIV и начале XV вв. (эпоха усобиц) нашло отражение в летописи в резко отрицательном изображении киевского князя Мстислава Романовича (см. так называемый Тверской сборник). Однако рост политического значения княжеской власти в XIV и XV вв., выдающаяся роль московских великих князей в политическом объединении Руси приводят к переосмыслению роли и личности князя в былинных сюжетах. Соответственно этому уже во второй половине XV в. в былинных сюжетах об Александре Поповиче место ничтожного князя Мстислава Романовича занимает идеализированный русской летописью, книжностью и народом в целом — Владимир Мономах, собиратель русских богатырей и официальный родоначальник московских великих князей, собирателей Русской земли. Александр Попович на службе у Владимира Мономаха удачно обороняет Киев от половцев (Никоновская летопись под 1103 г.). Последний этап создания сюжетов об Александре Поповиче, засвидетельствованный летописью для первой половины XVI в., застает Александра Поповича при главной притягательной силе Киевской Руси — Владимире I Святославиче, совместно с другими русскими богатырями защищающим Киев от печенегов. К 1550-м годам (время составления Никоновской летописи) этот цикл развития былинных сюжетов об Александре Поповиче может считаться завершенным. Таким образом, исторические предания об Александре Поповиче и по характеру своей распространенности и по характеру своих сюжетов развиваются от узко местного эпоса к общерусскому. Местные сказания, приуроченные к определенным ростовским урочищам, превращаются в общерусские героические сюжеты с весьма обобщенным содержанием. Развитие былинных сюжетов об Александре Поповиче идет параллельно развитию и росту общенародного самосознания. Это положение справедливо и для истории ряда других былинных сюжетов. История сюжетосложения былин об Александре Поповиче наглядно убеждает в том, что процесс циклизации былинных сюжетов вокруг Киева и Владимира «Красное Солнышко» отнюдь не являлся механическим процессом, подчиненным бессознательным законам народной памяти. Историческая школа в изучении былин (Вс. Миллер, М. Халанский, Н. Дашкевич, А. Лобода, А. Марков, Б. Соколов и др.) ставила себе целью связать русские былины с подлинными историческими фактами, с определенными историческими лицами. Вся последующая история былинных сюжетов, в том числе и циклизация их вокруг Киева, рассматривалась исторической школой, как постепенное обесценивание и затухание памяти об этом историческом ядре — историческом факте, легшем в основу былины. Анализ исторического развития былинных сюжетов, поскольку оно отразилось в летописи, позволяет говорить об обратном: не о ниспадающей линии развития эпоса, а о восходящей. Возникнув на основе местного исторического припоминания, сюжет героического эпоса постепенно поднимается до обобщающих представлений об исторических судьбах родины и выходит за пределы своей местности, становясь достоянием всего народа. Это объясняется в первую очередь тем, что развитие эпоса самым тесным образом связано с историческими воззрениями народа. Эта мысль была в свое время отчетливо выражена таким непревзойденным знатоком русского эпоса и древней русской письменности, как Ф. Буслаев: «… русский народный эпос служит для народа неписанною традиционной летописью, переданной из поколения в поколение в течение столетий. Это не только поэтическое воссоздание жизни, но и выражение исторического самосознания народа».142 Таким образом, историческая концепция русского эпоса отнюдь не случайна: ее создание диктовалось исторической необходимостью; она представляла собой живой отклик народа, активно воспринимавшего события своего времени, на судьбы родины. Исторический эпос — «исторический не в том смысле, что в нем выведены действительные исторические лица, а в том, что в формах прошлого он выразил народное настроение настоящего».143 История сюжетосложения былин — история постепенного вхождения их в киевский цикл. Она наглядно показывает, что в киевском цикле отразилась прежде всего идея единства Руси, идея единства русского народа. И князь Владимир и Киев, в котором собираются все местные русские богатыри, являются в нем символами русского единства и русской независимости. На службе у князя Владимира русские богатыри, Илья Муромец, Добрыня Рязанич, ростовский житель Александр Попович и др., обороняют Русскую землю от степных кочевников, стоят на пограничной заставе, зорко всматриваясь в степную даль, и неизменно одерживают победы над врагами Руси. Объединение местных областных сказаний в единый киевский цикл вокруг князя Владимира совершилось в былинах на почве того же культа Киева и его князя Владимира, который заставлял москвичей на рубеже XIV и XV вв. восстанавливать домонгольские здания, реставрировать домонгольскую живопись, подновлять и давать новые редакции произведениям Киевской Руси, возводить генеалогию московских князей к «старому Владимиру» и т. д. Объединение русских былин в киевский цикл было, следовательно, вполне аналогично объединению областных летописей в грандиозных московских летописных сводах с киевской «Повестью временных лет» во главе. Культ Киева и его князя Владимира был культом национальной независимости и в русской книжности и в фольклоре. Подобно тому как «Задонщина» была вся проникнута идеей реванша и мести за нанесенные русским поражения, русские былины, воспевавшие неизменные победы русских богатырей над татарами, жили той же идеей мести и реванша. Смешение половцев и татар, как общих врагов Руси, в книжности и фольклоре далеко не случайно: и книжность и фольклор жили в основном единой мыслью в эпоху объединения русских областей и борьбы с татаро-монгольским игом. >VI ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА С МОСКВОЮ НОВГОРОДА И ТВЕРИ >Наряду с подъемом объединительных идей в Москве, росло и идеологическое сопротивление ей отдельных русских областей. Чем круче была политика Москвы, тем ожесточеннее было это сопротивление. Но знаменательно, что, противопоставляя Москве свои политические теории, области вынуждены были считаться с достижениями исторической мысли Москвы и безоговорочно принимали некоторые из ее идей. Чем ярче разгоралась борьба Москвы с Новгородом и Тверью, тем яснее становилась победа идеи общерусского единства. Под конец борьба шла уже не между центробежными и центростремительными силами в русской жизни: боролись областные центры с Москвою за возглавление того общерусского единства, которое уже всеми считалось одинаково необходимым. В идейной борьбе Новгорода и Твери с Москвою рождались новые исторические произведения, необычайно рос интерес к родной истории. Так, в самом сопротивлении Москве рождались предпосылки для объединения с нею. >1 Объединительная политика Москвы встретила чрезвычайно сильное сопротивление новгородского боярства, опасавшегося потерять свои обширные земельные владения, и крупного новгородского купечества, боявшегося конкуренции Москвы в торговле с Западом. Новгородское государство становилось всё более и более реакционной силой в русской жизни, сопротивлявшейся объединительной политике московских великих князей. Новгородское ушкуйничество нарушало московскую торговлю севера и северо-востока; неспокойная новгородская политика грозила постоянными неожиданностями. Однако в самом Новгороде, как и в других русских областях, увеличивалось «в населении количество таких элементов, которые прежде всего желали, чтобы был положен конец бесконечным, бессмысленным войнам, чтобы прекращены были раздоры феодалов, приводившие к тому, что внутри страны шла непрерывная война даже в том случае, когда внешний враг был в стране, чтобы прекратилось это состояние непрерывного и совершенно бесцельного опустошения, которое неизменно продолжало существовать в течение всего средневековья».144 Демократические низы Новгорода явно тяготели к Москве, к сильной великокняжеской власти, в которой надеялись найти опору против боярства. В разное время сторонники подчинения Москве находили себе в Новгороде путь к власти, но в полной мере ни партия новгородских сепаратистов (так называемая литовская), ни партия сторонников Москвы не смогли возобладать на зыбкой почве новгородского «народоправства». Конец XIV в. характеризуется крайним обострением борьбы Москвы с Новгородом. Эта борьба стала особенно напряженной в 90-х годах XIV в., в связи с отказом новгородцев выезжать на суд к московскому митрополиту. По старому, испытанному еще в XII в. пути, новгородское боярство посылало послов с жалобой в Константинополь, угрожало Москве переходом в латинство, клялось на вече не судиться у митрополита. Только после того, как войска великого князя захватили Торжок и начали опустошать новгородские волости, новгородцы изъявили покорность. Новый перевес дало новгородской литовской партии замешательство в церковных делах первой половины XV в., приведшее к образованию двух враждебных митрополий: московской и киевской. Оно позволило новгородскому боярству вести двойную политику и постоянно добиваться от Москвы уступок угрозами подчиниться киевскому митрополиту. С этой поры церковный вопрос в Новгороде приобрел первостепенное политическое значение. Пользуясь смутою в церковных делах, Евфимий II Новгородский получил «поставление» в Смоленске у киевского митрополита Герасима, и это дало Новгороду независимость от московской церкви. В Новгороде приобрели значительную силу антимосковские настроения. Архиепископ Евфимий II активно способствовал западному влиянию и оказывал покровительство иностранцам. «От странных же или чуждых стран приходящих всех любовию приимаше, всех упокоиваше, всех по достоинству миловаше», — говорит о нем Пахомий Серб. Показателем новгородской политики служит то, что в Новгороде находили убежище противники московского великого князя — Дмитрий Шемяка и Василий Гребенка. Новгородское боярство обращалось к прошлому Великого Новгорода, чтобы в нем найти опору в борьбе против Москвы. Так же, как и в Москве, это обращение к прошлому сказалось в усиленном развитии летописания, в целом ряде реставрационных работ, в попытках оживить историческое предание, связанное с героическими страницами в жизни родного города. Во второй четверти XV в. началась беспокойная строительная деятельность архиепископа Евфимия II. Он обстроил новыми зданиями владычный двор Детинца, строил на Софийской и Торговой сторонах, строил в Старой Руссе, в Вяжищах, в Хутыне и т. д. Ко времени Евфимия II относятся здания светского и промышленного назначения, церкви и правительственные палаты. Особое место в строительной деятельности Евфимия II занимало возрождение новгородских архитектурных форм XII в. — века наибольшего расцвета новгородской торговли и внешнего могущества. В 1454 г. Евфимий II реставрировал церковь Ивана на Опоках (братчины Иванщины), первоначальной постройки 1127–1130 гг. В 1455 г. он строил «на старой основе» церковь Ильи на Славне, первоначальное здание которой относилось к 1198–1202 гг. В 1442 г. Евфимий II «на старой основе» 1198 г. ставил Преображенский собор в Старой Русое. На старой же основе XII в. восстанавливались церкви Бориса и Глеба (1445), Жен-мироносиц (1445), Борогодицы на Торгу (1458) и др.145 Евфимий II возродил строительные приемы монументальной архитектуры XII в., напоминавшие своими выразительными и внушительными формами о былом величии Новгорода. Разнообразной строительной деятельностью Евфимия II восхищался Пахомий Серб, в восторженных выражениях описавший выстроенные Евфимием храмы Детинца, которые «яко звезды или горы» стоят вокруг Софии. Массовое восстановление Евфимием II старых церквей XII в. связано с одновременным установлением культа «преждеотшедших» новгородских архиепископов, с возрождением летописного дела, с созданием цикла литературных произведений об архиепископе Иоанне, при котором новгородцы в 1170 г. отбили от стен Новгорода войска северо-восточных княжеств, что в XV в. служило как бы символом неприступности Новгорода для посяганий Москвы. Около 1432 г. был составлен в Новгороде обширный летописный свод «Софийского временника», который должен был дать новую историческую концепцию, поставив в центр русской истории историю Великого Новгорода. Однако, вскоре после составления свода 1432 г. «Софийского временника», в Новгороде стал ясен и его основной недостаток, не позволявший ему конкурировать с обширными московскими летописными сводами начала XV в. В то время как московское летописание было в подлинном смысле этого слова общерусским, объединяло в своем составе известия самых разнообразных областей и освещало историю всего русского народа в целом, новгородский «Софийский временник» но составу своих известий оставался все же летописью узко новгородской. Поэтому при том же Евфимии II в 1448 г. было предпринято составление нового летописного свода. Свод 1448 г. был первым новгородским сводом с ярко выраженным общерусским характером. Это далеко уже не узкая местная летопись, редко выходящая за пределы родного города, какой была новгородская летопись в предшествующие столетия. Свод 1448 г. описывает судьбу русского народа в целом, хотя преимущество попрежнему отдает Новгороду и в нем видит, очевидно, центр событий русской истории. Знаменательно, что в основном этот общерусский характер свод 1448 г. приобретает в результате заимствования общерусских известий из московского летописного свода Фотия 1418 или 1423 г. Стремясь создать историческую и политическую концепцию, противостоящую московской, Новгород все же опирался на Москву, на ее книжность, считался с достижениями ее исторической мысли и принимал общерусский характер ее трактовки предшествующего летописания. Так, идеи Москвы находят себе признание даже у ее врагов. Однако, в противоположность московским летописцам конца XIV — начала XV вв., нередко оценивавшим события с точки зрения демократических городских слоев населения, составитель свода 1448 г. во многих случаях проявил себя как представитель интересов боярской партии — владычнего двора. Он с осуждением отнесся к черному люду — к «голодникам», «ябедникам»146 и к городским волнениям. Свод 1448 г. имел обширный успех в русском летописании. В Новгороде на его основе создается еще ряд сводов. Историческая мысль работала с чрезвычайной интенсивностью. Летописные своды с настойчивой последовательностью создавались один за другим, но самостоятельной и законченной новгородской исторической концепции, подобно московской, всё же не получилось. Содержание новгородских летописей, стремившихся соединить достижения исторической мысли Москвы с антимосковскими тенденциями правящей верхушки Новгорода, осталось таким же противоречивым, как противоречива была и сама новгородская жизнь. >2 Попытки новгородского боярства опереться на прошлое Великого Новгорода, возродить старые, еще домонгольские традиции нашли себе место не только в новгородском летописании. В 1436 г. в церкви Усекновения главы в Новгородском Детинце упавший сверху камень пробил «велию скважину», в которой обнаружилось «нетленное» тело неизвестного святого. Известили Евфимия. «Убедившись» в нетленности мощей, Евфимий начал молить Бога: «да явит имя, кто есть». В ту же ночь «явился» Евфимию архиепископ Иоанн, открылся, что мощи принадлежат ему, и велел «праздновать себя» каждое 4 октября. Иоанн (1163–1186) — первый официальный новгородский архиепископ. Он был известен в Новгороде, главным образом, как лицо, при котором в 1170 г. произошло «чудесное» спасение города от подступивших к нему войск северо-восточных княжеств, отожествлявшихся в Новгороде в XV в. с Москвой. Само собой разумеется, что открытые так кстати упавшим камнем мощи Иоанна были торжественно водворены в Софийском соборе, и почитание этого новоявленного святого приобрело формы почти политической демонстрации. Вокруг архиепископа Иоанна и «чуда» спасения Новгорода от войск суздальцев возник цикл легенд, своего рода культ новгородской независимости. Основание культа новгородских святых и возвеличение новгородского прошлого подкреплены были несколько позднее и другой легендой. Под 1439 г. летопись сохранила сказание пономаря Аарона.147 В одну из ночей пономарь Аарон увидел, как в церковь Софии «прежними дверьми» (очевидно теми, которыми перестали пользоваться) вошли все «преждеотшедшие» новгородские архиепископы, молились в алтаре и пред иконою Корсунской божьей матери. Пономарь рассказал о своем видении Евфимию, и тот «бысть радостен о таковом явлении», повелел служить панихиду по всем новгородским архиепископам, а затем установил и более регулярное чествование своих предшественников. Выходило так, что не Евфимий II насаждал почитание новгородских святых и воскрешал память о забытых временах новгородского расцвета, а само прошлое напоминало о себе. «Преждеотшедшие» архиепископы молились за Новгород, объявляли свои мощи и т. д. Новгородская боярская партия настойчиво искала в новгородском прошлом опоры для своих притязаний на независимость и отъединенность от Москвы. Евфимий II пригласил с Афона знаменитого ритора Пахомия Серба и заказал ему литературное изложение легенды о чудесном спасении Новгорода при архиепископе Иоанне от войск суздальцев в 1170 г. Простую и непосредственную новгородскую легенду Пахомий «удобрил» витиеватым красноречием, придав ей пышность и назидательность, усилив элемент чудесности. Заканчивалось описание «чуда» спасения Новгорода от войск северо-восточных княжеств в изложении Пахомия молитвой, трафаретные заключительные строки которой должны были звучать особенно остро в политической обстановке половины XV в.: молитва завершалась прошением об избавлении «града нашего [Новгорода] от глада, губительства, труса [землетрясения], потопа и нашествия иноплеменников».148 В этот первый свой приезд в Новгород Пахомий написал, кроме того, службу новгородскому святому Варлааму Хутынскому, похвальное слово ему же и житие Варлаама. Культ новгородских святых обставлялся, как видим, необходимой пышностью. Таким образом, торжественное восстановление авторитета родной старины, начатое Москвою, было подхвачено ее политическим противником — Новгородом, новгородским боярством. Чем ожесточеннее была идеологическая борьба Москвы и Новгорода, тем яснее становилась победа общерусского сознания, тем ближе в конечном счете становилась и идейная победа Москвы, как наиболее последовательного носителя общенациональных традиций. >3 Но уже и в самом Новгороде идеи Москвы находили всё большее число сторонников. К концу 50-х годов XV в., в результате победы московского великого князя над новгородским ополчением и заключения невыгодного для новгородского боярства мира, перевес Москвы настолько определился, что представителям боярской партии в Новгороде приходилось думать только о политике отсрочки, по существу, неизбежного конца новгородской независимости. Росло и сочувствие демократических слоев населения Новгорода Москве. Роль заступника и постоянного ходатая за Новгород перед московским великим князем принял на себя избранный после смерти Евфимия II архиепископ Иона, искусно лавировавший между крайностями литовской боярской партии и энергичным натиском Москвы. Иона ознаменовал свое архиепископство целым рядом предприятий, клонившихся к закреплению мирных отношений с Москвой. В житии Ионы отмечено, что «московьстии князи много любяху его и со благоговением почитаху, и писания множицею посылаху к нему и от него въсписания желанно приимаху».149 Иона установил в Новгороде культ московского святого Сергия Радонежского, выстроил ему церковь (1463), ездил в Москву, где слезно заступался за новгородцев перед великим князем. При Ионе вторично прибыл в Новгород Пахомий Серб. Иона, как и Евфимий II, заказал Пахомию различные церковные службы и при этом, наряду со службами новгородским святым заботился и о службах святым, имевшим общерусское значение. Особенный интерес имеет заказанное Ионой Пахомию «Сказание о чуде преподобного Варлаама Хутынского» (1460). «Чудо это, случившееся в первый же год архиепископства Ионы, было весьма симптоматично. Во время приезда в Новгород московского великого князя Василия Васильевича умер его постельничий Григорий Тумган. Привезенный ко гробу новгородского святого Варлаама, постельничий «воскрес». Так же, как и открытие мощей архиепископа Иоанна при Евфимии II, инсценировка воскрешения постельничего московского великого князя у гроба новгородского святого не была случайной: новое «чудо» знаменовало собой временный перелом в новгородской политике и стояло в связи с новгородской дипломатией, стремившейся расположить к Новгороду великого князя Василия Васильевича. Заказывая описание этого «чуда», Иона имел в виду внушить московскому князю уважение к новгородским святыням, примирить его с Новгородом. Предназначенное для такой цели «Сказание» написано в духе московских взглядов. Оно именует Василия Васильевича «благочестивым и благоверным великим князем володимерским и московским и новгородским и всея Руси», а Новгород — вотчиной великого князя. Впоследствии, когда отношения Новгорода с Москвой вновь обострились, послушный исполнитель воли своих заказчиков Пахомий Серб переделал свое произведение согласно с требованиями момента: пышное титулование московского великого князя было замшено более простым — «благочестивый великий князь», а место, в котором говорилось о Новгороде, как о вотчине великого князя, было опущено. К эпохе усиления московских тенденций в Новгороде (в самой средине XV в.) относится житие яркого представителя московской демократической партии в Новгороде — Михаила Клопского. Москвич по происхождению, родственник московских великих князей, Михаил избрал местом своего монашеского пребывания небогатый новгородский Клопский монастырь, игумена которого Феодосия низы новгородского населения одно время даже избрали в архиепископы. Житие, демократическое по своим тенденциям, обильно эпизодами враждебного отношения монастыря к посадникам, к укрывавшемуся в Новгороде неудачному конкуренту московского великого князя Дмитрию Шемяке, и вместе с тем, в отличие от велеречивых и витийственных произведений Пахомия, выполнявшего заказы боярской партии, носит демократический, просторечный характер со следами влияния фольклора. О новгородском князе Михаиле Олельковиче, ставленике Литвы, Михаил Клопский говорит: «то у вас не князь — грязь», советует покориться московскому великому князю, «предрекает» торжество Москвы. Таким образом, еще до завоевания Новгорода Москвою в Новгороде зрели идеи общерусского единения под верховенством Москвы. Сама новгородская старина, вызванная к жизни сторонниками литовской боярской партии, восставала на новгородскую независимость. Разбуженный интерес к родной истории подсказывал идею общерусского единства. >4 В эпоху походов Ивана III ожесточение борющихся партий в Новгороде — литовской и московской — достигло крайней ступени. Новгородское летописание утратило свою организованность и систематичность. Летописи велись по инициативе представителей обеих враждующих партий, дополнявших и расширявших списки, начатые их предшественниками. В этих дополнениях нет единства между отдельными летописцами ни в политических взглядах, ни в круге отмечаемых ими событий, ни в стиле и манере изложения. Летописцы то ограничивались одними лишь новгородскими событиями, то вводили сведения общерусского значения; иногда эти известия кратки и сдержанны, но иногда же речисты и витийственны. Те части новгородской летописи, которые отличаются традиционным новгородским лаконизмом стиля, лишены, однако, чеканности летописного языка XII–XIII вв. Летописец терял присущее ему спокойствие тона, как только подходил к предметам, близко касавшимся его политических убеждений, и разражался в этих случаях многословными тирадами против своих политических врагов всюду, где находил это возможным. Летописец, дополнивший один из списков Новгородской IV летописи (Строевский), так отчитал сторонника московского великого князя Упадыша, забившего железом пять новгородских пушек при приближении к Новгороду московского войска: «како не вострепета, зло мысля на Великий Новъгород, не сытый лукавъства? не мъзды ли ради предаеши врагом Новъгород, о Упадышче, сладкого брашна вкусил в Великом Новеграде? О, колика блага не намятив, недостаточное ума достигл еси!.. Уне бы ты, Упадыше, аще не был бы во утробе матерьни: не бы был наречен предатель Новуграду…»150и т. д. Не на одного Упадыша сетует летописец. Он осуждает «владычнь стяг» (полк новгородского архиепископа), который не хотел ударить на московскую княжескую рать, ссылаясь на то, что «владыка нам не велел на великого князя руки подынути». Осуждает летописец и тех новгородцев, которые перед битвой, с москвичами «вопили» на «больших людей», не желая сражаться: «Яз человек молодыи, испротеряхся конем и доспехом».151 «И бысть в Новегороди молва велика, и мятежь мног, и многа лжа неприазнена, сторожа многа но граду и но каменным кострам [башням] на переменах день и нощь. И разделишася людие: инии хотяху за князя [московского], а инии за короля, за Литовьского»,152 так описывает летописец волнения, вызванные поражением новгородского войска на Шелони. Иной характер носили дополнения Новгородской IV летописи по списку Дубровского. Помимо обилия в них московских и общерусских известий, список включил в свой состав такие направленные против новгородской независимости произведения, как «Словеса избранна от святых писаний»153 на новгородцев, «Послание митрополичье»154 против них же, московский рассказ о присоединении Новгорода с резкими выпадами против новгородцев и характерным заключительным проклятием новгородским «смутьянам»: «И та земская их беда и вся людцкая кровь да будетъ изысканна от Бога вседержителя, по писанному: Господи! зачинающих рать погуби. И то все на тех главах на изменных и на их душах, в сем веце и в будущем, аминь».155 Военные действия против Новгорода, а затем и борьба в Новгороде с остатками боярско-литовской партии внесли ненадолго черты озлобления и полемичности в произведения обеих партий. Эта борьба по мелочам, по текущим вопросам была лишена той широкой историко-философской аргументации, которой обладала литература предшествующего периода. >5 Московские порядки были введены в Новгороде в 1478 г. после вторичного похода, которому Иван III придал характер защиты русских интересов от изменников — новгородских бояр. Этот поход Ивана III был обставлен с чрезвычайной пышностью. Ни один из московских походов ни в прошлом, ни впоследствии не сопровождался такой усиленной пропагандой, таким обилием всяческих посланий, как новгородские походы Ивана III. Идеологическое состязание Новгорода и Москвы достигло в 70-х — 80-х годах XV в. особенной напряженности. Везя в обозе своих войск летописи и книжника, умевшего «говорить по летописцам русским» (новгородца Стефана Бородатого),156 Иван III готовился к сложной идеологической борьбе с Новгородом. Наступая на Новгород, Иван III явно не опешил, принимал по дороге перебежчиков и затягивал переговоры, очевидно, выжидая, чтобы московские интересы сами взяли верх в Новгороде. К этому у него были веские основания: так называемая литовская партия, составлявшая крайнее меньшинство, орудовала в Новгороде путем подкупов и террора, которые становились недейственными при одном приближении громадного войска великого князя. Чем ближе подступала к Новгороду великая рать московская, тем больше перебегало к ней новгородцев, обещавших служить великому князю верой и правдой. Присоединение Новгорода к Москве не сопровождалось стремлением к разрушению его культурных ценностей. Уничтожая новгородскую независимость, москвичи не считали себя завоевателями, точно так же, как и представители московской партии в Новгороде не рассматривали себя как врагов родного города. Уничтожение новгородской независимости понималось не как завоевание, а как воссоединение исконных русских земель под державой «боговенчанного» монарха «всея Руси». Сознание значительности одного из старейших русских городов постоянно ощущается в отношениях Москвы к Новгороду. Москва широко использовала новгородские летописи, приглашала к себе новгородских иконников и каменщиков, подчеркивала славу и величие великого Новгорода, исконную зависимость его от московских великих князей, усматривая новгородскую измену лишь в «последних летех». Постепенно Москва обстраивала новыми стенами Новгородский Детинец (кремль), возвратила в Новгород Софийскую казну, увезенную было Иваном III, перепланировала город, расширяя улицы, упорядочила городскую жизнь, наконец всячески пользовалась книжными традициями и богатствами Новгорода. В первой половине XVI в. в Новгороде наблюдалось возрождение организованной работы над летописью. В 1520 г. при архиепископе Макарии — будущем участнике «избранной рады» Грозного — здесь была составлена особая редакция Хронографа. В 1539 г. был создан новый свод новгородской летописи.157 При Макарии же в Новгороде составлялось грандиозное собрание житий русских святых, так называемые макарьевские Четьи-Минеи в 12 обширных томах. Стремясь найти в новгородском прошлом опору для нового порядка, Москва поддерживала культ представителя московской демократической партии в Новгороде — Михаила Клопского. Политическое значение этого культа видно хотя бы из того, что впервые в истории: древнерусской книжности составление нового жития этого святого было поручено светскому лицу — московскому чиновнику, сыну боярскому и «храброму воину» Василию Тучкову, который значительно усилил московский антипосаднический дух жития. В течение всего XVI и XVII вв. в Новгороде осуществлялся целый ряд общерусских культурных предприятий. Москва поддерживала книжность Новгорода, и сам Новгород в целом придерживался общерусской позиции; однако кое-какие отголоски идей боярско-литовской партии в церковной трансформации (новгородская церковная организация менее всего пострадала при разгроме Новгорода), как, например, идея совершенной самостоятельности новгородской церкви (легенда о белом клобуке), идея превосходства «священства» над «царством» и т. д., еще долго сказывались и в новгородской книжности и в новгородской жизни на протяжении всего XVI и XVII вв. >6 Идейное движение в Твери XV в. во многом аналогично идеологической борьбе Новгорода с Москвой. Так же, как и в Новгороде, в Твери происходит возрождение местных исторических традиций. Так же, как и Новгород, Тверь стремится создать свое местное патриотическое движение, противостоящее Москве, пытается найти опору своим сепаратистским устремлениям в своем прошлом. В Твери, как и в Новгороде, усиленно восстанавливаются старые, еще домонгольские постройки и возрождаются исторические предания эпохи национальной независимости. Однако в отличие от Новгорода, ограничивавшего круг своих исторических интересов местными преданиями, Тверь вслед за Москвой возрождает общерусские исторические традиции Киева. Тверские книжники втечение всего XV в. неоднократно обращаются к литературным произведениям Киевской Руси, переделывая их, редактируя их, переписывая и заимствуя из них для собственных сочинений отдельные образы и целые отрывки. Тверская литература обращается к патриотическому воодушевлению «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона, к широте исторической мысли «Повести временных лет», к оказаниям о князьях Борисе и Глебе, чей культ на протяжении многих веков связывается с политическими идеалами общерусского единства, к произведениям Кирилла Туровского и Киево-Печерскому патерику, пересоставленному в Твери в начале XV в. в новой, так называемой Арсеньевской редакции. Вместе с тем, тверская литература усваивает московские литературные произведения конпа XIV — начала XV вв. и опирается на достижения московской исторической литературы. Вслед за Москвой, в Тверском княжестве — усиленно ведется летописная работа. В 1409 г. составляется свод, пропагандировавший идею единства «Тверской земли» и необходимости примирения тверских и кашинских князей — наследников тверского великого князя Михаила Александровича. В 1455 г. по приказанию тверского великого князя Бориса Александровича составляется «Летописец княжения тверского». Главное и преобладающее внимание уделено в нем тверским событиям и пропаганде идеи самодержавности тверского князя Михаила Александровича. Он — «от богосадного корени доброплодная отрасль», он — «храбрость показа многу и грады многы взем: покоривыися любовию, а непокоривыа мечем». В своем политическом развитии Тверь значительно опережала Новгород. Политическая борьба тверских великих князей с сепаратистскими стремлениями кашинских князей воспитала в Твери мысль о политических преимуществах сильного единодержавного правления. Тверской свод 1455 г. весь проникнут мыслью о необходимости крепкой княжеской власти, о необходимости прекращения феодальных раздоров. И в этом отношении Тверь не только следовала за Москвою, но в некоторых своих идеях опережала ее. Так, раньше чем в Москве, в Твери создается теория самодержавной власти великого князя. Пользуясь временной слабостью Москвы в годы междоусобной борьбы за московское великое княжение, Тверь стремится взять на себя роль защитницы общерусских интересов, а тверской князь пытается быть представителем в Западной Европе всей Русской земли, как ее глава. Эта идеология ярко отразилась в замечательном похвальном «Слове» инока Фомы тверскому князю Борису Александровичу. Историческую обстановку создания «Слова» отчетливо обрисовал академик Н. П. Лихачев в своем труде «Инока Фомы слово похвальное» (1908, стр. IX–X): «В половине XV столетия еще продолжалось давнее соперничество Москвы с Тверью. Идея о царстве и царском наследии коснулась и Тверской области. Был как-раз необыкновенно благоприятный момент. Москва раздирается усобицами, законный князь то в плену, то изгнан, потом ослеплен. Только помощью Твери утверждается он на прародительском столе, заключив союзный и брачный договоры. Во главе княжества Тверского стоит деятельный и талантливый человек [Борис Александрович]. Временное процветание Твери оживляет заглохшую былую славу. Даже послы великой „Шавруковой“ орды идут в Тверь и минуют Москву. Из Византии же приходят печальные вести; после морального падения на нечестивом латинском соборе распространяются слухи о постепенном утеснении Царьграда агарянами [турками. 29 мая 1453 г. Царьград пал, православная вселенская монархия кончилась. Есть у латинян цари, сильные царства, но не может благодатное наследие царя Константина перейти к впавшим в ересь. Только на одной Руси сияет православие; кому же в Русской земле принадлежит наследие царства?.. Не князь московский, а боговенчанный царь Борис Александрович тверской настоящий наследник Византийской империи и „второй Константин“, благоверный православный самодержец…». Такова главная мысль «Слова». «Слово» инока Фомы подчеркивает величие и славу «Тверской земли». Тверская земля — богоизбранная страна, «Новый Израиль»; ее князь — «второй Константин». Имя тверского князя Бориса Александровича славимо повсюду — «от Востока и до Запада и до самого царствующего града». Авторитет тверского князя стоит высоко среди европейских монархов. Иноземные цари возносят ему хвалу. Инок Фома восхваляет храбрость Бориса Александровича и «дерзость сынов Тферскых». Борис Александрович — государь и «защитник наш». Фома подчеркивает силу княжеской власти Бориса, его единодержавство и утверждает богоустановленный характер княжеской власти, что впоследствии настойчиво станут проводить московские книжники. Великий князь Борис Александрович называется в «Слове» царствующим самодержавным государем, что само по себе было решительной новостью в русской политической мысли того времени. Борис Александрович «царскым венцем увязася» и сравнивается с Августом, с Львом Премудрым, с царем Птоломеем Книголюбцем, с Константином Великим, с царем Феодосием. Фома превозносит строительную деятельность Бориса Александровича, устройство им нового Тверского кремля и называет его «новым Ярославом» (Мудрым), что уже само по себе должно было говорить о стремлении Бориса Александровича сосредоточить в своих руках объединение Руси. «Слово» Фомы недвусмысленно выражало идею единства Руси, идею необходимости сильной монархической власти, впервые по-новому названной «царской». Сами по себе эти мысли «Слова» были глубоко прогрессивны; свидетельствуя о вполне созревшей повсюду мысли о необходимости создания единого национального государства. Но Москва имела большие исторические права на возглавление этого государства. Вскоре спор о том, кому стоять во главе объединенной Руси, был решен военной рукой Москвы. Тверской князь нарушил мирный договор с великим князем московским и вступил в переговоры с Литвой. В 1485 г. Иван III осадил Тверь, тверские бояре перешли на службу к Ивану III, тверской князь бежал в Литву, а тверичи целовали крест Ивану III. >VII РОССИЯ И ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В XVI в. >С конца XV в. объединенное Русское государство становится лицом к лицу с Литвой, Польшей, Ливонией, Швецией, Турцией, Ираном. Москва завязывает непосредственные отношения с европейскими странами: Австрией, Венгрией, Венецией, Римом, Германией, Данией. Русское правительство вступает в различные союзы со странами Западной Европы; оно вызывает архитекторов, ремесленников, горноделов, оружейных мастеров, которые вместе с русскими участвуют в общем прсмышленном подъеме страны. Деятельные сношения Русского государства с другими странами вызывают рост национального чувства, чувства гордости за свою родину. Тверской купец Афанасий Никитин, на 25 лет раньше западно-европейских путешественников проникший в Индию (1466–1472) и составивший о ней обстоятельные и умные записки, повидав многие страны, писал: «Да сохранит Бог землю Русскую! боже, сохрани ее! в сем мире нет подобной ей земли. Да устроится земля Русская».158 Русских путешественников и дипломатов, ездивших в Западную Европу в конце XV и XVI вв., всегда отличала крепкая уверенность в себе, в своем достоинстве представителей России. Русские дипломаты умело пользуются своею историческою ученостью и создают сложную теорию власти московских государей, высоко поднимавшую авторитет русского монарха над остальными европейскими королями и правителями. Это была творческая политическая идеология, направлявшая политику Русского государства по пути защиты национальных интересов, национальной культуры в сложной среде европейской цивилизации. Такова ведущая линия отношений России к Западной Европе в XVI в. >1 Не только Россия была заинтересована в конце XV–XVI вв. в деятельных сношениях с европейскими странами. Сами западно-европейские государства наперерыв стремятся к союзу с могущественной страной на Востоке Европы. Необычайные военные успехи Турции во второй половине XV в. вселили ужас и смятение в среду европейских народов. В 1453 г. после двухмесячной ожесточенной осады пал Константинополь. В 1459 г. была завоевана Сербия и обращена в турецкий пашалык. В 1460 г. турки завоевали Афинское герцогство и вслед за ним всю Грецию. В 1462 г. они захватили Лесбос и Валахию, в 1463 г. — Боснию, в 1467 г. — Албанию, а затем Герцеговину. В 1476 г. турки опустошили Молдавию, а в 1479 г. заключили победоносный мир с Венецией и Неаполем. Расцвет турецкого могущества на Востоке совпал с ростом силы и международного престижа молодого Русского государства. Иван III деятельно сносится с западно-европейскими государствами, и западные властители усиленно стремятся польстить самолюбию восточного государя обещаниями королевского титула и признанием за ним прав на константинопольское наследство. Западно-европейские государства всячески стремятся вселить Ивану III мысли о владычестве на Востоке, столкнуть Москву с Турцией и тем самым сделать Русское государство послушным орудием своей политики. Одно из первых мест в этих завязавшихся сношениях Западной Европы с Москвою принадлежало папе. Маня и соблазняя Ивана III византийским наследством, римская курия стремилась вовлечь Москву в общеевропейский союз для борьбы с исламом. Именно для этого и был задуман в Риме брак Ивана III с Софией Палеолог — племянницей последнего византийского императора Константина VIII. В пути византийскую принцессу сопровождал легат папы. В Риме надеялись приобрести в супруге царевны не только нового союзника против Турции, но и, возможно, нового члена католической церкви. Вскоре после брака Ивана III и Софии Палеолог сениория Венеции, всегда точная и осторожная в своих решениях, писала Ивану III, что Византия «за прекращением императорского рода в мужском колене должна принадлежать вашему высочеству в силу вашего благополучнейшего брака».159 Но Иван III не был склонен к войне с турками. В 1495 г. в Константинополе появились московские послы, чтобы обеспечить русским купцам беспрепятственную торговлю с Турцией. Попытки соблазнить Москву константинопольским наследием и вовлечь Русское государство в войну с Турцией особенно усилились при Василии III. В 1519 г. магистр прусского ордена сообщал Василию III через своего посла Дитриха Шонберга о желании римского папы «наияснейшаго и непобедимейшаго царя всеа Русии короновать в христьянского царя»160 с тем только, чтобы Василий III принял участие в антитурецком союзе. В ходе переговоров Шонберг говорил о союзе против «християнского врага Турка, кой держит наследие царя всеа Русии».161 Однако московские бояре отвечали Шонбергу, что Василий «хочет вотчины своее земли Русские»,162 и не приняли во внимание «костянтинополскую отчину»,163 на которую указывал им Шонберг. Ни Иван III, ни Василий III, ни Иван IV не были склонны к войне с Турцией из-за византийского наследия. Властители Запада напрасно обольщали себя надеждой общего с Москвою крестового похода против ислама. В Москве иначе смотрели на константинопольское наследие и нисколько не заботились о земельных приобретениях в Турции. Грозный не дал ответа австрийскому императорскому посольству 1576 г. на предложение «цесарства греческого» и титула «всходного цесаря» (царя Востока); он не дал его, несмотря ка все свое ревнивое отношение к признанию своего царского титула на Западе. Несмотря на состоявшийся брак Ивана III с Софией Палеолог, расчеты папской курии на то, что московские государи отныне будут считать себя наследниками византийских императоров, не оправдались. Московские государи ни разу не заявили своих прав на императорский титул, несмотря на то, что германский император Максимилиан I сам называл Василия III императором, и ни разу не обнаружили притязаний наследовать права Софии Палеолог на Византию. Пересматривая многочисленные доказательства прав, которые предъявляли московские великие князья на царский титул, мы нигде не найдем ссылок на получение этих прав через брак Ивана III с Софией Палеолог. Обращаясь к восточным патриархам за утверждением царского титула, Иван IV говорит о своем родстве с византийскими императорами, но ни разу не вспоминает своей бабки Софии Палеолог. Не упоминает о родстве московских великих князей с византийскими императорами через Софию Палеолог и официальная литература Москвы XVI в. — «Сказание о князех Владимирских», повести о Мономаховых регалиях и дипломатическая переписка Москвы. Это молчание официальной литературы XVI в. о правах Московского престола, полученных через брак Ивана III с Софией, находит себе соответствие в той крайней нелюбви народа к Софии, о которой единогласно свидетельствуют летописи, Курбский, Берсень-Беклемишев и даже иностранец С. Герберштейн. В Москве склонны были видеть в Софии царственную сироту, нашедшую себе приют в могущественном государстве, а не могущественную наследницу держанных прав Империи. В Софийской II и Воскресенской летописях, после описания похода Ивана III на Угру, летописец поместил воззвание к потомкам хранить независимость своего отечества. Это воззвание заключалось явным намеком на отца Софии — Фому Палеолога и на его сыновей, один из которых (Андрей) дважды безрезультатно приезжал на Русь торговать правами византийских императоров: «О храбрии, мужественной сынове Русьстии! потщитеся сохранити свое отечество, Русьскую землю, от поганых; не пощадите своих голов, да не узрят очи ваши пленения, и грабленное святым церквем и домом вашим, и убиения чад ваших, ж поругания женам и дщерем вашим. Якоже пострадаша инии велиции славнии земли от Турков, еже Волгаре глаголю к рекомии Греци, и Трализонь, и Амория, и Арбанасы, и Хорваты, и Боша, и Манкуп, и Кафа и инии мнозии земли, иже не сташа мужественней пошбоша и отечьство свое изгубиша н землю и государьство, и скитаются по чюжим странам беднл во истинну и странни, и много плача и слез достойно, укоряема н повоошаеми и оплеваеми, яко не мужествензии… Тако ми бога видех своима очима грешнима великих государь, избегших от Турков со имением и скитающиеся яко странни и смерти у бога просящих яко мздовъздаяния от таковыя беды».164 Ясно, кажется, что «избегшие от турков» и «смерти у бога просящие» родственники византийских императоров не могли упрочить блеск русских государей и что не на родстве с ними основывалась величественная идеология Русского государства. >2 Идею «греческого наследия» внушали русскому правительству не только западные державы. Сами греки, часто приезжавшие на Русь после падения Константинополя, греческие церковные власти, обращавшиеся на Русь за материальной поддержкой, проводили в своих домогательствах ту же «греческую идею». Суть ее в общих чертах заключалась в том, что с гибелью императорской власти в Византии единственным защитником православия и греков остается московский великий князь, к которому и должны были перейти все права и обязанности императора второго Рима — Византии. Греки — турецкие послы всячески стремились расстроить мирные отношения русских с Турцией; так было при султане Селиме и Сулеймане Великолепном. Особенно известен был этой своей изменнической по отношению к Турции политикой турецкий посол, грек по происхождению, Скиндер. Русские требовали смены Скиндера, но греческая партия была сильна в Турции: Скиндер оставался на своем посту и сыграл исключительную роль в провале идеи союза, что подтвердилось после его смены в Москве в 1529 г. Максим Грек систематически проводил идею освобождения Греции военной силой Русского государства. Он побуждал великого князя тем, что «бог грекам от отеческих престол наследника покажет»,165 т. е. тою же мыслью о правах московских князей на константинопольское наследство. Не чужда была той же идеи и среда русского духовенства, издавна воспитанная в политических представлениях византинизма. Именно в этой среде, близкой к грекам, зрела с конца XV в. мистическая теория движущегося Рима. Эта теория, возникшая на почве византийской теории всемирной супрематии императора второго Рима (Византии), пыталась перенести на московских государей византийские представления об императорской власти и рассматривала великих князей московских как законных и единственных наследников императоров Вечного Рима. Суть этой теории сводилась к следующему: в мире существует только одно христианское богоизбранное государство, которое не может пасть до скончания века — Вечный Рим. Но Рим этой теории — не неподвижный Рим, связанный с определенной территорией. Первый Рим пал, уклонившись в нечестие, потеряв чистоту христианской религии; второй Рим — Византия, примкнув в Флорентийской унии к первому, был завоеван турками. Отсюда родилась мысль, что Вечный Рим живет в каком-то новом государстве, оставшемся верным православию. И его искали то в Твери,166 то в Новгороде и, наконец, в Москве, необычайно быстрый рост которой совпал по времени с гибелью Византии. Естественно, что вся всемирно-исключительная роль, которая отводилась в Византии императору второго Рима как защитнику церкви и главе всех христиан, переходила теперь, с падением второго Рима, к главе третьего Рима — великому князю московскому. Эту теорию неоднократно внушали Василию III представители церкви. Дважды ее изложил в своих посланиях к Василию III старец Елеазарова монастыря Филофей, который, соответственно обычному титулу византийских, императоров «святой», называет Василия III167 «освященная глава»168 и применяет к нему другие обычные титулы византийского императора: «браздодержатель святых божиих церквей», «святыя православныя христианскыя веры содержатель» и др. Видя в Василии III главу всех ромеев, Филофей пишет ему: «един ты во всей поднебесной христианом царь»;169 а в другом послании: «един [есть] православный русский царь во всей поднебесной». Еще резче идея всемирной власти великого князя московского выражена Максимом Греком. Василия III Максим Грек называет «благочестивейший царю не токмо Русии, но всея подсолнечный».170 Однако теория, предложенная Филофеем Василию III, была резко отлична от творческой политической теории, направлявшей меч великокняжеской власти. В противоположность наименованию московских великих князей «едиными государями во всей подсолнечной», официальная терминология точно и определенно называла их великими князьями (или царями) «всея Руси». «Блестящее марево всемирной власти», которое пытались открыть перед московскими государями в заманчивой дали сторонники теории «Москва — третий Рим», никогда не прельщало московское правительство, неуклонно стремившееся к единой близкой и конкретной цели воссоединения «всея Руси».171 Русские великие князья упорно настаивали на своих извечных правах на царство и не желали принимать свой царский авторитет из Византии, позорно утратившей свою независимость. Не по наследству, не по милости греков получили русские монархи царский титул. Русские князья «изначала государи на своей земле». Эти идеи проводятся во всех официальных документах XV–XVI вв. в дипломатической переписке, посланиях, завещаниях, официальных речах и соборных постановлениях. Не случайно Иван Грозный говорил Поссевину: «Мы верим не в греков, а в Христа; мы получили христианскую веру при начале христианской церкви, когда Андрей, брат апостола Петра, пришел в эти страны, чтобы пройти в Рим, таким образом мы на Москве приняли христианскую веру, в то же самое время как вы в Италии, и с тех пор доселе соблюдали ее ненарушимою».172 Официальная литература московского правительства осталась чужда теории третьего Рима, как осталась она чужда и идее византийского наследства через Софию Палеолог. Мечта о Москве — третьем Риме никогда не была движущей силой московской дипломатии. Недаром Максим Грек упрекал русских в том, что они только «своих си ищут, а не яже вышняго».173 Особенно резкие различия в воззрениях греков и русских на значение царской власти сказались в придворных обрядах, выражавших несходные представления о власти обеих стран. Русские великие князья не назывались «святыми», они не принимали участия в богослужении в качестве духовных лиц, они допускали, чтобы во время обряда венчания на царство рядом с ними сидел митрополит, а впоследствии патриарх. Между тем, в Византии императору троекратно возглашалось «свят» во время обряда венчания, он занимал определенное место в богослужении, как духовное лицо, и в качестве такового благословлял народ и кадил в церкви. Он считался выше патриарха, стоявшего при нем во время обряда венчания. В византийском обряде не было обмена речами между иерархом и монархом. Между тем, в русском обряде венчания митрополит (а впоследствии патриарх) и государь обменивались речами, содержание которых знаменательно: после возглашения клиром многолетия венчанному государю митрополит (или патриарх) поучали царя «о полезных» — об обязанностях царя к Богу, к церкви, к царской власти и по отношению к народу. >3 В течение всего XIV и XV вв. для всех русских людей прекращение татарской зависимости и крепкое противоборство татарам были заветным желанием. В договорных грамотах между собой и в княжеских завещаниях, начиная с Дмитрия Донского, постоянно читалось: «переменит бог Орду», или татар.174 Летописи свидетельствуют, что когда Иван III колебался в решимости бороться с Ахматом (1480), мать и дядя великого князя, митрополит и все бояре «молиша его великим молением, чтобы стоял крепко за православное христианство против бесерменству».175 Уничтожение Иваном III зависимости от татар было тем грандиозным и долгожданным событием, с которым связан рост политической теории Русского государства. Сознание собственного достоинства, независимости от какой-либо земной власти и равноправия всем великим державам мира глубоко проникает в дипломатическую практику и политическую теорию русской монархии. Именно после прекращения зависимости от Орды (1480), а не после брака с Софьей Палеолог, начинает Иван III употреблять титул царя в международных отношениях с Любеком, Нарвою, Ревелем и магистром Ливонии.176 Послу германского императора Николаю Поппелю, вторично явившемуся в Москву в 1489 г. с предложением королевского титула, Иван III велел ответить: «мы божиею милостью государи на своей земле изначала, от первых своих прародителей, а поставление имеем от бога, чтобы нам дал бог и нашим детям и до века в том быти, как есмя ныне государи на своей земле, а поставления, как есмя наперед сего не хотели ни от кого, так и ныне не хотим».177 Перед иностранными властителями предстал государь, полный сознанием достоинства своей страны. Именно с года прекращения татарской зависимости растет пышность церемониала московского, появляются новые придворные должности,178 новый посольский обряд. Растет и забота Ивана III о том, чтобы русские послы ни в чем не роняли достоинства Русского государства. Послы Ивана III Плещеев, Голохвостов, Кутузов держат себя при константинопольском дворе не по-азиатски, не становятся на колени перед султаном, и султан разрешает им вести себя так, в то время когда другие европейские послы вынуждены преклонять колена, подвергаются оскорблениям и побоям. Ревниво оберегая честь Русского государства, Иван III внимательно следит за полным равенством отношений с другими европейскими государствами и оказывает иноземным послам такой же прием, какой оказывался русским послам при дворах иноземных государей. Так создавался новый посольский обряд, основанный не на заимствованиях из Византии, а на дипломатической практике. Дипломатические отношения России с западно-европейскими государствами развивались в тесной связи с политической теорией Русского государства. Отсюда под влиянием живых потребностей государственного строительства создается теория исконного величия России и ее правящей династии. Московские дипломаты тонко учитывают ренессансный интерес Западной Европы к античности, сказавшийся не только в искусстве и литературе, но и в политике. Они создают теорию родства московских великих князей с императорами древнего Рима, теорию, подчеркнувшую древность и княжеского рода и управляемой им страны. Отсылая Юрия Грека послом к «цесарю», Иван III дал ему наказ, в случае, если от «цесаря» последует предложение выдать дочь Ивана III за племянника «цесаря», отвечать отказом, так как это не соответствовало достоинству московского государя: «во всех землях то ведомо, а надеемся, что и вам ведомо, что государь наш, великий государь, уроженый изначала от своих прародителей; а и наперед того от давних лет прародители его по изначальству были в приятельстве и любви с передними Римскими цари, которые Рим отдали папе, а сами царствовали в Византии».179 Историческая легитимация власти, долженствовавшая утвердить царское достоинство московских государей, была предпринята в весьма широких масштабах. При том же Иване III было предпринято и создание официальной родословной московских великих князей. Эта родословная, оформленная в «Сказание о князех Владимирских», представляет собою родословную роспись всех известных в истории царей и властодержцев. Она начинается с рассказа о разделе земли между потомками Ноя, продолжается перечнем великих властителей, центральное место в котором занимают сведения об императоре Августе, к которому в средние века и, в особенности, в начале эпохи Возрождения все европейские владетельные роды возводили свое происхождение. Чтобы высоко поднять авторитет московских великих князей, «Сказание» также говорит об их родстве императору Августу, через его брата Пруса, которого Август посадил управлять на побережье Вислы. По имени этого Пруса земля на Висле, как известно издревле населенная славянскими и литовскими племенами, стала называться «Прусская земля». Сюда к племени пруссов, по совету Гостомысла, пришли послы новгородцев искать себе князя. Здесь они нашли Рюрика «суще от рода римска цесаря Августа», положившего затем основу династии русских князей. Заканчивалось «Сказание» рассказом об отвоевании знаков царского достоинства Владимиром Всеволодовичем у Константина Мономаха. После победоносного похода Владимира Всеволодовича во Фракию, побежденный Константин Мономах прислал ему дары — крест «от самого животворящего древа, на нем же распятся владыка Христос», «венец царский», «крабицу сердоликову, из нее же Август кесар веселяшеся», ожерелье, «иже на плещу свою ношаше», и др. «И с того времени, — сообщало «Сказание», — князь великий Владимир Всеволодович наречеся Мономах, царь великие России. И оттоле и доныне тем царским венцом венчаются великие князи владимирские, егда ставятся на великое княжение российское».180 Итак, согласно «Сказанию», московские великие князья ведут свое происхождение от того же римского императора Августа, от которого вели свое происхождение и главнейшие европейские царствующие дома. Русские князья получили свое царское достоинство не по наследству из Византии после ее падения в 1453 г.: они — исконные «государи на своей земле», и их царское происхождение восходит еще ко временам античности. Царские регалии, всегда по праву принадлежавшие русским князьям, возвращены им Владимиром Мономахом силою оружия. Таким образом, эта теория всячески подчеркивала исконное, а не приносное со стороны право русских князей на царский титул, древнюсть и достоинство их рода. В отличие от теории «Москва — третий Рим», не вышедшей за пределы церковных кругов по преимуществу, фантастическая генеалогия русских князей и рассказ о происхождении царского достоинства великих князей от Владимира I и Владимира Мономаха имели широкое распространение в дипломатической практике XVI в. Успех этих идей развивается по мере того, как усложняются иностранные сношения России, по мере дипломатических встреч и посольств к иноземным государям, перед которыми московские великие князья никогда не хотели казаться худородными. Сведениями о родстве великих князей и о венчании Владимира Мономаха полны все официальные памятники XVI в.: Четьи-Минеи митрополита Макария (под 20 сентября), Степенная книга, Воскресенская летопись, Казанский летописец, Царственный летописец и т. д. Повесть о Мономаховых регалиях была вырезана на дверцах царского места в Успенском соборе (1551). Генеалогию русских князей переводят на латинский язык, явно предназначая ее для распространения заграницей. Ссылками на нее пестрят дипломатические памятники XVI в. >4 Были и особые причины, заставлявшие русское правительство с особенною настойчивостью возводить принятие царского титула ко временам Владимира I и Владимира Мономаха. Почти половина русских земель принадлежала в XVI в. Польско-Литовскому государству. Древнейшие русские города — Киев, Чернигов, Полоцк, Смоленск — находились вне русских пределов. Официальная правительственная теория Русского государства выросла в значительной мере из потребностей окончательного объединения Русского государства, присоединения к нему земель, когда-то принадлежавших «прародителям» московских государей — Владимиру I и Владимиру Мономаху. Согласно официальной правительственной теории XVI в., не признававшейся поляками, московские великие князья были наследниками киевских, а Москва выступала в ней наследницей Киева — «вторым Киевом». Под знаком этой борьбы за киевское наследство проходят все дипломатические отношения Русского государства с Польско-Литовским. Пропагандируя свои права на наследство Владимира Мономаха, московские великие князья требовали тем самым признания себя боговенчанными монархами «всея Руси», а следовательно, и тех исконно русских земель, которые находились еще под властью Польско-Литовского королевства. Этим объясняются настойчивость, с которой добивалась московская дипломатия признания русской правительственной теории, и упорство Польско-Литовского государства в отказе признать право московских великих князей на царский титул. Как видно из грамоты папы Сикста IV, написанной в 1484 г. польскому королю, в Польше серьезно опасались, чтобы папа не дал Ивану III титула императора или короля «всея России» («…Imperialem sive regalem dignitatem in, tota Ruthenica natione…»), что явилось бы санкцией на собирание московским государем русских земель.181 В грамоте 1493 г. к литовскому великому князю Александру Иван III впервые в своих сношениях с Литвою назвал себя государем «всея Русии» и велел своему послу Дмитрию Загряжскому титуловать себя так во всех речах к литовскому князю. В случае вопросов о том, почему Иван III титулует себя государем «всея Русии», когда ни он, ни кто-либо из его предков не именовали себя так в сношениях с Литвою, Загряжскому наказано было отвечать: «государь мой со мною так приказал, а кто хочет то ведати, и он поедь на Москву, там ему про то скажут».182 Во второй половине XVI в. уверенность московского правительства в праве на киевское наследство настолько возросла, что московским послам не приходилось более зазывать к себе на Москву иностранных дипломатов для объяснений. Отправляя в 1549 г. послов в Литву для присутствия при обряде крестного целования короля на перемирных грамотах, Иван Грозный наказал им передать королю: «милостию бога вседержителя и родитель наших благословением, на своем государстве царем есмя венчались прежде бывшим венчанием прародителя нашего царя и великого князя Владимера Мономаха».183 В следующем 1550 г., отправляя к королю посла Якова Остафьева, Иван IV дал ему подробный наказ. На вопрос короля о титуловании Остафьев должен был отвечать: «наш государь учинился на царстве по прежнему обычаю, как прародитель его великий князь Владимер Манамах венчан на царство Русское, коли ходил ратью на царя греческого Костянтина Манамаха, и царь Костянтин Манамах тогды прародителю государя нашего, великому князю Володимеру, добил челом и прислал к нему дары, венец царьский и диядиму, с митрополитом ефесским кир [господин] Неофитом, и иные дары многие царьские прислал, и на царство митрополит Неофит венчал, и от [того] времени царь и великий князь Владимер Манамах; и государя нашего ныне венчал на царство Русское тем же венцом отец его Макарей митрополит, занже ныне землею Русскою владеет государь наш один».184 В 1554 г. в наказе послам — боярину Василию Юрьевичу, казначею Федору Сукину и дьяку Ивану Бухарину — снова стояли требование признания царского титула и подробное обоснование этих требований в виде повести о Мономаховых регалиях. Еще раз в 1554 г., отправляя посольство к королю с извещением о завоевании Астраханского царства, Иван IV наказал напомнить королю, что мир между ними возможен только в случае признания его царского титула.185 Снова было наказано послу говорить, что предок царя, Владимир Мономах, венчался на царство, и царь венчался, следуя его примеру. Теория царского титула еще раз выступает в переговорах 1555 г.,186 затем в переговорах 1556 г.187 и т. д. Не было переговоров с Польско-Литовским государством, в которых не возник бы вопрос о царском титуловании, в которых русские не ссылались бы на родство своих государей с Августом кесарем и на царское венчание Владимира Мономаха. Споры по этому вопросу продолжались при Федоре Иоанновиче, Борисе Годунове, Василии Шуйском, Михаиле Федоровиче. В искусстве и литературе конца XV — начала XVI вв. мы найдем все те три составляющие элемента, которые определяли собою и творческую и политическую идеологию Русского государства: широкий учет западно-европейского окружения, подчинение целого в первую очередь общенациональным интересам и постепенное выявление народных начал русской культуры. >5 Идеология Русского государства, его внешняя и внутренняя политика отложились резким отпечатком на внешнем облике Москвы, отныне столичного города большого европейского государства. В своих заботах о внешнем благоустройстве Москвы, московские великие князья стремятся придать ей национальный облик, воплотить в ней национальные идеалы красоты. В отличие от первых строителей Киева, стремившихся соперничать с Константинополем, как в планировке, так и в устройстве отдельных зданий (София в Константинополе и в Киеве, Золотые ворота в Константинополе и в Киеве и др.), Москва организуется как русский город, его строительство учитывает по преимуществу русские традиции. Конец XV в. отмечен объединением соперничавших между собой русских архитектурных школ. Объединительной политике московских великих князей и объединительной политике московских летописцев, соединивших в грандиозных сводах областное русское летописание, соответствуют объединительные тенденции в области московского искусства. В грандиозней строительной деятельности Москвы приняли участие зодчие из Пскова, Новгорода, Твери, Владимиро-Суздальского княжества. Кроме зодчих русских строительных школ, Москва также приглашает зодчих наиболее передовой в архитектурном отношении страны тогдашней Европы — Италии. В Москву приезжает бостонский архитектор и военный инженер Аристотель Фиораванти, затем Антон Фрязин, два Алевиза, Марко Руффо, Пьетро Антонио, Солар, Вон Фрязин и др. В Москве сосредоточивается обширный круг архитекторов эпохи Возрождения. Все эти архитекторы работают по созданию Московского Кремля. Но планировка Кремля была основана не на итальянских, а на чисто русских архитектурных принципах. Ансамбль Кремля по-русски строился открыто во внешнее пространство на крутом берегу р. Москвы. Здания, построенные москвичами, итальянцами, псковичами, стояли рядом, играя контрастирующими формами, группируясь по живописному принципу, чуждому ренессансной ясности соотношений. Знаменательно, что и болонец Аристотель Фиораванти и миланец Алевиз Новый подпали в Москве под мощное влияние русского искусства и сохранили в своих постройках лишь немногие новые для Руси архитектурные приемы. Выстроенный Аристотелем Фиораванти в Московском Кремле Успенский собор (1475–1479) развивал формы предшествовавшей ему русской архитектуры. Прежде чем приступить к постройке Успенского собора, Аристотель совершил обширное путешествие, по русским городам; в Успенском кремлевском соборе сильно отразилось воздействие архитектуры Успенского собора во Владимире и Софии новгородской. Русские формы Успенского собора, связь их с формами владимирского Успенского собора и Софии новгородской не случайны. Иван III строил в Москве центральную святыню объединенного Русского государства. Успенский собор должен был символизировать собою русскую церковь вообще так же, как София константинопольская — греческую, как храм Воскресения: в Иерусалиме — иерусалимскую и т. д. Здесь в Успенском соборе хранилась главная святыня Русского государства — покровительница Москвы икона Владимирской Божьей Матери. Здесь в Успенском соборе происходило венчание на царство московских государей и хиротония епископов всех областей; здесь при гробе митрополита Петра произносилась епископская присяга, и т. д. Иосиф Волоцкий называет Успенский собор «земным небом, сияющим, как великое солнце посреди Русской земли».188 Митрополит Филипп говорит об Успенском соборе, что он, как солнце, сияет благочестием «в всех рускых землях».189 В таких же выражениях говорит об Успенском соборе старец Филофей в своем послании Василию III, и др. Построение нового Успенского собора было отмечено составлением в 1479 г. грандиозного летописного свода, как новая эра в русской истории. Свод этот подробно описывает в последних своих частях новгородский поход Ивана III и присоединение Новгорода; он заканчивался описанием торжественного открытия нового центра вселенского православия. Исходя из идеи Успенского собора как религиозного центра «всея Руси», создаются и все окружающие его постройки. Успенский собор обстраивается целым «кустом» церквей и зданий, в построении которых принимают участие различные архитектурные школы. На месте обветшалых укреплений Дмитрия Донского возводятся новые стены и башни Московского Кремля. Стены были построены по последнему слову фортификационного искусства, сделавшего в XV в. большой шаг вперед в связи с изобретением пороха и огнестрельного оружия. В XV — начале XVI вв. Московский Кремль был сильнейшей крепостью Европы, уступая лишь Миланскому замку, законченному в 1459 г. Своими неприступными укреплениями он как бы символизировал силу и мощь Русского государства. Пышное величие и церемониальная торжественность Московского Кремля находятся в неразрывной связи с идеями государственной власти времени Ивана III. Черты Московского Кремля отразились в стенах Нижегородского Кремля и в укреплениях Серпухова, Тулы, Зарайска в многих других русских городов. Москва, став политическим центром объединенных ею областей, распространяет свое влияние и на искусство периферии. Однако заботы об общем национальном русском облике Москвы этим не ограничились. Национальные задачи, которые стояли перед Русским государством, выставили перед архитектурой проблему переноса в каменное зодчество форм народного деревянного зодчества. Русская архитектура XVI в. идет по пути создания каменного шатрового храма. Простой образец такого храма заключался в деревянной церкви, в которой сплошь и рядом восьмигранный сруб увенчивался высокою кровлею с одной главой наверху. Этот новый тип каменного храма, заимствовавший свои формы из народного деревянного зодчества, постепенно усложняясь, достигает необыкновенной декоративности, отвечавшей народным вкусам. Первые опыты переноса форм деревянной архитектуры в каменную относятся еще к очень давнему времени. Их, повидимому, можно было указать и в домонгольской Руси. Они были и в старой Москве (церковь Ивана Лествичника с колоколами наверху, 1329), и в Новгороде (круглая, «яко столп», церковь в Хутыне, 1445), и в Александровской слободе и др. Однако только в XVI в. это проникновение в каменную архитектуру форм народного деревянного зодчества приобретает широкие размеры и идейную целеустремленность обращения к народным началам. Каменный шатровый храм Вознесения в селе Коломенском, относящийся к 1532 г., — в полной мере русская, народная во всех своих формах архитектура. Храм произвел на современников сильнейшее впечатление. Освящение его было отпраздновано Василием III необычайно торжественно. Летопись отметила его красоту и «величество»: «допрежь такой не было на Руси». Высшее достижение этого народного шатрового стиля XVI в. — собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве (1550–1560), выстроенный русскими зодчими Посником и Бармой, как памятник покорения Казани. Народные формы его архитектуры не были случайностью в строительной практике Русского государства. Иван IV строил собор, «сотворив совет благ» с инициатором ряда культурных начинаний XVI в. — митрополитом Макарием. Очевидно, авторитетное мнение последнего было решающим в принятии нового типа храма. Собор представляет собой группу из 9 «столпов», частью увенчанных шатрами, и рассчитан не столько на пластическое, сколько на чисто живописное впечатление, требовавшее от зодчих особенно тонкого художественного чутья. Храм Василия Блаженного — образец необыкновенной высоты русского строительного искусства, особенно если принять во внимание, что в эпоху его создания ни в России, ни на Западе не были еще известны основы математического расчета устойчивости архитектурных сооружений. Построению каменного собора Василия Блаженного предшествовала (за 9 месяцев) постройка деревянной церкви его на том же месте.190 На этой своеобразной «модели» практически проверялось, очевидно, общее художественное впечатление постройки, силуэт шатров и глав. Построение этой деревянной церкви, за 9 месяцев до заложения каменного храма, отчетливо доказывает гипотезу, выдвинутую еще И. Забелиным, о происхождении форм храма Василия Блаженного из народного деревянного зодчества.191 Итак, и в политике, и в литературе, и в искусстве XVI в. русские стремятся утвердить свое национальное содержание, свои национальные интересы. Россия снова вошла в среду европейских государств как равноправное государство. >VIII „ЗЕМЛЯ“-НАРОД И ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ НАЧАЛА XVII в. >Эпоха крестьянской войны и борьбы с польско-шведской интервенцией представляет собою одну из самых важных страниц русской истории по исключительной сложности и глубине влияния на всю последующую русскую жизнь. Борьба с самозванцами и польско-шведскими интервентами приняла общенародный характер и высоко подняла чувство гражданской ответственности каждого за судьбу родины. >1 Активное участие всего русского народа в обороне родины не раз спасало Русь перед лицом внешней опасности. В 1016 г. население Новгорода потребовало от Ярослава I Владимировича, продолжения борьбы с польским королем Болеславом и изменником Святополком. Новгородцы порубили ладьи, в которых Ярослав пытался бежать за море, и собрали деньги для организации нового войска. В 1068 г. отказ великого князя киевского Святослава раздать оружие населению для борьбы с половцами вызвал восстание киевлян. В 1382 г. покинутые своим князем жители Москвы сами организовали оборону своего города от войск Тохтамыша. Случаев, при которых народ активно брал в свои руки организацию обороны, — не мало, но только в период национальной борьбы начала XVII в. было осознано первостепенное значение народа. Значение народа и, в частности, крестьянства в общей жизни страны получило уже отчетливое отражение в публицистических сочинениях XVI в., поразительных своим широким и свободным обсуждением самых основ государственного устройства. Забота об облегчении тягот крестьянства видна в сочинениях монахов-«нестяжателей», в произведениях Максима Грека, в известной «Беседе Сергия и Германа Валаамских чудотворцев» и, в особенности, в исключительном по оригинальности взглядов сочинении середины XVI в. — «Благохотящим царем Правительница». Здесь с редкой последовательностью проводилась мысль о том, что земледельцы — основа государства, что жизнь страны, ее экономическое и военное могущество целиком зиждутся на труде мирных пахарей. Труд ратаев дает хлеб, который приносится жертвой Богу в таинстве Евхаристии и питает всех от царя и до простых людей. Автор «Правительницы» всячески подчеркивал, что именно земледелие и крестьянство являются в России основой государственного благосостояния. Поэтому следует облегчить крестьянский труд и сообразовать с интересами земледельцев государственное управление. Знаменательно, что многочисленные произведения конца XV–XVI вв. открыто высказываются против рабства, принижающего гражданские и воинские добродетели населения (Иван Пересветов), противоречащего основам христианского человеколюбия. Нередко в публицистических сочинениях XVI в. проводится мысль о естественном равенстве всех перед Богом. Широко задуманные и далеко идущие публицистические сочинения XVI в., ясно сознающие необходимость для государства свободного и граждански сознательного населения, во многих отношениях были общи западно-европейской политической философии XVI в. >2 Идеи публицистических сочинений XVI в. не были пустыми размышлениями досужих книжников: они отражали реальную силу демократических слоев народа, его возросшую гражданскую сознательность и политическую активность. Освободительная борьба начала XVII в. ясно обнаружила глубокое развитие во всех слоях населения чувства гражданского долга, сознание личной ответственности каждого за судьбу всей Русской земли в целом. Жители городов и сельское население — нижегородцы, смольняне, ярославцы, владимирцы, москвичи и т. д. — с готовностью соглашались на всякие личные жертвы ради спасения родины. В своем знаменитом приговоре нижегородцы писали: «Стоять за истину всем безызменно, к начальникам быть во всем послушными и покорливыми и не противиться им ни в чем, на жалованье ратным людям деньги давать, а денег не достанет — отбирать не только имущество, а и дворы и жен и детей закладывать, продавать, а ратным людям давать, чтобы ратным людям скудости не было». На этом нижегородцы дали Богу души свои. Поднятое в Нижнем национальное движение сплотило русских людей. В национальной борьбе начала XVII в. оформилась идея суверенных прав народа в организации своей государственности, всей политической жизни страны и в выборе монарха. В тревожных обстоятельствах борьбы с самозванщиной и польско-шведскими интервентами для врагов и своих становилось ясным, что только тот возьмет верх, кто будет иметь на своей стороне сочувствие большинства русского народа. Отсюда стремление интервентов во что бы то ни стало склонить народ на свою сторону, обмануть его ложными договорами, громкими обещаниями или самозванцами. Отсюда же исключительное значение идеологической борьбы с самозванщиной и интервенцией. Бесчисленные грамоты, послания, обращения, исторические сочинения, политические памфлеты, сказания разъясняют смысл происходящего. Речами поднимает Авраамий Палицын казаков на помощь ополчению. Речами поднимает Минин и протопоп Савва нижегородцев на общенародное дело борьбы с интервенцией. Города сносятся грамотами, призывают друг друга «стояти заодно», «ожить и умереть вместе». С призывом к восстанию обращаются к москвичам жители осажденного польскими интервентами Смоленска. Смольняне просили москвичей переписать их грамоту и послать ее в Новгород, в Вологду, в Нижний. Москвичи и сами писали всем русским городам, призывая итти на выручку столицы. Жители Устюга писали в Пермь, в Новгород, в Холмогоры, на Вычегду, в Сольвычегодск. Нижегородцы писали вологжанам, ярославцам и т. д. Грамоты патриарха Гермогена и троице-сергиевских старцев читались в церквах. Вся страна была охвачена единым патриотическим порывом. Народ ясно осознал себя главной силой в определении исторических судеб родины. В исторических произведениях первых годов XVII в., в бесчисленных грамотах, посланиях и приговорах, всё более и более утверждается мысль о том, что «хранитель» целости и независимости «Московского государства» — сам народ, а не бояре и цари. Мысль эта, встречаемая еще в летописи, только в исторических произведениях о событиях «всеконечного разорения» — «Смуты» первых лет XVII в. — получает законченное выражение. Понятие «земли» как верховной власти ясно выступает уже в «приговоре» 30 июня 1611 г., низводившем «правительство» (Трубецкого, Ляпунова и Заруцкого) в положение подчиненной исполнительной власти, ограниченной в своих действиях ратным советом «всей земли». «Правительство» получало за свой труд жалование и в его руководство были даны точные указания. Реальные разногласия и антагонизм классов, выяснившиеся в земском приговоре 30 июня и в последующих земских соборах начала XVII в., не умаляют значения самой проявившейся в них идеи «всей земли». Народ — разумная среда, через которую проявляется воля божья. «Земля» имеет право избрать не только временное управление, но и «помазанника божья» — царя. Мысль эта была решительною новостью в политической жизни Руси, где в бесчисленных династических спорах XI–XVI кв. прочно утвердилось представление о наследственной княжеской и царской власти. Всего несколько десятков лет назад Грозный жестоко издевался в своих грамотах над Стефаном Баторием, избранным на польский престол «по многомятежному человеческому хотению». В новых обстоятельствах начала XVII в. мысль об избрании царя «всею землею» уже не вызывала возражений во всех слоях общества. Значение воли народа как верховной силы в жизни «земли» ясно подчеркнуто даже в титулах новых деятелей. Пожарский носил титул «по избранию всех людей» или «по избранию всее земли Московского государства всяких чинов людей». Козьма Минин именовался «выборный человек всею землею». Вместо старой приказной власти, явилось выборное начало, явился выборный человек, действовавший от лица «всей земли». Насколько необходимым казалось одобрение «земли», показывает хотя бы то, что нижегородское ополчение еще на походе собирало выборных по городам, заботилось о соблюдении гласности и добивалось единодушия всей земли в своих общерусских начинаниях. Апрельская грамота Пожарского, отправленная по городам, приглашала поскорее прислать в Ярославль «изо всяких чинов людей человека по два». >3 Идея «всей земли» и сознание значения народа, демократических слоев населения в жизни государства резко отразились в общих концепциях московской историографии. Сознание исторической активности народа перерабатывало средневековые представления о силах, движущих историю. В исторические произведения начала XVII в. постепенно входит представление, что историческими судьбами Русской земли руководит не божественное предопределение, а сам народ. Это было огромным шагом вперед в исторических воззрениях начала XVII в. По обычным представлениям средневековья, скорая небесная кара постигала всякий грех. Исторические сочинения XI–XVI в. и русская летопись твердо держались той мысли, что всякое народное несчастье — нашествие врагов, голод, моровое поветрие и т. д. — было божественным наказанием за грехи людей, за их отступление от заветов религии. «Всеконечное разорение» первых лет XVII в. также рассматривалось авторами исторических сочинений о «Смуте», как казнь за грехи. Однако в определении этих грехов авторы начала XVII в. резко расходились со своими предшественниками, выражали новую точку зрения на исторический процесс. «Грехи» русских людей, вызвавшие самозванщину и интервенцию, с точки зрения авторов исторических работ начала XVII в., не были личными грехами отдельных людей, обычными нарушениями христианской нравственности. Внимание авторов привлекают грехи общественные, недостатки гражданственности и общественного самосознания. Благодаря этому, понятие «греха» как основной причины исторических несчастий переносилось из сферы идеальной в сферу реальную. «Грехи» становились реальными причинами общественных бедствий, и в этом авторы сочинений о «Смуте» приближались к новому историческому восприятию причинно-следственной связи событий. Большинство авторов, писавших о «Смуте», подробно останавливалось на тех общественных «грехах» русского общества, которые привели в начале XVII в. к установлению самозванщины и вторжению иноземцев, В описаниях этих «црехов» сказались те новые и повышенные требования, которые предъявило новое народное самосознание к гражданским добродетелям населения. В летописях XI–XVI вв. неоднократно выражались требования соблюдения национальных интересов. Но требования эти обычно были обращены к князьям, к духовенству, к боярам, к дружине. «Смута» впервые предъявила суровые требования к каждому члену общества без исключения. Сами по себе эти требования говорят о новом общественном идеале, воспитанном в годы жесточайшей национальной борьбы. Изобличая общественные пороки, приведшие к «всеконечному разорению», первые писатели о «Смуте» имели в виду повысить чувство гражданской ответственности населения. Дьяк Иван Тимофеев, составивший свой «Временник» около 1619 г., видит начало всех зол в нарушении коренных начал русской жизни и в усилившемся влиянии иноземцев. Правители преклоняли уши свои к «ложным шепотам», придавали значение доносам, вследствие чего люди были «страховиты», «изменчивы», «нестоятельны», «словопревратны», «по всему вертяхуся, яко коло [колесо]». Враги Руси воспользовались этой «превратностью» русских, чтобы наслать к ним «лжецарей». Один из главных общественных грехов русских заключался в том, что в наиболее важные исторические моменты они были безгласны, как рыбы. При всеобщем молчании и попустительстве Борис Годунов преступлением добился престола: «онемеша бо языки их и уста затвориша ото мзды; вся же чувства каша паче страхом ослабеша». Тимофеев особенно выделяет именно этот недостаток «мужественные крепости» — пассивное и раболепное «бессловесное молчание» перед сильными мира сего.192 Еще резче об этом недостатке гражданской смелости говорил в своем «Сказании» Авраамий Палицын. Он называет его — «всего мира безумным молчанием» и в этом «безумном молчании» видит основной общественный порок, повлекший за собой ослабление государства.193 Авторы единодушно говорят о недостатке согласия у русских. Из-за своего «несогласия» и гражданского «немужества», — пишет Тимофеев, — русские не только допустили убийство царевича Дмитрия, но затем «бессловесно» сносили мерзости и тгечестие ииославных. «Разность» эта придала крепость врагам Руси. Враги разорили ее и надругались над ее святынями.194 «Не чуждии земли нашей разорители, но мы сами ее потребители».195 В руках народа — его судьба. Как причину «Смуты», авторы выдвигают и социальную несправедливость, разорение бедных богатыми, взяточничество и неправосудие. Неправедно собранными богатствами не искупить греха: излишни заботы богатых о красоте церквей, если она создалась из граблений и посулов. Бог не принял этой жертвы, и неправедная церковная красота подверглась разграблению иноверных. Настоящий храм божий — сам народ: «Писано бо есть, яко „вы есте храм бога жива“… храм — не стены камяны и древяны, но народ верных…»,196 — говорит Авраамий Палщын, выражая характерную для своего времени мысль о единственной и абсолютной ценности народа. В самом народе — источник его бедствий и его освобождения от иноземного ига. В этом осознании значения народа в исторической жизни страны — пафос эпохи. Авраамий Палицын приводит многочисленные случаи мужественной борьбы русских с иноземными захватчиками. Живо и талантливо рассказывает он об освобождении Москвы и о героической защите Троице-Сергиевой лавры, давая в своем изложении многочисленные примеры народного героизма. Так, например, Авраамий Палицын рассказывает о том, как возмущенный изменой брата простой воин Даниил Селев заменил его собой в рядах бойцов и пал в бою. Таким образом, писатели первой четверти XVII в., изобличая общественные пороки, а с другой стороны, показывая героизм простых и малозаметных людей, создавали новые идеалы гражданского служения родине. Итак, эпоха национальной борьбы с самозванщиной и интервенцией отчетливо выдвинула значение народа («земли») в исторической жизни страны. Это значение народа сказалось непосредственно в ходе событий и было осознано исторически. >4 Насколько глубоко проникли в народ новые исторические представления, показывает «Новая повесть о преславном Российском государстве», написание которой отноштся либо к концу 1610 г., либо к самому началу 1611 г. Она сохранилась в единственном списке; ее автор — какой-то приказный — безвестен; название ее — позднейшее, приписанное чужою рукою сверху. Это прокламация, «подметное письмо», брошенное на улицах Москвы с призывом восстать и изгнать из Москвы гарнизон польских интервентов. «А сему бы есте письму верили без всякого су мнения», — обращается автор к москвичам. Он просит не «таить» его письмо, а распространять среди верных людей: «И кто сие письмо возмет и прочтет, и он бы его не таил, давал бы рассмотряючи и ведаючи своей братии православным христианом прочитати вкратце, который за православную веру умрети хотят, чтобы было ведомо, а не тайно». Изменникам, которые «со враги соединилися», — тем бы «есте отнюдь не сказывали и не давали прочитати».197 Письмо написано со страстной убежденностью, ясным, простым и народным языком, частью прозой, частью стихами.198 «Приидите, приидите православни. Сами видите, — обращается автор письма к москвичам, — какое гонение и утеснение воздвигалось на русских: «Всегда многим смертное посечение, Описав злодеяния польских интервентов, автор восклицает: «То ли вам не весть, Автор не жалеет слов для изобличения бояр-изменников и среди них боярина Салтыкова и думного дьяка Андронова. Но письмо — не простой призыв к восстанию. Оно подробно и разумно освещает создавшуюся в стране обстановку. Автор ставит в пример москвичам граждан осажденного Смоленска, мужеством своим прославивших себя не только в России, но и в Литве, и в Польше, и до самого Рима. «И хотят славне умрети, нежели бесчестне и горько жити».206 На краю государства смольняне храбро отбиваются от врагов, которые под Смоленском, как и здесь в Москве, «на сердцах наших стоят». Если бы не Смоленск, войско Сигизмунда давно было бы в Москве. Русские в Смоленске держат короля не за голову, не за руку, не за ногу, а за самое сердце его злонравное и жестокое. Как русские в Смоленске, так в Москве один против всех отбивается патриарх Гермоген. Как эпический герой, патриарх, «исполин безоружный», поражает врагов словом своим и движет народом, сам оставаясь непоколебимым и неодолимым препятствием для врагов. Если он умрет и народ сам не встанет на свою защиту, то погибнут государство и православие. Автор «письма» приводит своеобразную политическую философию. Восстание на врагов — это «подвиг» и «радение». Только вооруженное восстание может искупить грехи русских людей, за которые Вог покарал русских испытанием иноземного ига. Эта точка зрения исключительна по религиозной смелости. Автор говорит о том, что польские интервенты боятся восстания русских. Они действуют осторожно, стремясь прельстить русских ложным уважением к их святыням. Они стоят с мечом над головою русских людей, постепенно стягивая подкрепления; закрыли кремлевские ворота, оставив для русских только узкие двери, в которых стоит шум и визг, как будто бы давят мышей. Польские интервенты хотят властвовать в Москве, но не имеют достаточных сил. Между тем народ могуществен и велик, как море. В этом «великом и недержанном мори» боятся потонуть интервенты. Поэтому хитростью и лестью они сдерживают его возмущение: «Видя зде в мире колебание «Новая повесть о преславном Российском государстве» — одно из первых в русской литературе выступлений средних классов населения. Ее содержание знаменательно. Ни одно из литературных произведений, вышедших из посадской и приказной среды во второй половине XVII в., не заявляет с такой определенностью о силе и могуществе народного «моря». «Смута» произвела глубокие изменения в политических представлениях русского общества. В момент наибольшей опасности для Руси, когда, казалось, иноземцы прочно укрепились в Москве, когда от Русского государства сохранились лишь кое-какие «останки», когда, наконец, русские сознавали, что не было еще в мировой истории «таково наказания ни на едину монаршию, ниже на царства и княжения, еже случися над превысочайшею Россиею», — в этот момент «последние люди» поднялись на защиту родины. В политических потрясениях «великой разрухи» родилась твердая уверенность в силе народа, родились мысли о «земском деле», о «всей земле»; сознание верховного значения народа и его интересов в государственной жизни страны. Это новое политическое сознание, выросшее в ужасах «последнего разорения», когда низшие и средние классы сделали отчаянное усилие для спасения Руси, — явилось предвестием нового времени. >Комментарии id="c_1">1 Доклад на Съезде советских писателей 17 августа 1934 г. id="c_2">2 Изд. 3, Л., 1939, стр. 5. id="c_3">3 А. А. Шахматов. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908, стр. 226 и др. id="c_4">4 См. об этом: Д. И. Прозоровский. Новые разыскания о новгородских посадниках. СПб., 1892, стр. 3. id="c_5">5 Лаврентьевская летопись под 985 г. id="c_6">6 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 377. id="c_7">7 Там же, стр. 378. id="c_8">8 Всев. Миллер. Очерки русской народной словесности, т. II. 1910, стр. 1–31. id="c_9">9 Марков. Беломорские былины. М., 1901, №№ 50 и 80. id="c_10">10 Астахова. Былины Севера, т. I. М.-Л., 1938, № 15. id="c_11">11 А. В. Марков. Из истории русского былевого эпоса, вып. 1. 1905, стр. 30–66. id="c_12">12 Повесть временных лет под 1061 г. Мотив загадывания загадки с последующим убийством неудачного отгадчика и др. id="c_13">13 Здесь и далее, слова в цитатах, взятые в прямых скобках, принадлежат автору настоящей работы Д. С. Лихачеву. id="c_14">14 Провар — то количество меда, которое можно сварить за один раз, — очевидно несколько ведер. id="c_15">15 Ипатьевская летопись под 964 г. id="c_16">16 Шелковые ткани. id="c_17">17 Ипатьевская летопись под 970 г. id="c_18">18 Там же под 971 г. id="c_19">19 Там же под 1201 г. id="c_20">20 Лаврентьевская летопись под 945 г. id="c_21">21 Там же. id="c_22">22 См. его Historia V, 7. Migne SGr. 133 col., 569–581. id="c_23">23 Пл. Соколов. Русский архиерей из Византии. Киев, 1913, стр. 12–13. id="c_24">24 В. Г. Васильевский, Труды, т. I, стр. 304. id="c_25">25 Аналогично смотрел на болгар Василий Болгаробойца, отказавшийся видеть в них воюющую сторону и тысячами ослеплявший пленных болгар, как бунтовщиков. id="c_26">26 Мы не останавливаемся на спорной проблеме Охридского архиепископата, в данном случае для нас несущественной. См. об этом: М. Д. Приселков. Очерки по церковно-долитической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 1913, стр. 33 и сл. id="c_27">25 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 539 и сл. Мы пользуемся гипотетическим восстановлением свода у Шахматова. Однако к какому времени ни относить составление свода Ярослава и в каком объеме его ни восстанавливать, — общий характер свода от этого не меняется. id="c_28">28 М. Д. Приселков. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 1913, стр. 82. id="c_29">29 Там же, стр. 84. id="c_30">30 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940. стр. 26. id="c_31">31 М. Д. Приселков. Очерки…, стр. 82. id="c_32">32 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 553. id="c_33">33 Там же, стр. 556–557. id="c_34">34 Там же, стр. 562. id="c_35">35 Там же, стр. 577. id="c_36">36 Там же, стр. 546–547. id="c_37">37 Там же, стр. 578. id="c_38">38 Там же, стр. 542. id="c_39">39 Там же, стр. 550. id="c_40">40 Там же, стр. 547. id="c_41">41 Там же, стр. 563. id="c_42">42 Там же, стр. 564. id="c_43">43 Там же, стр. 583–584. id="c_44">44 Там же, стр. 583. id="c_45">45 Акад. Б. Д. Греков. Развитие исторических наук в СССР за 25 лет. Под знаменем марксизма, 1942, № 11–12. id="c_46">46 Памятники древне-русской церковно-учительной литературы, под ред. А. И. Пономарева, вып. I. СПб., 1894, стр. 59. id="c_47">47 Там же, стр. 59. id="c_48">48 С. П. Шевырев. История русской словесности, ч. 2. Изд. 2, М., 1860, стр. 26. id="c_49">49 Памятники…, стр. 63. id="c_50">50 Там же, стр. 62. id="c_51">51 И. Н. Жданов, Соч., т. I, стр. 80. id="c_52">52 Памятники. стр. 66. id="c_53">53 Общее оптимистическое жизнерадостное содержание «Слова», настроение торжества, повидимому, свидетельствуют о том, что «Слово» возникло до похода Владимира Ярославича 1043 г. id="c_54">54 М. Д. Приселков. Очерки…, стр. 66 и сл. id="c_55">55 А. А. Шахматов. Сборник статей в честь В. И. Ламанского, Ч. II. СПб., 1906, и рец. Шестакова, Журнал Мин. нар. просв., нов. серия, ч. XIII, 1908, январь. id="c_56">56 И. Н. Жданов, Соч., т. I, стр. 19. id="c_57">57 Памятники…, стр. 67. id="c_58">58 Там же. id="c_59">59 Там же, стр. 68 (исправляю в тексте опечатки издания. — Д. Л.). id="c_60">60 Там же, стр. 69. id="c_61">61 Там же, стр. 69. id="c_62">62 Там же, стр. 69–70. id="c_63">63 Там же, стр. 70. id="c_64">64 Там же. id="c_65">65 Там же, стр. 70. id="c_66">66 Там же. id="c_67">67 Там же, стр. 70. id="c_68">68 Там же. id="c_69">69 Там же, стр. 72. id="c_70">70 Там же, стр. 73. id="c_71">71 Там же, стр. 75. id="c_72">72 Там же, стр. 78. id="c_73">73 Первоначально считали, что «Слово» было направлено против иудейского учения. Мнение это опроверг акад. И. Н. Жданов (Соч., т. I, 1872; стр. 1–80). id="c_74">74 В. М. Истрин. Очерк истории древнерусской литературы; т. II. 1922, стр. 131. id="c_75">75 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 398 и сл. id="c_76">76 М. Д. Приселков. Очерки…, стр. 98. id="c_77">77 Памятники…, стр. 74. id="c_78">78 Там же. id="c_79">79 Д. В. Айналов и Е. Редин. Древние памятники искусства Киева, т. X. 1899, стр. 5. id="c_80">80 Памятники…, стр. 60. id="c_81">81 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 583. id="c_82">82 Памятники…, стр. 74. id="c_83">83 Д. В. Айналов и Е. Редин. Древние памятники…, т. X. 1899, стр. 39–40. id="c_84">84 Памятники…, стр. 65. id="c_85">85 Там же…, стр. 75. id="c_86">86 Памятники древней письменности, т. 81, стр. 25. См. об этом: Пл. Соколов. Русский архиерей из Византии. Киев, 1913, стр. 51. id="c_87">87 Акты и стар., I, № 78, стр. 128. id="c_88">88 См. выше в послании митрополита Феодосия 1464 г. id="c_89">89 Прибавления к творениям св. отец, т. II, стр. 255. id="c_90">90 Разыскания…, стр. 582. id="c_91">91 Акад. Н. К. Никольский. О древнерусском христианстве. Русская мысль, 1913, кн. 6, стр. 12. id="c_92">92 М. Д. Приселков. Борьба двух мировоззрений. Сб. «Россия и Запад», под ред. А. И. Заозерского. II, 1923. id="c_93">93 М. П. Петровский. Иларион, митрополит Киевский, и Доментиан, иеромонах хнландарский. Известия ОРЯС, 1908, кн. 4. id="c_94">94 История русской литературы, т. I. Изд. Инст. литер. Акад. Наук СССР, М.—Л., 1940, стр. 271 (гипотеза покойного В. Л. Комаровича). id="c_95">95 Лаврентьевская летопись под 1054 г. id="c_96">96 Ср. в «Слове о полку Игореве» — «земля незнаема» — половецкая степь. id="c_97">97 Лаврентьевская летопись под 1093 г. id="c_98">98 Там же, введение. id="c_99">99 Т. е. наваром из кислой травы, которым мылись в бане. id="c_100">100 Лаврентьевская летопись, введение. id="c_101">101 Там же под 992 г. id="c_102">102 Там же под 1097 г. id="c_103">103 Там же. id="c_104">104 Там же. id="c_105">105 Ипатьевская летопись под 1097 г. id="c_106">106 Лаврентьевекая летопись под 1097 г id="c_107">107 Там же. id="c_108">108 Там же. id="c_109">109 Там же под 1096 г. id="c_110">110 Там же под 1095 г. id="c_111">111 Акад. Б. Д. Греков. Киевская Русь. Изд. 3, M.-Л., 1939, стр. 277. id="c_112">112 Н. И. Брунов. К вопросу о самостоятельных чертах русской архитектуры X — ХII вв. Сб. «Русская архитектура», 1940. id="c_113">113 История русской литературы, т. I. Изд. Инст. литер. Акад. Наук СССР, М. — Л., 1941, стр. 212 и сл. id="c_114">114 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 44. id="c_115">115 Новгородская летопись по Синод. сп., изд. 1888 г., стр. 145. id="c_116">116 Там же, стр. 160. id="c_117">117 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 40. id="c_118">118 А. Е. Пресняков. Лекции по русской истории, т. I. 1938, стр. 239. id="c_119">119 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 64. id="c_120">120 А. А. Шахматов. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв., Л., 1938, стр. 131. id="c_121">121 Предлагаемая ниже характеристика черниговского летописца несколько расходится с построением истории русского летописания XII в. в работах А. А. Шахматова и М. Д. Приселкова. id="c_122">122 Ипатьевская летопись под 1185 г. id="c_123">123 Акад. А. С. Орлов. Слово о полку Игореве. Л., 1938, стр. 48. id="c_124">124 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXII, М.—Л., 1931, стр. 48. id="c_125">125 «Кощей» (от тюркского «кошчи») — конюх, обозный, раб, пленник. «Чага» (от арабского asaha) — невольница. «Ногата» и «резань» — древнерусские единицы. id="c_126">126 А. Рублев умер в 1427 или 1430 г., в возрасте около 60–70 лет. Следовательно, надо считать, что он родился в 60-х — 70-х годах XIV в. id="c_127">127 Н. Каринский. Русская надпись в люблинском тюремном костеле. Известия Археологической комиссии, вып. 55, Пгр., 1914; акад. А. Соболевский. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. Спб., 1910; он же. Русские фрески в старой Польше. М., 1916; F. Kopera. O malarstwie bizantyskiem w Polsce. Polski Muzeum, Z. VIII, Krakow. id="c_128">128 К. Иречек. История болгар. Одесса, 1878, стр. 984–986. id="c_129">129 И. Ягич. Исследования но русскому языку, т. I, стр. 396 и др. id="c_130">130 А. А. Шахматов. Общерусские летописные своды XIV и XV веков. Журнал Мин. нар. просв., 1900, т. IX, стр. 91. id="c_131">131 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 113 и сл. id="c_132">132 Датировка М. Д. Приселкова (там же, стр. 128 и сл.). id="c_133">133 См. об этом подробно: А. А. Шахматов. Общерусские летописные своды XIV и XV веков. Журнал Мин. нар. проев., 1901, т. XI, стр. 73–77. id="c_134">134 Характер этой перемены вскрыт В. Л. Комаровичем в главе «Московские летописи» II тома академической «Истории русской литературы». М.—Л., 1945. id="c_135">135 См.: Летописец Рогожский. Полное Собрание русских летописей [ПСРЛ], т. XV, изд. 2, вып. 1, 1922, стр. 144 и сл.; Симеоновская летопись. ПСРЛ, т. XVIII, 1913, стр. 131 и сл. id="c_136">136 Симеоновская летопись. ПСРЛ, т. XVIII, СПб., 1913, стр. 156. id="c_137">137 Там же, стр. 157. id="c_138">138 Там же, стр. 158. id="c_139">139 Там же, стр. 159. id="c_140">140 Проф. Н. Н. Воронин. Владимиро-суздальское наследие в русском зодчестве. Архитектура СССР, 1940, № 2; И. Грабарь. Андрей Рублев. Вопросы реставрации, вып. 1, стр. 65 и сл.; 0 росписях Успенского собора во Владимире, там же, стр. 22–33. id="c_141">141 Ср., например, в Симеоновской летописи, где татары названы половцами под 1378 г., а татарская степь — половецкой под 1380 г. и т. д. Ср. также Летописец Переяславля Суздальского, где печенеги и половцы неоднократно называются татарами. Очевидно, «Повесть временных лет» воспринималась современниками Донской битвы в сопоставлении с событиями этой современности. История Руси представлялась историей непрекращающихся войн со степными народами, войн за независимость. id="c_142">142 Ф. Буслаев. Рецензия на работу О. Миллера «Илья Муромец и богатырство Киевское». Журнал Мин. нар. просв., 1871, 4, стр. 217. id="c_143">143 А. Н. Веселовский. Из введения в историческую поэтику. Собр. соч., т. I, стр. 36–37. id="c_144">144 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 443. id="c_145">145 Ю. Н. Дмитриев. К истории новгородской архитектуры. Новгородский исторический сборник, вып. 2, Л., 1937. id="c_146">146 Новгородская IV летопись. ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, Л., 1925, стр. 444. id="c_147">147 Новгородская III летопись. Новгородские летописи, СПб., 1879, стр. 271. id="c_148">148 В. Яблонский. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб.1908, стр. 100. id="c_149">149 Памятники старинной русской литературы, издававшиеся Кушелевым-Безбородко, вып. 4, 1862, стр. 30. id="c_150">150 ПСРЛ, Т. IV, Ч. 1, вып. 2, Л., 1925 стр. 448. id="c_151">151 Там же, стр. 446. id="c_152">152 Там же, стр. 447. id="c_153">153 Там же, стр. 498. id="c_154">154 Там же, стр. 504. id="c_155">155 Там же, стр. 513. id="c_156">156 Софийская II летопись под 1471 г. id="c_157">157 См. подробнее: А. А. Шахматов. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв. Л., 1938, стр. 371 и др. id="c_158">158 Софийская II летопись под 1475 г. id="c_159">159 Проф. Успенский. Брак царя Ивана III. Исторический Вестник, 1887, № 12, стр. 689. Ср. также: О. Пирлинг. Россия и Восток, стр. 103, 166. id="c_160">160 Сборник импер. Русского исторического общества, т. 53, стр. 85 и сл. id="c_161">161 Там же, стр. 91. id="c_162">162 Там же, стр. 92. id="c_163">163 Там же, стр. 86. id="c_164">164 Софийская II летопись под 1481 г. id="c_165">165 Сочинения Максима Грека, 1889, «Слово» VII. id="c_166">166 Н. П. Лихачев. Инока Фомы слово похвальное о князе Борисе Александровиче! СПб., 1906. id="c_167">167 По мнению некоторых исследователей — Ивана IV. id="c_168">168 В. Малинин. Старец Елеазарова монастыря Филофей… Киев, 1901» стр. 547. id="c_169">169 Малинин, там же, Приложение, стр. 50. id="c_170">170 Православный собеседник, 1861, ч. II, стр. 297. id="c_171">171 Отличие теории Филофея от официальной идеологии московского правительства отмечает и В. Малинин. Он пишет о Филофее: «у него с большею полнотою и определенностью выступает теория мирового призвания России, как царства не только единственно православного, но и последнего, призванного существовать до конца вселенной. Отсюда в несколько ином обосновании выступает у него и теория царской власти» (Старец Елеазарова монастыря Филофей… 1901, стр. 616). id="c_172">172 Suppl. ad Historica Russiae Monumenta, p. 102. Цитирует Е. Голубинский. История русской церкви, т. I, ч. 1, стр. 8. Предание о посещении апостола Андрея попадает в XVI в. в Степенную книгу (I, 95–97) и другие. id="c_173">173 Сочинения Максима Грека, 1889, «Слово» VII. id="c_174">174 Собрание государственных грамот и договоров (СГГиД), т. I, стр. 71, 73, 78, 81, 84, 87, 89, 92, 98, 101, 103, 108, 111, 114, 117, 120, 122, 125,128, 131, 348, 158, 161, 164, 167, 180, 184, 197, 201, 205, 229. id="c_175">175 ПСРЛ, т. VI, стр. 20 и 224; т. VIII, стр. 206; Никоновская, т. VI, стр. 112. id="c_176">176 Памятники дипломатических сношений древней Руси с державами иностранными, т. I, стр. 46, 47, 59–61, 87, 96–93, 114. id="c_177">177 Там же, стр. 12. id="c_178">178 В 1495 г. при дворе Ивана III появились новые чины: казначея, постельничьего, ясельничего, и с 1496 г. — конюшего (М. П. Шереметьев. Список старинных бояр, дворецких, окольничьих и некоторых других придворных чинов. Др. Российская Вивлиофика, т. XX, изд. 2, стр. 8). id="c_179">179 Памятники дипломатических сношений…, т. I, стр. 17. id="c_180">180 И. Н. Жданов. Русский былевой эпос. Исследования и материалы, т. I–V, СПб., 1895. id="c_181">181 Theiner. Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, т. II, № 257. Romae, an. 1861. Цитирует: В. Савва. Московские цари и византийские-василевсы, 1901, стр. 274. id="c_182">182 Сборник импер. Русского исторического общества, т. 35, стр. 80–82 и др. id="c_183">183 Там же, т. 59, стр. 309 и сл. id="c_184">184 Там же, стр. 345. id="c_185">185 Там же, стр. 451. id="c_186">186 Там же, стр. 474 и сл. id="c_187">187 Там же, стр. 504 и сл.; стр. 519 и сл. id="c_188">188 Иосиф Волоцкий. Просветитель. Печати, изд. Казанск. духовн. акад.,л. 57. id="c_189">189 Русская историческая библиотека, т. VI, столб. 723. id="c_190">190 См. «Летописец Русский», изданный А. Н. Лебедевым (Чтения в Обществе истории и древностей российских, 1895, вып. 3), — известие о построении храма Покрова в октябре 7063 г. (1553) (стр. 31) и затем под июнем 7063 г. (1554): «Того же месяца благоверный и христолюбивый царь и великий государь велел заложит церковь камену Покров Пречистыя Богородицы о девяти верхах, которой был преже древян о Казанском взятии у Фроловских ворот» (стр. 36). id="c_191">191 И. Забелин. Черты самобытности в древнерусском зодчестве. id="c_192">192 Русская историческая библиотека, т. XIII, СПб., 1892, стр. 463 и сл. id="c_193">193 Там же, стр. 479. id="c_194">194 Там же, стр. 463 и сл. id="c_195">195 Там же, стр. 465. id="c_196">196 Там же, стр. 516–517. id="c_197">197 Там же, стр. 218. id="c_198">198 Стихотворная форма «Новой повести» до сих пор не была отмечена. id="c_199">199 Русская историческая библиотека, т. ХIII, стр. 200. id="c_200">200 Там же, стр. 210. id="c_201">201 Траве. id="c_202">202 Русская историческая библиотека, т. XIII, стр. 210. id="c_203">203 Слова, заключенные в скобки, очевидно, позднейшая разъясняющая вставка. id="c_204">204 Русская историческая библиотека, т. XIII, стр. 212. id="c_205">205 Там же, стр. 213. id="c_206">206 Там же, стр. 189. id="c_207">207 Там же, стр. 202. III ИДЕЯ ЕДИНСТВА РУСИ В ГОДЫ КНЯЖЕНИЯ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА >Одно из самых значительных явлений русской средневековой культуры — летописание. Политически острая летопись постоянно служила ориентиром в политической жизни городов, княжеств, областей. В летописи скрещивались вое важнейшие идейные течения Руси, в нее вносились наиболее важные документы (договоры, завещания князей, послания) и лучшие исторические литературные произведения. Возникнув во второй четверти XI в., при Ярославе Мудром, летописание сразу же достигает высоких ступеней развития. Древнейший Киевский свод Ярослава Мудрого и последующие Киево-Печерокие своды 1073 и 1093 гг. были, насколько возможно о них судить по сохранившимся в позднейших летописях фрагментам, произведениями государственного размаха и огромной идейной силы. >1 Попытка Ярослава создать вокруг Софии Киевской прочный оплот русского просвещения не удалась. Вслед за русским митрополитом Иларионом, Константинополь снова присылает митрополита — грека. Центр русского просвещения передвигается со второй половины XI в. в Киево-Печерский монастырь, где получали образование первые русские епископы и попы и где книжность и литература нашли себе до поры до времени надежное пристанище. Первая переработка Древнейшего Киевского свода была произведена около 1073 г. монахом Киево-Печерского монастыря Никоном, книжная деятельность которого оказалась особо отмеченной впоследствии в житии Феодосия. Никон был в свое время (в конце 1060-х годов) сослан в Тмутаракань. Отсюда в своде ряд тмутараканских известий и преданий: о поединке черкеса-касога Редеди с Мстиславом (эпизод этот упомянут в «Слове о полку Игореве»), о хозарской дани и др. Использование фольклора Причерноморья привело к переработке рассказа Древнейшего свода о крещении Руси. Никон ввел в свод так называемую «Корсунскую легенду», рассказывавшую о крещении Владимира не в Киеве, а в Корсуни (Херсонесе), в Крыму, в результате победы, одержанной им над греками.94 Настроение торжества по поводу водворения нового порядка и христианства, которое охватывало целиком Древнейший свод, сменяется у Никона в новых политических обстоятельствах второй половины XI в, тревогой за судьбу родины, раздираемой феодальными междоусобиями. Свои политические устремления Никон осторожно выразил, поместив в свод завещание Ярослава Мудрого (произведение, возможно, написанное не Ярославом). В нем Ярослав просит своих сыновей быть «в любви межю собой» и не погубить «землю отець своих и дед своих, иже налезоша трудомь своимь великымъ».95 Свод Никона был подвергнут основательной переработке в 1093 г. В атом своде окончательно оформилась центральная часть летописи в том ее виде, в каком она вошла впоследствии в «Повесть временных лет». Это и позволило исследователям летописания назвать свод 1093 г. «Начальным». Начальный свод проникнут тем же настроением тревоги за судьбу родины, что и предшествующий ему свод Никона. Междоусобия князей приняли к этому времени такой характер, что летописцу приходилось не только призывать к прекращению распрей, но обосновывать и само единство княжеского рода. О этой целью в свод внесена легенда о призвании трех братьев-варягов. Легенда эта заимствована, повидимому, из новгородской летописи, где живы были еще предания о приглашении наемных дружин варягов. Предания эти оказались трансформированы под воздействием эпических мотивов, сильно распространенных и на Западе и на Востоке, о трех братьях — основателях городов, и под влиянием ходячих средневековых легенд о происхождении правящей династии из иноземных государств. Замечательною особенностью Печерского Начального свода 1095 г. было использование для его составления Новгородской летописи. Киевское летописание становилось, таким образом, общерусским, не только по идее, но и по исполнению. В обстановке упадка Киевского государства Начальный свод вступил на путь идеализации старых времен и старых князей, которые как бы противопоставлялись и ставились в пример новым. Ратную доблесть и неутомимость в походах больше всего ценит летописец в первых русских князьях. На основании старых дружинных песен летописец вставил в свой свод известную характеристику Святослава — описал его суровый образ жизни, предприимчивость, подвижность и рыцарское прямодушие, с которым он предупреждал о. себе врагов, ввел его энергичные обращения к дружине перед битвами и т. д. Побуждая князей к активной политике против степи, летописец в полных трагизма и скорби словах повествует о хищных набегах половцев, разорявших Русскую землю, толпами уводивших в рабство население сел! и городов. Печальные, с осунувшимися лицами, с ногами в путах, гонимые «незнаемою страною»,96 мучимые жаждою и голодом пленники со слезами говорили друг другу: «аз бех сего города», «аз сея вси» (села). Летописец Начального свода принадлежал к тем «смысленным мужам», которые видели несчастье Русской земли в распрях князей, головой пробивавших себе дорогу к Киевскому столу, и не раз обращались к князьям с призывом: «почто вы распря имате межи собою, а погании [язычники — степные народы] губять Землю Русьскую».97 >2 Бесспорно одна из лучших русских летописей — «Повесть временных лет», составленная в 1110–1118 гг. В предшествующий созданию «Повести» период, на рубеже XI и XII вв., Киевская Русь испытывает на себе наиболее тяжкие удары кочевников, ставшие жесточайшим народным бедствием. Степные кочевники — половцы — делают отчаянную попытку прорвать оборонительную линию земляных валов, которыми Русь огородила с юга и юго-востока свои степные границы, и осесть в пределах Киевского государства. В 1096 г. половецкий хан Боняк чуть не ворвался в Киев, ограбил и разорил Печерский монастырь, когда монахи спали по кельям. Теснимая с севера половцами и печенегами, а с моря турецким флотом с Чахой во главе, союзная Киеву Византия была бессильна предотвратить грозившую ей самой опасность. В этот тяжелый период русской истории в Киевской Руси консолидируются силы, стремящиеся к решительному нажиму на степь. Подъем этот (совпадает с освободительным движением в Испании против господства мавров и с общим движением в Европе на Восток в отпор наступающим туркам, прервавшим европейскую торговлю с Азией. Русь, составлявшая левый фланг европейской обороны против напора кочевых и полукочевых народов, полукольцом охвативших Европу, объединяется под властью Владимира Мономаха и переходит от пассивной обороны к активному наступлению на степь. Степные походы Мономаха сбивают волну половецких набегов и спасают самую Византию от гибели. Именно в это время составляется замечательный памятник русского летописания — «Повесть временных лет», вся проникнутая единой мыслью о Русской земле, о ее защите, о необходимости единения перед лицом внешней опасности. «Повесть временных лет» одновременно завершает целый период киевского летописания и вместе с тем является основой всех последующих летописаний, начало которых она, обычно, составляет. История создания величайшего памятника русского летописания — «Повести временных лет» — чрезвычайно сложна и запутана. Здесь сказалась работа целых поколений русских книжников, сказались сложные искания исторической мысли, сложное мировоззрение, в котором боролись аскетические монашеские настроения с реальными запросами русской жизни. Многочисленные литературные источники устные и книжные, русские и иноземные, язык «Повести», то просторечный, близкий к разговорному, то книжный, пересыпанный славянизмами и грецизмами, легли в основу этого грандиозного творения. В создании «Повести» принимали участие две литературные школы — Киево-Печерская и Выдубецкая, по-разному понимавшие свои задачи, но удачно сложившие свои силы в произведении, отличающемся убедительной законченностью, цельностью архитектоники. В 1110 г. монах Печерского монастыря Нестор переработал Начальный свод 1095 г. К новому своду Нестор привлек византийский исторический материал — хронику Георгия Амартола и его продолжателя, затем компилятивный «Хронограф по великому изложению» и др. Нестор связал русскую историю с мировой, придал ей центральное значение. Программа летописца и его задачи точно сформулированы в самом названии «Повести»: «Се повести временных лет, откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуда Русская земля стала есть». Показать Русскую землю в ряду других европейских стран, доказать, что русский народ не без роду и племени, что он имеет свою историю, которой вправе гордиться, — такова замечательная по своему времени цель составителя «Повести». «Повесть временных лет» должна была напомнить князьям о славе и величии родины, о мудрой политике их предшественников и об исконном единстве Русской земли. Задача эта выполнена летописцем с необыкновенным тактом и художественным чутьем. Широкий замысел сообщил спокойствие и неторопливость рассказу летописца, целеустремленность и твердость его суждениям, художественное единство и монументальность всему произведению в целом. Начало «Повести временных лет» посвящено событиям всемирной истории, предшествующим сложению Киевского государства. Летописец вводит Русь на мировую историческую арену, сообщая самые разнообразные сведения — географические, этнографические, культурно-исторические. Неторопливо раскрывает летописец ту историческую обстановку, в которой родилось Русское государство, рассказывает сперва о народах мира, затем о древнейших судьбах славянского племени и «словенского» языка. Просто и наглядно дает летописец географическое описание Руси, путей, связывающих ее с другими странами, с замечательной последовательностью начиная свое описание с водораздела рек Днепра, Западной Двины, Волги. Далее летописец описывает древнейший быт русских племен, рассматривая их как единый народ, и не забывает при этом упомянуть о соседящих с ними мере, черемисах, муроме и мордве. Летописец обращает внимание на происхождение русского языка, как на главный признак русской народности. Он выступает первым в русской истории и в истории славянства вообще защитником идеи общеславянского единства: «бе бо един язык Словеньск; а Словеньск язык и Русьскыи един есть…, аще и поляне зъвахуся, но Словеньска речь бе; полями же прозъвашася, зане в поли седяху, а язык Словеньск бысть им един».98 Чтобы придать особую значительность христианскому просвещению на Руси, составитель «Повести» включил в нее легенду о путешествии апостола Андрея через Русскую землю. Андрей благословил Киевские горы, а в Новгороде посмеялся банному обычаю: «како ся мыють и хвощются [хлещутся] младыми прутьями» и обливаются «квасом уснияным».99 «И того ся добьють, егда влезуть ли живи и облеются водою студеною и тако оживуть. И то творять мовение себе, — прибавляет Андрей, — а не мучение».100 В этом сочетании торжественного с комическим проявился подлинный художественный Темперамент летописца, не боящегося заставить апостола произносить каламбуры. Собственно русскую историю летописец дополнил договорами русских с греками, взятыми им из княжеского архива, включил легенду о сожжении Ольгой Искоростеня, о белгородском киселе и др. Обильно отразились в «Повести» произведения устного народного творчества. С русскими былинами роднит «Повесть» главным образом основная, общая им тема — оборона Русской земли от восточных кочевников. Так же, как и русские былины, летописец воспевает богатырство, силу, доблесть и подвиги русских воинов. Поединщики-богатыри по-былинному решают в летописи исход войны единоборством перед войсками. Один из редких подвигов былинного характера отразился в летописном рассказе о поединке юноши-кожемяки с печенежским богатырем перед лицом двух войск — русского и печенежского. Летопись рассказывает, как русские, вызванные на единоборство, тщетно искали поединпщка, который смог бы противостать печенежскому богатырю, как затем начал «тужить» князь Владимир и как, наконец, объявился некий старый муж я сказал Владимиру: «Князь, есть у меня один сын — меньшой — дома; с четырьмя вышел я сюда, а тот дома остался. Из детства никто еще не мог его победить: однажды я его журил, а он мял кожу, так в сердцах он разорвал ее руками». Услышав это, князь Владимир обрадовался и послал за младшим сыном старика, кожемякой. Приведенный к князю, неказистый на вид, юноша просит предварительно испытать его и привести ему большого и сильного быка. Быка привели, раздразнили его горячим железом и пустили бежать. Когда бык бежал мимо, юноша-кожемяка схватил быка рукой за бок и вырвал ему кусок кожи с мясом. Видя это, Владимир разрешил юноше бороться с печенежским богатырем. На следующее утро печенеги выпустили своего превеликого и страшного богатыря, а русские — своего. Увидел его печенежин и посмеялся, потому что русский богатырь был мал ростом. Полки размерили место для поединка, и богатыри сошлись. Юноша-кожемяка так сильно сжал печенежина руками, что удавил его и бросил его на землю. Раздался крик в полках, и устрашенные печенеги бежали. Обрадованный Владимир заложил на месте поединка город, а скромного кожемяку сделал «великим мужем».101 В этом рассказе «Повести» впервые отразилась мысль, ставшая затем излюбленным мотивом русской литературы вплоть до наших дней, о скромности настоящего героизма, о силе народного духа в незаметных внешне героях (Пушкин, Лермонтов, Л. Толстой, Достоевский и др.). Невысокий ростом ремесленник, пятый сын своего отца, которого даже не берут в поход, а оставляют дома, побеждает превеликого и страшного богатыря-печенежина, против которого не решался выйти никто из профессионалов-воинов. Спустя короткий срок, в 1116 г., потребовалась новая переработка летописи. Причина, побудившая к этой переработке, заключалась в том, что «Повесть», торжественная и патетичная вначале, не давала ответов на вопросы современной ей политики в известиях, касавшихся княжения Владимира Мономаха. На этот раз летописание было перенесено по воле Мономаха в Выдубецкий Михайловский монастырь, державшийся политической ориентации Мономаха. Сторонник Мономаха — игумен Сильвестр — особенно придирчиво переработал последние летописные статьи с 1093 г. по 1110 г., идеализировал Мономаха за его походы на половцев, за властную политику, за ум, за смелость и заботу об общенародных интересах. Сильвестр не скупится приводить программные речи Мономаха, в которых последний призывал к единству Руси, к твердому отпору наступающей степи: «Почто губим Русьскую Землю, сами на ся котору деюще, а Половци землю нашу несуть розно и ради суть, иже межю нами рати; да ноне отселе имемся в едино сердце и блюдем Рускые земли».102 C сочувствием передает Сильвестр возражения Мономаха дружине, не хотевшей итти в поход на степь, чтобы не губить по весенней распутице лошадей смердов: «дивно ми, дружино, — говорит им Мономах, — оже лошадий жалуете, ею же кто ореть [пашет]; а сего чему не промыслите, оже то начнеть орати [пахать] смерд, и приехав половчин ударить и [его] стрелою, а лошадь его поиметь, а в село его ехав иметь жену его и дети его, и все его именье. То лошади жаль, а самого не жаль ли».103 С тою же целью возвеличения общенародных устремлений Мономаха введен в «Повесть» драматичный рассказ попа Василия об ослеплении в междоусобной борьбе с родичами князя Василька Теребовльского. Множество бытовых подробностей и реалий делает этот рассказ одним из самых живых в летописи киевского периода. С потрясающей силой развертывает рассказ Василия картину феодальных раздоров. Подробно и не торопясь повествует поп Василий, как заманили Василька на именины, как постепенно оставили ею одного в комнате, как схватили и везли затем на телеге в Белгород, где бросили в «истобку [избу] малу». Оглядевшись Василько догадался, что хотят с ним сделать, стал кричать и плакать. Вошли конюхи, разостлали ковер и хотели повалить на него Василька. Василько отчаянно отбивался. Конюхи позвали подмогу. Василька схватили и связали, а затем сняли с печи доску, положили ему на грудь и сели по концам. Но Василько и тут сопротивлялся так отчаянно, что сняли с печи и вторую доску и придавили ею «яко персем троскотати [трещать]». Кончив точить, нож, овчарь Святополка подошел и ударил им в глаз Василька, но сначала промахнулся и перерезал ему лицо: «И есть рана та Василька и ныне».104 «По семь же вверте ему ножь в зеницю и изя зеницю, по сем в другое око въврьте ножь и изя другую зеницю».105 Ослепленного, едва живого Василька снова взвалили на телегу я повезли во Владимир Волынский. Трогателен путевой эпизод с окровавленной сорочкой Василька, которую ослепители, остановясь для обеда в Воздвиженске, дали постирать попадье. «Сего не бывало есть в Русьскей земьли ни при дедех наших, ни при отцих наших, сякого зла»,106 — сказал ужаснувшийся при известии об ослеплении Василька Владимир Мономах и послан за Давидом и Олегом Святославичами сказать: «поидета к Городцю, да поправим сего зла, еже ся створи се в Русьскей земьли и в нас, в братьи, оже ввержен в ны ножь: да аще сего не правим, то болшее зло встанеть в нас, и начнетъ брат брата закалати, и погыбнетъ земля Руская, и врази наши, половци, пришедше возмуть земьлю Русьскую».107 Сознание необходимости единения перед лицом внешней опасности, возмущение моральной низостью современных летописцу русских князей, их раздорами, составляют основную мысль летописи в описании феодального разброда конца XI в. Не было «сякого зла» в Русской земле, не такие были русские князья в прежние времена, не разоряли они населения поборами, обороняли Русскую землю, советовались во всем со своей дружиной, в ладьях на холстинных парусах ходили на самую Византию, гнушались золотом и паволоками, любя одно оружие. «Отци ваши и деди ваши трудом великим и храбрьством, побарающе по Русьской земли, ины земли приискываху, а вы хочете погубити землю Русьскую»,108 — в этом обращении к русским князьям в 1097 г. ключ к историческим воззрениям на события своего времени составителя «Повести временных лет». Есть и сейчас князья, подобные древнему Святославу — это Владимир Мономах; его держитесь, как бы хочет сказать выдубецкий летописец. Своим призывом на борьбу со степью, к прекращению междоусобий и к сплочению вокруг Владимира Мономаха выдубецкий летописец внес последний штрих в «Повесть временных лет», сделав ее цельным и законченным произведением, отразившим глубокое понимание национальных задач и точно отвечавшим политическим запросам своего времени. Впоследствии, когда составлялись новые летописи, «Повесть временных лет» всегда переписывалась в их начале. «Повесть» как бы служила политическим введением к разного рода городским, княжеским, митрополичьим летописям и идеи ее (идеи защиты родины) резко отражались в последующем летописании. В тяжкие годы татаро-монгольского ига бесчисленные списки «Повести временных лет», открывавшие собою местные, городские и княжеские летописи, напоминали русскому народу о временах его независимости, о былом могуществе его родины, о необходимости объединения для борьбы о грозным степным врагом. Призывы «Повести» к борьбе со степными кочевниками — половцами — воспринимались в те годы как призывы к борьбе с татарами и сыграли значительную роль в пропаганде идеи свержения татаро-монгольского ига на Руси. Такова была замечательная русская летопись, созданная по повелению Владимира Мономаха. >3 Богатое разнообразными литературными фактами время Владимира ярче всего характеризуется произведениями самого Мономаха— талантливого и начитанного писателя. Сохранившееся в единственном списке Лаврентьевской летописи 1377 г. «Поучение» Мономаха (в испорченном состоянии) распадается на два произведения: «грамотицу» Мономаха к своим детям («поучение» в собственном смысле этого слова)и послание Мономаха к князю Олегу Святославичу черниговскому, в котором он оплакивает своего сына Изяслава, убитого в 1096 г. под Муромом в сражении с войсками этого Олега, и просит отпустить захваченную им сноху — вдову Изяслава. Идеологическое содержание «Поучения» Мономаха не ограничивается призывом сыновей и всех, «кто прочтет» его «Поучение», к единению, к прекращению междоусобий, к соблюдению общенациональных интересов. Идея борьбы с братоубийственными междоусобиями заключена была еще в завещании Ярослава I: «имейте в себе любовь, понеже вы есте братья единого отца |и матере». Мономах дает в автобиографической части своего «Поучения» образ мужественного, деятельного, смелого, неутомимого правителя, горячего печаловника о Русской земле, который «ночь и день, на зною и на зиме, не дал себе упокоя». Мономах приглашает заботиться о смерде, о челяди, о «хрестьяных душах» и «убогих вдовицах», призывает к строгому соблюдению крестных целований, осуждает междоусобия и особенно пользование военной помощью чужеземцев, поляков и половцев, которых наводили князья на Русскую землю для решения своих династических споров. «Не вдавайте сильным погубити человека», — пишет Мономах в «Поучении» и, вместе с тем, приглашает не лениться в учении, не лениться в дому своем и на молитве, не лениться «на войне и на ловех». «На войну вышед, не ленитеся, не зрите на воеводы; ни питью, ни еденью не лагодите [не предавайтесь], ни спанью; и стороже сами наряживайте, и ночь, отвсюду нарядивше около вои, тоже лязите, а рано встанете; а оружья не снимайте с себе вборзе, не разглядавше ленощами, внезапу бо человек погыбает».109 Таков своеобразный воинский устав Мономаха. Политическая программа Мономаха находит себе объяснение в событиях его времени. Мономах в общенародных интересах энергично стремился к смягчению феодальной эксплоатации, достигшей в конце XI в. чрезвычайно жестких форм, к установлению на Руси твердой и единой великокняжеской власти и к активному наступлению на степь. Свой образ князя-патриота Мономах дополнил личным примером. Мономах описывает в «Поучении» свои «пути» и «ловы», т. е. военные и охотничьи подвиги, всюду, наряду с христианским идеалом воздержания от греха, молитвой, уважением к старшим и духовным лицам, проповедуя идею деятельной, жизни, неустанного труда на пользу родины, отваги и энергичной защиты интересов своего народа. «А из Чернигова до Киева нестишь [около 100 раз] ездих ко отцю, днем есмь переездил до вечерни; а всех путий [походов] 80 и 3 великих, а прока [прочих] не испомню меньших. И миров есм створил с половечьскыми князи без единого 20… А се тружахъся ловы дея… конь диких своима рукама связал есмь в пущах 10 и 20… Тура мя 2 метала на розех и с конем, олень мя один бол… вепрь ми на бедре мечь оттял… лютый зверь скочил ко мне на бедры и конь со мною поверже…».110 Реальным изображением княжеского поведения — походов, сражений, охот, заключений договоров, каждодневного, неустанного соблюдения народных интересов и т. д. — Мономах дополнил свои патриотические наставления, дал нарочитый образец для подражания. Мономах не стремился составить в своем поучении законченную автобиографию или законченный автопортрет, а передавал лишь цепь примеров из своей жизни, которые он считал поучительными и в которых постоянно акцентируется им общественно-идейная сторона. В этом уменье выбрать из своей жизни то, что представляло не личный, а гражданский, общенациональный интерес, заключается замечательное своеобразие автобиографии Мономаха, резко противоположной эгоцентрической автобиографий протопопа Аввакума или автобиографическим отрывкам в переписке Курбского с Грозным — двум другим автобиографическим произведениям в древней русской литературе. Образ Мономаха выступает в «Поучении» как бы помимо его воли, чем достигает особенной художественной убедительности. «Поучение» Мономаха давало жизненный идеал князя-патриота, администратора, хозяина, воина, отвечало на конкретные запросы русской жизни. Можно предполагать, что «Поучение» имело значительный резонанс в русской действительности. Не случайно Владимир Мономах был впоследствии идеализирован русской летописью. >4 Времени Мономаха принадлежит первое из дошедших описаний паломничеств — «Хождение» Даниила, также отразившее патриотические идеи эпохи. Средневековые паломничества в «святую землю» имели существенное познавательное значение, способствовали международному обмену культурными ценностями, приучали к терпимости и, вместе с тем, развивали в паломниках здоровое национальное чувство. Замечательною чертою Даниила является отсутствие в нем каких бы то ни было узко местных тенденций. Всюду, куда он ни попадает, он чувствует себя представителем всей Русской земли в целом. Он называет себя «русские земли игуменом», у гроба Господня ставит «кандило» «от всея русьскые земли», отличается терпимостью к чуждым верованиям (латинству и магометанству) и умеет всюду внушить к себе уважение, не вмешиваясь в распри сарацин и крестоносцев. Даниил свел — знакомство со «старейшиной срацинъским» и иерусалимским королем Балдуином I, Фландрским (1110–1118) и побывал там, куда не пускали других. Наши представления о литературе времени Мономаха далеко неполны, но и то, что мы знаем, свидетельствует о тех широких и разнообразных путях, на которые вступила в это время культура Киевского государства, черпавшая свои идейные силы в защите общенародных интересов, в идее единения перед лицом внешней опасности. В литературе этою периода нет той стройности и торжественности, которая была в литературных произведениях времени Ярослава, но она ближе к русской жизни, она разнообразнее, как разнообразнее были и запросы эпохи, она неспокойна и тревожна, как тревожны были события того времени. >IV КУЛЬТУРА И НАРОД НАКАНУНЕ ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ >Начавшийся с конца XI в. распад Киевского государства был связан с ростом его отдельных частей, с развитием производительных сил на местах, с образованием новых областных центров, городов, с подъемом активности городских масс населения. Этот процесс политического дробления Киевского государства и роста областных центров имел первостепенное значение в интенсивном культурном развитии Руси XII и начала XIII вв. Русская культура, которая в эпоху расцвета «империи Рюриковичей» была по преимуществу культурой Киева, с конца XI в. дробится и концентрируется вокруг многочисленных культурных областных гнезд: Новгорода, Чернигова, Полоцка, Смоленска, Владимира-Волынского, Галича, Ростова, Суздаля, Владимира Залесского и др. Все эти областные центры обнаруживают с конца XI в. решительное стремление к политической самостоятельности и культурному отъединению. «Каждая из обособившихся земель обращается в целую политическую систему, со своей собственной иерархией землевладельцев (князей и бояр), находящихся в сложных взаимных отношениях. Эти разрозненные ячейки, все больше замыкаясь в тесном пространстве своих узких интересов по сравнению с недавним большим размахом международной политической жизни Киевского государства, заметно мельчали. Однако внутренняя жизнь этих политически разрозненных миров текла интенсивно и подготовила базу для образования новых государств в восточной Европе и самого крупного из них — Московского».111 Это образование отдельных местных и областных культур с их своеобразными, индивидуальными чертами было связано с другой характерной чертой культурного развития XII–XIII вв. — интенсивным влиянием на утонченную культуру верхов русского общества многовековой местной народной культуры, восходящей своими корнями к древней культуре скифов и антов, издавна введенной в сферу влияния античности. Эти местные народные черты могут быть без труда вскрыты еще в первых произведениях каменного зодчества Руси,112 в ее книжности113 и в прикладном искусстве. С конца же XI в. и на протяжении XII и начала XIII вв. киевская культура испытывает особенно существенное изменение под воздействием местной народной культуры и сама широко распространяется в городских и сельских слоях населения. На почве этого взаимопроникновения создается новая высшая культура Руси XII в., тесно связанная с народом, местными традициями и государством. Канун татарско-монгольского нашествия был периодом чрезвычайно значительной, но подспудной, внутренней работы, чреватой величайшими последствиями. Мало заметная вначале, эта работа приводит к ощутимым результатам уже со второй половины XII в., когда, в противовес общей децентрализации русской жизни, начинают сказываться и обратные идейные стремления к объединению князей, княжеств, — гораздо раньше, чем аналогичные тенденции возникли на Западе. >1 Личное летописание Мономаха, выдубецкую переработку «Повести временных лет», продолжает его старший сын Мстислав, внук по матери последнего англо-саксонского короля Гаральда. Именно Мстиславу адресовал Мономах свое знаменитое «Поучение» к детям. Мстислав воспринял его, точно следуя отцовским заветам и в своей политической деятельности и в заботах о книжности и летописании. Подобно своему отцу, Мстислав заботился о продолжении летописания и сам был, повидимому, незаурядным писателем.114 Летописание Мстислава имело огромное значение для всего последующего развития летописного дела на Руси. Выполненный по его указанию и при его участии летописный свод (так называемая 3-я редакция «Повести временных лет») лег в начало летописания Новгорода, где одно время княжил Мстислав, затем в начало княжеского летописания Переяславля Южного, где также княжил Мстислав, и наконец — Киева, куда Мстислав перешел княжить после смерти отца. Из Переяславля Южного «Повесть временных лет» в 3-й редакции (редакции Мстислава) передалась на северо-восток — во Владимирско-Суздальскую землю. Три отростка когда-то единого ствола общерусского летописания — новгородский, переяславский и киевский — стали наиболее мощными ветвями, которые в первой четверти XII в. дало летописание мономаховичей. Вслед затем летописание дробится более и более, многочисленными побегами охватывая все наиболее значительные княжества Руси. Князья стремятся обзаводиться личными и семейными летописями. Их имели Ольговичи черниговские (Святослав и его сын Игорь Святославич, герой «Слова о полку Игореве»), Мономаховичи переяславские (особенно известен летописец Владимира Глебовича), Ростиславичи смоленские, князья владимирские и ростовские. Новые формы летописания и исторического повествования, которые с такою интенсивностью развиваются в XII в., выросли из непосредственных потребностей самой русской жизни, из тех явлений, которые имели место на русской почве еще до принятия ею христианской цивилизации Византии. Византийская историческая литература не знала семейных и родовых летописцев. Это — явление чисто русское; оно должно быть поставлено в связь с теми устными родовыми преданиями, существование которых мы предполагаем на основании некоторых фрагментов их в летописи. Летописание на Руси становится жизненной необходимостью, бытовым явлением. Князья заинтересованы в нем как в политическом документе своих прав и притязаний и решительно озабочены своевременным ведением летописных записей. Однако не одни князья и монастыри ведут свои летописи. Рядом с личным и родовым летописанием князей начинает развиваться летописание городское. Изгнание в 1136 г. новгородского князя Всеволода, внука Владимира Мономаха, восставшим ремесленным и сельским населением грозит прекращением княжеского летописания мономаховичей в Новгороде. Поэтому новое новгородское правительство с Нифонтом во главе берет летописание в свои руки. В 1136 г. по приказу Нифонта доместик новгородского Антониева монастыря Кирик составляет работу по хронологии, подсобного для ведения летописи характера, — «Учение, им же ведати числа всех лет» — и в том же 1136 г. принимает участие в широко задуманном пересмотре всего предшествующего княжеского летописания Новгорода. Летопись мономаховичей (с «Повестью временных лет») отбрасывается из начала новгородского летописания и заменяется резко антикняжеским Киево-Печерским сводом 1093 г. Составляется тот «Софийский временник», который затем продолжается в Новгороде до самого его присоединения к Москве. «Софийский временник» открывался предисловием, полным горьких упреков князьям в «ненасытстве», в алчности, в притеснении людей вирами и «продажами», налогами и поборами. Упреки эти были как нельзя более своевременны в Новгороде в середине XII в., когда одни за другими отбираются у новгородского князя его доходы, урезываются права, конфискуются земли. Можно думать, что такие же городские летописи велись и по другим областям: в Полоцке, в Ростове, в Галицко-Волынской области. Дробление летописания на этом не остановилось. Насколько распространенным было ведение летописей в XII в., показывает наличие в течение двух столетий (XII и XIII) интенсивного летописания при незначительной новгородской церкви Якова в Неревском конце, воздвигнутой на месте победы новгородцев над полоцким князем Всеславом, происшедшей в день Якова, «брата Господня». Первый летописец этой церкви — Герман Воята — ведет свою летопись в 40-х—80-х годах XII в. почти, как личный дневник. Часто он делает свои записи от первого лица; во многих из них он проявляет интересы городского обывателя, сообщающего городские слухи (Новгородская летопись по Синодальному списку, 1138), сведения о погоде (1145), об уличных происшествиях, о сене, о дровах, об урожае, о состоянии воды в Волхове (1145), о поломках и починках моста через Волхов (1142, 1143), о раннем громе (1138), о поздно стоящей дождливой погоде (1143), наконец, о собственном поставлении в попы (1144) и т. д. Летопись Германа Вояты наглядно свидетельствует, насколько развитым и распространенным было в XII в. ведение летописей, насколько сильным и всеобщим было в XII и XIII вв. стремление к историческому осмыслению событий. Летописание, которое в XI в. в основном держалось мощной поддержкой Киевской митрополии или Киево-печерского монастыря, отражало традиции византийской императорской историографии, отныне становится достоянием княжеских семей, городских церквей, превращается в повседневное бытовое явление. В XII в. широкой струей вливается в язык летописи и исторического повествования дипломатическая, деловая, военная терминология и бытовое просторечие. В новгородскую летопись проникают местные диалектизмы, разговорные обороты с пропуском сказуемого или подлежащего, в ней почти отсутствуют книжные, церковно-славянские обороты речи. Записи Германа Вояты в составленной им летописи ведутся запросто, с употреблением чисто просторечных выражений: «бысть гром велий, яко слышахом чисто в истьбе седяще» (Новгородская летопись по Синодальному списку, 1138), «стояста 2 недели пълне, яко искря жгуце, тепле вельми, переже жатвы; потом найде дъжгь, яко не видехом ясна дни ни до зимы; и много бы уйме жит и сена не уделаша; а вода бы больши третьего лета на ту осень; а на зиму не бысть снега велика, ни ясна дни, и до марта» (1145). Летописец сообщает, как посадника Якуна сбросили с Волховского моста, «обнаживъше, яко мати родила» (1141), в просторечной манере говорит о граде, выпавшем величиной «яблъков боле» (1157) и т. д. и т. п. Грандиозное по исполнению отдельных сводов в XI в., летописание в XII в. становится не менее грандиозным по широте своего распространения, по многочисленности отдельных сводов, по глубине проникновения в народную жизнь. Однако потребность в историческом осмыслении происходящего не ограничивается в XII в. только составлением многочисленных летописцев и летописных сводов. Те же потребности вызывают появление в XII в. обширной и разнообразной литературы повестей о междукняжеских отношениях. В повестях этих рассказывается о наиболее важных моментах княжеских распрей, нарушениях крестных целований, братоубийственных войнах, ослеплениях, политических убийствах и т. д. Авторы этих повестей ставили себе целью доказать правоту одних и виновность других. Знаменательно то, что при том же Владимире Мономахе, со времени которого начинает развиваться родовое и личное летописание князей, составляется и первая повесть этого типа, повесть попа Василия об ослеплении Василька Теребовльского. Затем следует многочисленный ряд повестей с аналогичным содержанием: повести об убиении Игоря Ольговича, послужившем поводом для распри Святослава Ольговича черниговского и Изяслава Мстиславича киевского, повесть киевлянина Кузмища об убиении Андрея Боголюбского, повесть боярина Петра Бориславича о клятвонарушениях и смерти Владимира галицкого и ряд других. Повести эти пространные, изящно написанные, насыщенные бытовыми подробностями, дышащие азартом междукняжеской борьбы своего времени, составлялись обычно непосредственными участниками событий, чаще всего послами (поп Василий, Петр Бориславич, киевлянин Кузмище); они наполнены драматическими подробностями, точно передают содержание переговоров, речи князей и послов, насыщены дипломатической терминологией своего времени. Повестей этих особенно много в летописях Киевской, Галицкой и Волынской, благодаря чему вместивший все эти летописи Ипатьевский список кажется особенно пространным и литературным. Жанр исторических повестей о междукняжеских отношениях также возник из потребностей русской жизни и получил самобытные черты своего внешнего выражения. Повести эти резко разрушают византийские средневековые литературные каноны, обнаруживая поразительную свежесть восприятия, свидетельствующую о своеобразных реалистических тенденциях в русской литературе XII в. Поразительна своими реалистическими тенденциями повесть Петра Бориславича — связный литературно-развитой рассказ, имеющий своей целью убедить читателей в правоте киевского князя Изяслава Мстиславича, описать с точки зрения сторонника Изяслава историю борьбы Киевского и Галицкого княжеств. Подробное описание смерти разбитого параличом Владимирка составляет эффектную развязку, доказывающую правоту Изяслава. В повести детально фиксированы речи при переговорах, насмешки «многоглаголивого» Владимирка, возражения Петра, точно отмечено время, в которое совершались те или иные события (к вечеру, до обеда, к ночи, до кур и т. д.), точно сказано, где происходили события (на сенях, на переходах, на степени, во дворе и т. д.), отмечены одежды действующих лиц (клобуки, мятли), описаны переживания самого Петра Бориславича (его обиды, тревоги, недоумения). Замечательно, что во всех этих повестях о междукняжеских отношениях продолжает жить представление о Русской земле, как о целом. Эта идея живет и в сознании враждующих князей, стремящихся оправдать свои притязания доводами защиты попранных прав и старых установлений и необходимостью восстановления утраченного единства Русской земли. Таким образом, исторические жанры — летопись и повести о междукняжеских отношениях — с необычайной интенсивностью распространяются по всей Русской земле. Они становятся явлениями русской жизни, развиваются параллельно распространению книжности вообще. Несомненно, что обильные культурные всходы XII в… были выражением постепенного углубления процесса феодализации, роста производительных сил страны, а вместе с тем роста народной культуры и потребностей в историческом осмыслении событий. >2 То же проникновение народных, местных начал отчетливо сказывается и в искусстве периода феодальной раздробленности Руси. Чрезвычайное развитие городов, ремесел, появление многочисленных артелей строителей, живописцев приводит к проникновению в высокое искусство Руси местных традиций, вкусов непосредственных исполнителей, вносивших в свои произведения черты народного искусства. Княжение Владимира Мономаха стоит на переломе двух эпох не только в области литературы, но также и в области зодчества. C одной стороны, княжение Владимира Мономаха завершает собою период монументальных и обширных сооружений, которыми был богат XI в., с другой — оно начинает собою длинный ряд сооружений XII — начала XIII вв., в которых с нарастающей силой проявляются местные народные вкусы. Как указывает проф. Н. Н. Воронин, при Владимире Мономахе народные формы архитектуры заявляют о себе в строительстве Владимира Мономаха в Вышгороде, где новые строительные приемы оформляют созданный на Руси культ первых русских святых Бориса и Глеба. При Владимире Мономахе же Новгород создает первых замечательных русских зодчих, построивших в начале XII в. такие грандиозные, поражающие своей монументальностью, лаконичностью форм и прочно найденными пропорциями сооружения, как Николо-Дворищенский собор (1113), собор Антониева монастыря (1116) и Георгиевская церковь в Юрьевом монастыре (1119), — из этих зодчих известен мастер Петр. Асимметричное трехглавое здание Георгиевской церкви Юрьева монастыря с ритмично вытянутыми в высоту мощными стенами является одним из лучших произведений русской архитектуры XII в., далеко отошедшей в Новгороде от византийских прототипов. Из Новгорода уже очень рано начинают выписывать мастеров, в частности для строительства в далеком Киеве стен Выдубицкого монастыря и др. (Коров Яковлевич, посадник Милонег). Особенно заметным это проникновение местных народных начал в искусство Новгорода становится с середины XII в., когда городские организации уличан, концов и сотни начинают играть значительную роль в новгородском государстве. Чрезвычайно существенным для всего новгородского культурного развития представляется то, что улицы и концы выступают с половины XII в. в качестве инициаторов различных культурных предприятий: в 1165 г. «шестициници», т. е. уличане Шестичинской улицы, ставят церковь «святые троицы»;115 в 1185 г. «лукиници», т. е, жители Лукиной улицы, ставят церковь Петра и Павла на Синичьей горе («Сильнищи»)116 и т. д. Организации уличан принимают активное участие в развитии книжности и в переписывании рукописей. Так, например, Пролог 1390 г. имеет следующую запись: «написаны быша книгы сия, глаголемые пролог, ко св. чудотворцома Козьмы и Дамьяну… повелением… всех бояр и всей улицы Кузмодемьяне». Создаются и новые формы осуществления общественных предприятий. Начиная с середины XII в. в Новгороде все более или менее крупные предприятия осуществляются «дружинами» — артелями. Эти «дружины» существуют, прежде всего, при дворе новгородского епископа и населяют его «слободы» в окрестностях города и поблизости Детинца (новгородского кремля). Члены этих «дружин» носят название «владычных паробков» или «владычных ребят». «Паробки» и «ребята» переписывают священные книги, составляют артели строителей и расписывают церкви. Характерно, что замечательный памятник русского искусства XII в. — церковь Нередицы — расписывало не меньше 10 мастеров одновременно. В связи с этим заметно иные, более «демократические» формы приобретает и живопись и в особенности новгородская архитектура XII в. Новгородское строительство второй половины XII в. вырабатывает новый тип четырехстолпного, квадратного в плане, укороченного храма, более упрощенного типа и меньших размеров, сравнительно с грандиозными княжескими соборами предшествующей поры. В отличие от церквей княжеской постройки с резким разделением молящихся на привилегированных, «избранных», и остальную массу молящихся, новые церкви не разделяют молящихся на категории. Князья строили церкви с обширными, сильно освещенными каменными хорами, на которых слушали богослужение княжеская семья и приближенные. Новые же, возводимые со второй половины XII в. церкви имеют скромные деревянные хоры служебного значения. Сокращение размеров вновь воздвигаемых храмов отнюдь нельзя рассматривать, как упадок зодчества: княжеские постройки предшествующей поры сравнительно редки, церквей же нового типа воздвигается огромное количество. Новгород, который в начале XII в. имеет всего 5–6 каменных храмов, правда грандиозных по размерам, из которых храм Софии остался непревзойденным но величине во всё последующее время, в середине XII в. обрастает многочисленными каменными церквами, организующими его своеобразный архитектурный облик. Еще более самобытными чертами отличаются постройки Пскова (собор Спасо-Мирожского монастыря и др.). Аналогичные процессы в области архитектуры происходят в XII в. в Киеве, Чернигове, Полоцке и др. В Смоленске в конце XII в. кн. Давид строит церковь Михаила Архангела, отличавшуюся резко своеобразными, народными приемами своей архитектуры. Огромное значение для живописи в XII в. имело вытеснение дорого стоившей мозаики широко развившейся фресковой живописью, со сравнительно свободной техникой, более дешевой, резче мозаики способной отразить индивидуальную манеру исполнителей. Стиль тех фресок новгородской Нередицы (1199), которые были выполнены русскими мастерами, свидетельствует о народных вкусах их исполнителей. Таковы в особенности бытовые подробности в композиции Крещения (фигуры сбрасывающего рубашку и плывущего в Иордане) и изображение Страшного Суда на западной стороне церкви. Народные начала сказываются и в стиле рисунков на страницах рукописей XII в. Черты быта проникают в псковские и новгородские рукописи XII в. (изображения гусляров, пешехода с корзиной, отдыхающего земледельца и проч.). Проникновение местных народных начал в искусство XII в. не означало, однако, создания какого-то единого нового народного стиля. Каждая из областей, каждый город имеет свои характерные и неповторимые черты культурного развития, свои местные, областные черты искусства, местные литературные манеры. Такими резко своеобразными чертами обладают искусство и литература Галицко-Вольшского, Владимиро-Суздальского, Киевского, Новгородского, Полоцко-Смоленского и других княжеств. Культура второй половины XII и начала XIII вв. дробится между множеством областей и обилием в них противоречивых тенденций. Киев, Владимир, Новгород, Смоленск, Туров, Галич, Владимир-Волынский — каждый из этих городов, составляет самостоятельный культурный центр. Рафинированная городская культура предшествующей поры подвергается в них всюду различному воздействию народной стихии. Широкое проникновение народных, демократических начал в книжность, в архитектуру, в живопись XII — начала XIII вв., так же как и рост вечевых собраний с конца XI в., говорит о том, что широкие массы населения все более осознают свое значение в общей жизни страны. Отсутствие в середине XII в. единого общерусского летописания и таких значительных исторических произведений, как «Повесть временных лет», отнюдь не свидетельствует еще об упадке в XII в. исторического и народного самосознания. >3 Местные, областные тенденции развиваются в XII в. параллельно росту объединительных стремлений русского парода. И центробежные и центростремительные силы, одновременно действуя, одновременно же способствуют развитию культуры русского народа. В XI в. киевские летописные своды стремились к ясному изображению единого развития Русского государства. «Откуда есть пошла Русская земля», такую задачу ставил себе не только составитель «Повести временных лет», но и предшествующие ему киевские летописцы. Эта идея единства Русского государства оплодотворяла собою литературу, архитектуру, живопись. Эта идея единства Руси, с такою настойчивостью проведенная во всех киевских сводах XI — начала XII вв., была искусно подкреплена летописцами оригинальной теорией единства княжеского рода. Именно в этих целях составитель летописи внес в нее легенду о призвании родоначальников «рюриковичей», трех братьев-варягов, подчинив этой легенде всё изложение истории Руси.117 Именно в этих целях летописец стремился доказать, что междукняжеские войны — братоубийственны, что все русские князья «одного деда внуки». Это летописное доказательство единства Руси, как единства княжеского рода, претерпело жестокое поражение в междукняжеских распрях XII в. Вот почему идея единства Русской земли в этой своей форме почти исчезает из летописей середины XII в. Однако распри князей не уничтожили в народе Стремления к единению. Распалась лишь излюбленная летописная идея о единстве княжеского рода, как о предпосылке и основе единства русской государственности. Именно этой идее был нанесен жестокий удар междоусобной борьбой князей. Уже к 70-м — 80-м годам XII в. относятся попытки нового подъема в литературе идеи единства Руси, на этот раз на иной, более глубокой основе. Предпосылкой этого нового подъема явилась половецкая опасность, тяжелой тучей нависшая над Русью во второй половине XII в. С 70-х годов XII в. начинается «рать без перерыва». Натиск половцев разбивается об ответные наступательные походы русских князей. Однако после ряда поражений половцы объединяются под властью хана Кончака. Половецкие войска получают великолепную организацию и хорошее вооружение. В их армии появляются и катапульты, и баллисты, и «греческий» («живой») огонь, огромные передвигавшиеся «на возу высоком» луки-«самострелы», тетиву которых натягивало более 50 человек. Под влиянием усилившихся в 70-х и 80-х годах XII в. набегов половцев идея необходимости объединения вспыхнула с новой силой. Идеи единения находили себе дорогу к реальной политической жизни, несмотря на утрату единства экономических интересов, поддерживавших в XI в. объединительную политику Киева, несмотря на то, что углубление процесса феодализации привело к общей децентрализации когда-то единого Киевского государства. В 80-х годах XII в. встает мираж объединения перед окончательным распадением Руси на ряд отдельных земель-княжеств, связь которых в единое целое фактически уже не могла осуществиться. На юге Руси состоялось соглашение Ростиславичей и Ольговичей. Святослав Ольгович, отец героя «Слова о полку Игореве», «получает „старейшинство и Киев“ и 13 лет сидит на Киевском столе в почетной роли слабосильного патриарха».118 Совершается и ряд других попыток примирения отдельных враждующих групп. В 1134 г. объединенными усилиями русских князей половцы были разбиты. Захвачены были «военные машины», отбиты пленные, попал в плен сам хан Кобяк и «басурменин», стрелявший «живым» огнем. Эти объединительные тенденции перед лицом нависшей половецкой опасности не замедлили отразиться в летописи. Именно в 80-х годах XII в. летописание Владимира Залесского привлекает в свой состав известия летописей Переяславля Южного, стремясь расширить рамки своего летописания и превратить его в летописание общерусское.119 Именно в 70-х—80-х годах новгородское летописание делает попытки выйти из узких пределов только новгородского летописания и использует какую-то киевскую летопись, стремясь охватить и события Южной Руси.120 Аналогичным образом внимательный анализ Ипатьевского списка выясняет чрезвычайно значительную попытку создания в 90-х годах XII в. общерусского летописного свода в Чернигове при дворе черниговского князя Игоря Святославича — героя «Слова о полку Игореве».121 В основу этого летописания кладется родовой летописец Святослава Ольговича черниговского и его сына Игоря Святославича. Этот летописец дополняется летописцем черниговского епископа. Поход Игоря Святославича на половцев (1185), в котором участвовали войска Владимира Глебовича переяславского, исконного врага черниговских князей, создает почву для привлечения к летописанию Ольговичей богатого летописания Переяславля Южного, широко охватившего события южнорусской жизни. Известия этого летописания Переяславля Южного и сейчас читаются в составе Ипатьевского списка в сильной черниговской переработке. К черниговскому летописанию привлекается и киевское, также подвергшееся в Чернигове основательной переработке в духе примирения двух враждующих групп — Ольговичей и Мономаховичей. Идейное обоснование необходимости этого примирения составляет замечательную особенность черниговского летописания 80-х—90-х годов. Именно ради этого в Черниговский свод была включена переяславская версия повести об убийстве в Киеве Игоря Ольговича, чья кровь, павшая на киевского князя, мешала примирению двух основных враждующих княжеских группировок: Мономаховичей и черниговских Ольговичей. Эта переяславская повесть об убиении Игоря Ольговича, составленная при дворе переяславского епископа Евфимия, заинтересованного в примирении Изяслава Мстиславича и Святослава Ольговича, стремилась изобразить убийство Игоря Ольговича как несчастный случай, как дело рук киевской толпы, совершившей его в разрез с желаниями Изяслава. Как рассказывает повествователь, брат Изяслава — Владимир — собственным телом прикрыл Игоря Ольговича, принимая на себя удары убийц. Сам Изяслав безутешно плачет по Игоре; дружина утешает его и свидетельствует его очевидную непричастность к преступлению. Таким образом, создание в Чернигове общерусского свода идет под знаком примирения междоусобных войн. Узкое летописание черниговских князей прерывает свой тип родового летописца и пытается вернуться на широкую дорогу общерусского летописания. Но не только в летописании делаются серьезные попытки отражения общерусских интересов: меняется и самый тип исторических повестей. Эти исторические повести, как это мы видели выше, имели с конца XI в. своими сюжетами, главным образом, междукняжеские отношения, раздоры князей между собой. В 80-х годах делается первый значительный опыт создания самостоятельной исторической повести о борьбе русских князей с внешним врагом. Знаменательно, что эта попытка делается одновременно в двух враждебных лагерях и имеет своей общей темой поход (1185) Игоря Святославича новгород-северского. Составившаяся первоначально на юге — в Переяславле Южном, историческая повесть о походе Игоря Святославича сделалась известной во Владимире и в Чернигове. В Чернигове составляется самостоятельная повесть о событиях похода, несчастных для русских; она замечательна опять-таки тою же примирительной тенденцией, которой придерживается и черниговская летопись. Автор этой повести вкладывает в уста Игоря Святославича покаянный счет своих княжеских преступлений, знаменующий собою необычайно смелый в тех условиях отказ от предшествующей политики черниговских князей. В этом покаянном счете главное место занимает раскаяние Игоря Святославича в разорении переяславского города Глебля, до крайности ожесточившем вражду переяславских и черниговских князей: «помянух аз грехы своя перед господом богом моим, яко много убийство, кровопролитие створих в земле крестьяньстей, яко же бо аз не пощадех хрестъян, но взях на щит город Глебов у Переяславля; тогда бо не мало зло подьяша безвиньнии хрестьани, отлучаеми отець от рожений своих, брат от брата, друг от друга своего, и жены от подружий своих, и дщери от материй своих, и подруга от подругы своея, и все смятено пленом и скорбью тогда бывшею, живии мертвым завидять, а мертвии радовахуся, аки мученици святеи огнем от жизни сея искушение приемши… и та вся сотворив аз, рече Игорь…».122 Здесь же в Чернигове в 1174–1175 гг. создается, посвященное памяти князей, братьев Бориса и Глеба, «Слово о князьях», резко обличавшее братоубийственные междоусобия своего времени. Таким образом, в последней четверти XII в. с разных сторон, а по преимуществу в черниговском летописании и в черниговской школе книжников делаются попытки примирения княжеских распрей, попытки создания общерусского летописания и нового типа исторической повести о борьбе с внешним врагом. Естественно, однако, что старые жанры не могли в полной мере отвечать новым задачам, которые ставились историческому повествованию в 80-х годах XII в. В этих условиях становится понятным создание в 80-х годах XII в. такого значительного произведения древнерусской литературы, как «Слово о полку Игореве». Нам понятно теперь, почему именно в конце XII в. с такой силой проявились в русской литературе великая идея родины, чувство родины, народный патриотизм. По-своему грандиозная летописная идея единства Руси, как единства княжеского рода, отмерла, но идея единства Руси, основанная на глубоком чувстве любви к родине, продолжала жить. Идея эта потребовала для своего выражения создания нового жанра поэтической повести, в которой с поразительной силой сказались народные основы патриотизма, опирающегося на живое чувство любви к родине, как к живому существу. Литература XI — начала XII вв. в произведениях Илариона, Нестора, Мономаха, в летописи и в житиях создала торжественный и героический образ Русской земли — обширной, могущественной и славной в иных странах. Но во второй половине XI в. это чувство гордости за свою родину окрашивается тонами лирической скорби о ее страданиях. Лирический образ родины, ощущение ее как живого и страдающего существа особенно остро проявилось в гениальном произведении XII в. — «Слове о полку Игореве», этом наивысшем выражении ведущих тенденций культурного развития Руси второй половины XII в. «Слово о полку Игореве» — песнь о всей Русской земле в целом. Лирический образ ее воссоздан в «Слове» с изумительной силой чувства. Небольшое по объему (2875 слов, не многим более ¼ печатного листа) «Слово» чрезвычайно обширно по своей теме. В зачине к «Слову» автор говорит, что он собирается вести свое повествование «от старого Владимира (Мономаха) до нынешнего Игоря». Излагая историю несчастного похода на половцев князя Игоря, автор охватывает события русской жизни за полтора столетия и ведет свое повествование, «свивая славы оба полы сего времени», — постоянно обращаясь от современности к истории, сопоставляя прошлые времена с — настоящим. Автор вспоминает века Трояновы, годы Ярославовы, походы Олеговы, времена старого Владимира (Мономаха). В своеобразной перекличке, которую устраивает автор русским князьям участвуют и его современники и их предшественники. Широкому хронологическому охвату повести соответствует и широта ее территориального охвата. Едва ли в мировой литературе есть произведение, в котором были бы одновременно втянуты в действие такие огромные географические пространства. Половецкая степь («страна незнаема»), Дон, Черное и Азовское моря, Волга, Рось и Оула, Днепр, Донец, Дунай, Западная Двина, Стугна, Немига, а из городов — Корсунь, Тмутаракань, Киев, Полоцк, Чернигов, Курск, Переяславль, Белгород, Новгород, Галич, Путивль, Римов и др., — вся Русская земля находится в поле зрения автора, введена в круг его повествования. При этом автор «Слова» не выключает Русскую землю из среды окружающих ее народов, заставляя прислушиваться к происходящим в ней событиям немцев и венецианцев, греков и моравов, а литву, финнов, половцев, ятвягов и деремелу (литовское племя) втягивает непосредственно в ход русской истории. Подобно Ярославу галицкому, прозванному за свой политический ум Осмомыслом, престол которого господствует над Венгрией и Киевом, откуда он обозревает происходящее, автор «Слова» видит Русь как бы с идеальной высоты. Огромность Русской земли подчеркивается одновременностью действия в разных ее частях: «девицы поют на Дунае, вьются голоса через море до Киева»; «трубы трубят в Новегороде, стоят стяги в Путивле»; «кони ржут за Сулою, звенит слава в Киеве» и т. д. Таким же, как у него самого, обостренным слухом и зрением, способным прозревать пространство, наделяет автор и своих героев: когда Всеславу в Полоцке позвонят к заутрене рано у святой Софии в колокола, он в Киеве уже звон слышал, а когда князь Олег Уступал в золотое стремя в городе Тмутаракане, тот звон слышал давнишний великий Ярославов сын Всеволод, а Владимир (Мономах) всякое утро уши себе закладывал в Чернигове. Широкое пространство действия объединяется гиперболической быстротой передвижения в ней действующих лиц. В обширных пространствах Руси сами герои «Слова» приобретают гиперболические размеры: Владимира Мономаха нельзя было пригвоздить к горам киевским; галицкий Ярослав подпер горы угорские своими железными полками, загородив королю путь, затворив Дунаю ворота. Такою же грандиозностью и острым ощущением родины, как единого большого и живого существа, отличается и пейзаж? «Слова», всегда тем не менее конкретный и взятый как бы в движении: перед битвой с половцами кровавые зори свет поведают, черные туча с моря идут… быть грому великому, итти дождю стрелами с Дону великого… Ветер, солнце, грозовые тучи, в которых трепещут синие молнии, утренний туман, дождевые облака, щекот соловьиный по ночам и галочий крикутром, вечерние зори и утренние восходы, море, овраги, реки составляют титанический фон, на котором развертывается действие «Слова». В радостях и печалях русского народа принимает участие вся русская природа. Понятие родины — Русской земли — объединяет для автора ее историю, «страны» (т. е. сельские местности), города, реки и всю природу. Солнце тьмою заслоняет путь князю — предупреждает его об опасности; Див вопит на вершине дерева, велит послушать земле незнаемой — половецкой степи, морю (Сурожу), Волге, Приморью, Посулью, Корсуни и Тмутараканскому болвану на Керченском полуострове; Донец стелет бегущему из плена Игорю постель на зеленом берегу, одевает его теплым туманом, сторожит чайками и дикими утками. Чем шире охватывает автор Русскую землю, тем конкретнее и жизненнее становится ее образ, в котором оживают реки, вступающие в беседу с Игорем, наделяются человеческим разумом звери и птицы, принимают участие в судьбе Русской земли даже стены городов, унывающие при поражении русского войска. По точному определению академика А. С. Орлова, героем «Слова» является не какой-нибудь из князей, а вся «Русская земля, добытая и устроенная трудом великим всего русского» народа».123 Таким образом, «Слово о полку Игореве» — это поэма о всей Русской земле, образ которой, ее природа и история очерчены автором широкою и свободною рукою. Новое ощущение родины как грандиозного живого существа, как совокупности всей русской истории, культуры и природы, с такой силой сказавшееся в «Слове», несомненно обязано той народной стихии, которая определила во многом и самую художественную форму «Слова о полку Игореве» — народную и фольклорную. Замечательно, что именно в этом живом чувстве родины находит себе опору «призыв русских князей к единению»,124 составляющий основную задачу и основной смысл поэмы. Этот широкий образ Русской земли пронизывает русскую литературу на всем протяжении ее развития. Теми же широкими приемами, что и в «Слове о полку Игореве», описана в «Слове о погибели Русскые земли» XIII в. «светло-светлая и украсно украшена земля Руськая», изобилующая озерами многочисленными, реками и колодцами местнопочитаемыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами чистыми, полями дивными, зверями различными, птицами бесчисленными, городами великими, селами дивными, садами монастырскими, домами церковными, грозными князьями, честными боярами и вельможами многими. Тот же широкий образ «светлой» Руси повторяется в житии Александра Невского, в поздних летописях и историческом повествовании, вплоть до XVII в., приобретя традиционные черты. В последние годы в работах: некоторых реакционных западноевропейских ученых неоднократно повторялось утверждение, что «Слово о полку Игореве» ничем не связано с общей культурой и идейной жизнью Руси XII в., что возникновение его в 80-х годах XII в. случайно и ничем необусловлено. Утверждение это основано на невежественных представлениях о русской идейной жизни XII в. На самом деле «Слово о полку Игореве» создано на богатой почве культуры Руси второй половины XII в. Оно тесно связано с ней и идейно и общим для всей культуры второй половины XII в. обращением к живительным народным началам. >4 Одной из своих тенденций «Слово о полку Игореве» имеет ближайшее отношение к Владимиро-Суздальской Руси. Идея необходимости единения перед лицом внешней опасности соединена в «Слове» с идеей сильной княжеской власти. Не бессилие русских князей отмечает «Слово», а их силу и могущество. Великий Всеволод суздальский так силен, что мог бы «Волгу веслы раскропити, а Дон шеломом выльяти». Будь он на юге, «была бы чага по ногате, а кощей по резани».125 Галицкий Ярослав Осмомысл «высоко» сидит «на своем златокованнем столе, подпер горы угорьскыи своими железными полкы», заступил пути королю венгерскому, затворил ворота к Дунаю, суды рядя до Дуная. Несчастие русского народа не в том, что Русская земля бессильна и князья в ней слабы. Беда Руси в том, что никто из русских сильных князей не слышит призыва загородить полю ворота своими острыми стрелами. Идея единства Руси неотторжима в «Слове о полку Игореве» от идеи сильной княжеской власти. Именно эта идея необходимости сильной княжеской власти дает реальную весомость идее необходимости единения. Эта идея сильной власти князя была особенно прочна на северо-востоке Руси во Владимиро-Суздальской области. Она нашла себе отчетливое выражение во всех сторонах культуры этой области. Спокойная и сильная архитектура владимиро-суздальских храмов, с их стенами, богато украшенными снаружи импозантными геральдическими изображениями львов, барсов, грифов, кентавров, всадников, святых и т. д., выражает идею силы и могущества их строителей. Та же идея отражена в летописи и литературных произведениях владимиро-суздальской Руси. Особенно характерно в этом отношении «Моление Даниила Заточника». Восхваляя князя Ярослава, Даниил заявляет себя сторонником сильной княжеской власти. Многочисленными афоризмами Даниил стремится обосновать необходимость неограниченной власти своего князя, подчеркивая ее «естественный», изначальный характер: «женам глава муж, а мужем князь, а князем Бог»; «орел-птица — царь над всеми птицами, а осетр — над рыбами, а лев — над зверями, а ты, княже, — над переяславцы. Лев рыкнет, кто не устрашится; а ты, княже, речеши, кто не убоится»; «гусли строятся персты, а град наш твоею [князя] державою» и т. д. В заключительной части своего «Моления» Даниил обращается к Богу с просьбой: «силу князю нашему укрепи», и повторяет слова митрополита Илариона, как бы непосредственно вводя нас в обстановку надвигающегося нашествия монголов: «Не дай же, господи, в полон земли нашей языком [народом], не знающим Бога, да не рекут иноплеменницы: где есть Бог их…». >5 Развитие русской культуры в XI — начале XIII вв. представляет собою непрерывный поступательный процесс, процесс, который, накануне татаро-монгольского нашествия достиг своего наивысшего уровня: в живописи — новгородские фрески, в архитектуре — владимиро-суздальское зодчество, в литературе — летописи и «Слово о полку Игореве». Проникновение в культуру высших классов общества народных начал делает вторую половину XII в. и начало XIII в. особенно значительными в истории русской культуры. Вопреки реакционным утверждениям некоторых немецких историков искусства о том, что русская культура до татаро-монгольского завоевания находилась на очень низком уровне развития, что росток византийской культуры, пересаженный на русскую почву, не развивался, а хирел, — вопреки этим утверждениям следует признать, что вся история русской культуры до татаро-монгольского завоевания свидетельствует о необычайной творческой силе русского народа, о ее все нарастающем поступательном движении. Только исключительно тяжелым гнетом татаро-монгольского ига может быть объяснена та задержка в культурном развитии Руси, которая наступила с середины XIII в. — с того самого времени, когда как-раз особенно интенсивным становится культурное развитие Европы, защищенной русской кровью от опустошительного урагана с Востока. Татаро-монгольское нашествие не «завершило собою естественного процесса постепенного упадка», наоборот, оно внешней силой, искусственно, катастрофически затормозило интенсивное развитие древнерусской культуры. Именно поэтому татаро-монгольское нашествие было воспринято на Руси, как космическая катастрофа, как вторжение потусторонних сил, как нечто невиданное и непонятное. «Явишася языци [народы], ихже никто же добре ясно не весть, — кто суть и отколе изидоша, и что язык их, и которого племени суть, и что вера их; и зовут я татары, а инии глаголют таурмени, а друзии печенези, ини глаголють ясно се суть, о них же Мефодий Патарский епископ свидетельствует… яко к скончанию времен явитися тем, яже загна Гедеон, и попленять всю землю от Востока до Ефранта и от Тигра до Понетьского [Черного] моря, кроме Ефиопья», — так выразил свои впечатления от первого появления татар на границах Руси автор летописной повести о Калкской битве. То же впечатление от татаро-монгольского завоевания, как от мировой катастрофы, скорбь и горе от гибели величайших культурных ценностей русского народа отразились в многочисленных литературных и летописных откликах на нашествие Батыя. «Величьство наше смирися, красота наша погыбе, богатство наше онем [т. е. врагам] в корысть бысть, труд наш погании наследоваша, земля наша иноплеменным в достояние бысть», — писал знаменитый русский проповедник середины XIII в. Серапион Владимирский. Недаром Серапиону Владимирскому приходили на память образы землетрясения; он говорит о том, что земля не терпит грехи людей. Бог, как дерево, трясет землю, и опадают листья. Катастрофические события второй четверти XIII в. действительно могут быть уподоблены землетрясению: многие города были разрушены до основания, лучшие произведения русского зодчества лежали в развалинах, земля была покрыта пеплом сожженных деревень. Однако дух русского народа не был уничтожен. Своеобразные «геологические» сбросы повели к обнажению в русской жизни многих задатков будущего, таившихся в глубине и вскрытых катастрофой под внешними наслоениями. В ослепительной чистоте заблестели идеи единства Руси, беззаветная любовь к родине, чувство родины, как реального, живого существа. «Слово о погибели Русскыя земли», светская повесть о мужестве Александра Невского, повести о рязанском разорении с остатками былины о Евпатии Коловрате, летописные повести о взятии Владимира, Киева и др. полны образами и идеями, предвещающими будущую идейную направленность литературы великой собирательницы Русской земли — Москвы. Самый тип великого русского князя этой поры — Александра Ярославича Невского, его военная и дипломатическая деятельность представляют собой как бы прототип будущих московских великих князей, властных и могущественных, сочетающих в себе таланты дипломатов и военачальников с глубоким знанием интересов русского народа в целом. Однако то, чего не смогла сделать татарская сабля в первый натиск на Русь Батыя, сделали долгие годы «томления» и «муки» татаро-монгольского ига; книжность угасала, зодчество почти оборвалось. Тем не менее в эти годы под навалившейся тяжестью иноземного ига продолжала теплиться жизнь. Русский народ сохранял интерес к своему прошлому, летописание продолжалось по городам. Русская культура, достигшая своего весеннего цветения накануне татаро-монгольского ига, придавленная копытами татарской конницы, сохраняла силы для будущего развития. Народные начала, вошедшие в нее накануне татаро-монгольского ига, заложили прочные основы для последующего образования национальных культур трех великих братских народов: русского, украинского и белорусского. >V ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ И ПОБЕДА НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ >Образованию Русского национального государства при Иване III предшествовала широчайшая идеологическая подготовка, своеобразное культурное возрождение русского народа; оно началось еще с 80-х годов XIV в., вслед за Куликовской битвой. Именно вслед за победой на Куликовом поле, явившейся перовым этапом свержения татаро-монгольского ига, возник тот подъем народного самосознания, который еще в конце XIV в., а особенно резко в первой половине XV в. привел к серьезному подъему творческих сил русского народа. >1 Ко второй половине XIV в. относится расцвет новгородской фресковой живописи. Наблюдение природы, которое внесли в свое искусство мозаичисты и — фрескисты Византии, а вслед за ними Чимабуэ, Джотто и Дуччио в Италии, естественный ландшафт, натуральные человеческие фигуры в сильном движении, элементы перспективы и светотени, появление сложных повествовательных сюжетов и попытки изобразить человеческие переживания— все это характерно для новгородских фресок второй половины XIV в. — для фресок церкви Спаса Преображения, Федора Стратилата, Болотова, Рождества на Кладбище, Михайло-Сковородского монастыря, Ковалева, То немногое, что мы знаем об искусстве Москвы второй половины XIV в., позволяет говорить об аналогичном подъеме в живописи и в этом городе. В Москве по-настоящему созрела национальная школа живописи, высшим представителем которой на рубеже XIV–XV вв. выступает гениальный русский художник Андрей Рублев. В 1405 г. А. Рублев известен уже как вполне зрелый сорокалетний мастер, расписывающий вместе со знаменитым Феофаном Греком и старцем Прохором из Городца кремлевский Благовещенский собор.126 Работы Рублева не стояли одиноко на рубеже XIV и XV вв. Многочисленные реставрации икон той поры, произведенные после Великой Октябрьской социалистической революции, и многочисленные новые находки икон конца XIV — начала XV вв. говорят о необычайно высоком уровне русской живописи того времени. Можно с несомненностью утверждать, что эпоха объединения русского народа вокруг Москвы была одновременно и эпохой высшего расцвета древнерусской живописи. Слава русских художников той поры была настолько велика, что их приглашали работать далеко за пределы родины. Особенно много остатков фресок древнерусских мастеров сохранилось в Польше, где в эпоху королей Ягелла и Казимира русские иконописцы работали в Кракове, в Святокрестецком монастыре на Лысой горе, в Люблине и Гнезне.127 Новгородские фрески частично сохранились в г. Висби на острове Готланде. Новгородских мастеров приглашали расписывать церкви Ганзейской колонии в Новгороде. Русские мастера ездили работать в Золотую Орду. С конца XIV в. значительное движение вперед наблюдается в русской письменности. Первые признаки зарождающегося индивидуализма отличают русскую книжность так же, как живопись конца XIV — начала XV вв. В противоположность безыменности большинства литературных произведений предшествующих веков, в конце XIV — начале XV вв. впервые появляется иное отношение к авторству. Авторы житий много говорят о себе, пишут обширные предисловия, в которых рассказывают о причинах, побудивших их приняться за перо, раскрывают свои намерения, пишут о своих личных отношениях к святым, что показалось бы в предшествующие века верхом греховного самовосхваления. Изложение проникается лиризмом и субъективизмом. Индивидуалистически настроенные писатели начала XV в. (Епифаний Премудрый, Пахомий Серб) относятся с видимым интересом к внутреннему миру своих героев. Впервые, хотя еще примитивно и схематично, толкуют писатели начала XV в. о психологических переживаниях действующих лиц своих произведений, о внутреннем религиозном развитии святых. Самые картины природы, интерес к которой постепенно растет, служат образцами для изображения душевного состояния святых. Характерная для эпохи зарождающегося гуманизма любовь к слову отразилась в русских житиях этого периода обилием длинных речей, многочисленностью риторических прикрас, так называемым «плетением словес», ритмической организацией речи, введением ассонансов, внутренних рифм, свидетельствующих о высоком литературном мастерстве русских авторов. Это высокое литературное мастерство в значительной мере поддерживалось живым культурным общением Руси с Византией и южнославянскими странами, особенно интенсивным с конца XIV в. Целый поток югославянских рукописей нахлынул на Русь во второй половине XIV в. Вместе с тем русские рукописи проникают в югославянокие страны, вызывая здесь подражания. Сербский монах Доментиан подражает «Слову» митрополита русского Илариона. Общение книжное увеличивалось непосредственным общением людским. На Русь приезжают болгарские и сербские книжники (Григорий Цамблак, Киприан, Пахомий Серб), а сами русские образуют целые колонии на Афоне и в Константинополе, занятые переписыванием книг, вмешиваются во внутреннюю жизнь и оказывают влияние на культуру югославянских стран. Русский боярин Иван на службе у болгар в правление царя Михаила с 3 тысячами конницы чуть было не овладел Константинополем.128 Насколько основательным было влияние русских книжников, живших на Афоне и в Константинополе, можно заключить хотя бы из того что Константин Костенчский в своем сочинении о правописании называет русский язык «красивейшими тончайшим», ставит его в образец другим славянским языкам и сообразует с ним свои правила орфографии. Русский язык оказывает существенное влияние на болгарский язык XIV в.129 Но самым важным явлением русской культуры конца XIV — начала XV вв. был возродившийся интерес к истории Русской земли. Вся русская культура конца XIV — начала XV вв. пронизана духом историзма, духом любви к славному прошлому своей родины. Как мы увидим ниже, темами русской истории увлечены не только русские книжники: к прошлому Руси обращаются и русская живопись и русская архитектура. Центральное место в этом возродившемся интересе к родной истории, ко временам русской независимости, к домонгольскому периоду русской истории принадлежит Москве. В конце XIV — начале XV вв. работа московских летописцев стала важнейшим государственным делом. Ведя политику собирания Русской земли в единое целое, Москва нуждалась в идеологическом обосновании своих действий, в реальном возрождении исконной летописной идеи о единстве Русской земли. Московские митрополиты и великие князья свозили в Москву различные областные летописи и широко пользовались ими в своем летописании. Московская летопись из узкой, областной становилась благодаря этому общерусской, приобретала общенародный характер и невиданный ранее размах. Эта работа московских летописцев, соединивших в самом конце XIV — начале XV вв. разрозненное летописание отдельных областей, значительно опережала реальный политический рост Москвы. Характер московского летописания, по выражению крупнейшего исследователя русских летописей академика А. А. Шахматова, «свидетельствует об общерусских интересах, о единстве земли русской в такую эпоху, когда эти понятия едва только возникали в политических мечтах московских правителей».130 В самом конце XIV в. в Москве был составлен первый большой летописный свод, названный «Летописцем великим русским». По одним предположениям (А. А. Шахматов), «Летописец» этот возник в 1396 г., по другим (М. Д. Приселков) — в 1389 г.131 Попытки выйти за пределы узко московских интересов еще очень слабо ощущаются в этом своде. Однако чрезвычайно серьезным новшеством, наложившим резкий отпечаток на всё последующее московское летописание, было то, что в начало этого свода была включена «Повесть временных лет». «Повесть временных лет» была тем произведением древнерусской исторической мысли времени Владимира Мономаха, которое живо хранило идейные традиции литературы домонгольской Руси, сознание единства княжеского рода и Русской земли. Отсюда московские летописцы могли заимствовать идею служения князя народу, свободную критику действий князей, идею обороны Русской земли от кочевников соединенными усилиями русских княжеств. Именно с момента включения «Повести временных лет» в качестве составной, вступительной части в московские летописи мы видим в них не безразличное к политическому смыслу происходящего наименование татар половцами, татарской степи — половецкой, и, наоборот, половцев и печенегов — татарами; очевидно, что «Повесть временных лет» не только переписывалась в это время, но и усиленно читалась, и события, изображенные в ней, применялись в определенном смысле к событиям современности. Призывы «Повести временных лет» к борьбе с половцами воспринимались как призывы к борьбе с татарами. И летописец не без умысла менял эти названия, сопоставляя тех и других как общих врагов русской независимости. Первый общерусский свод, по-настоящему поднявшийся над узкими местными интересами — тверскими, московскими, суздальско-нижегородскими, ростовскими, рязанскими, новгородскими — и осветивший русскую историю с точки зрения единства Русской земли, был составлен в Москве в 1408 г.132 Инициатива составления этого свода принадлежала митрополиту Киприану. Он превратил Москву в религиозный центр всей Руси и фактически подчинил московской митрополии церковные организации отдельных русских областей, в том числе и тех, которые входили еще в состав Литвы. В самые последние годы своей жизни Киприан собрал с различных концов Руси местные летописи, действуя в этом отношении через подчиненную ему церковную организацию. К своду были привлечены новгородская летопись, рязанская — княжеская, суздальская, тверская, некоторые местные московские летописи (например серпуховская) и предшествовавший московский «Летописец великий русский». Кроме того, в свод Киприана впервые были включены известия по истории Литвы, так как и в Литве находились русские земли, на которые претендовала Москва. Составленная таким образом летопись (окончание работы над нею относится уже ко времени после смерти Киприана) известна под названием Троицкой. Летопись эта сгорела во время московского пожара 1812 г., выдержки из нее сохранились в приложениях к «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина. Существенным моментом в Киприановской летописи явился ее учительный, публицистико-назидательный характер по отношению к московским великим князьям. Следующий за Киприановским сводом свод Фотия не только удержал, но и развил именно эту учительную по отношению к московскому великому князю тенденцию. Критическое отношение к московскому великому князю за недостаточно решительные, по мнению летописца, действия против Орды составляло отныне одну из самых «боевых» сторон московской летописи. Она ориентировалась на «Повесть временных лет», на возрожденные традиции киевского летописания. Свод Фотия отразил в своем составе всё летописное богатство древней Руси. Он соединил в себе в обширных извлечениях летописи тверскую, новгородскую, ростовскую, ярославскую нижегородскую и т. д. Эти местные летописи не были здесь обезличены: они сохранили, иногда в неизменном виде, местные симпатии и политические устремления. Свод Фотия стремится вести историческое повествование беспристрастно и объективно. Сглаживается изложение борьбы Москвы с соперничающими центрами, опускаются некоторые узко московские известия, сведения семейно-княжеского характера и т. д. Изъятию подверглись пренебрежительные выпады против новгородцев, тверичей, суздальцев. Такая переработка летописных известий, несомненно, была вызвана тем, что в своей борьбе с областными центробежными силами Москва стремилась опереться на местное демократическое население, была заинтересована в прекращении областной вражды и ощущала себя носительницей идеи единства Руси. Решительною новостью со времени «Повести временных лет» явилось использование в своде народных эпических преданий о богатырях Владимирова цикла и о гибели богатырей на Калке. В летописи рассказывалось о богатырском подвиге Демиана Куденевича, о Рагдае Удалом, который один выходил на триста воинов, об Александре Поповиче и слуге его Торопе. Упоминались и многие другие богатыри, как, например, Добрыня Рязанич Златой Пояс, Андриан Добрянкович Храбрый, Ян Усмошвец, одержавший победу над половцами вместе с Александром Поповичем, и др.133 Москва явно стремилась придать летописанию общенародный характер. Соединение в единую летопись разрозненных летописей множества разобщенных областей свидетельствует о вполне созревшей уже мысли о единстве Руси. Мысль эта сочеталась пока с бережным использованием местной литературы, местных, иногда демократических тенденций и не диктовала еще, как позднее, сурового сокращения и цензурования местных памятников. Наоборот, московская летопись в эти годы явно начинала занимать все более и более демократическую позицию, выдвигая роль горожан в защите Руси от кочевников. Иную трактовку получила, например, в новом своде повесть о Тохтамыше.134 В предшествующем летописном своде главная роль в защите Москвы от войск Тохтамыша принадлежит внуку Ольгерда Остею,135 заменившему ушедшего в Кострому великого князя Дмитрия Ивановича. Гибель этого литовца сломила, якобы, сопротивление Москвы. В новой редакции этой повести о Тохтамыше в своде Фотия с особенным вниманием рассказывается о московских купцах-гостях — «сурожанах» суконниках и др. Они названы поборниками земли Русской; против них, главным образом, направлена ненависть татар. Литовский князь Остей не выступает уже защитником Москвы от Тохтамыша, как в своде Киприана: сами горожане оберегают город. В повествование введен новый рассказ о подвиге суконника Адама, который, заметив с Фроловских (Спасских) ворот кремля важного татарского князя, попал ему из самострела прямо «в сердце его гневливое». Взять Москву Тохтамышу удалось лишь при помощи измены в русском стане и ложными, вероломными обещаниями. Демократический характер этой переделки несомненен. Версия эта носит следы фольклорного происхождения: былины знают горького пьяницу Василия Игнатьевича, который в Киеве со стены города поражает стрелами трех знатнейших татарских вельмож. Таким образом, идея единства Руси вошла в московские летописные своды вместе с демократическими тенденциями. Действия великого князя московского обсуждаются в них с точки зрения соответствия их задачам общенародной политики. В этом последнем отношении чрезвычайно показательна неясная по своему происхождению, возможно составленная в Твери, пространная и витиеватая повесть о походе на Москву татарского хана Эдигея (1408). Повесть резко заострена против политики московского великого князя, пригласившего к себе на помощь татар и приютившего «ляха» Свидригайло. Когда пограничные отряды Эдигея пришли, чтобы помочь русским против Витовта, «сгарци же сего не похвал шла, глаголюще: „Добра ли се будеть дума юных наших бояр, иже приведоша половець на помощь?“».136 Летописец осуждает князей, которые наводят на Русь половцев-татар. Но особенному осуждению подвергся в летописи великий князь Василий Дмитриевич за то, что отдал Свидригайлу, «ляху верою», кафедральный город митрополита всея Руси — Владимир. В повесть вставлена похвальная характеристика города Владимира как стола Русской земли, «мати градом» русским, города пречистой богоматери, в котором «князи велиции Русстии первоседание и стол земли Русскыя приемлють».137 Резкому осуждению подвергнуты в повести и нерешительные действия русских войск. По поводу оставления великим князем Москвы вставлена цитата из псалма, не оставляющая никаких сомнений в цели ее применения: «добро есть уповати на Господа, нежели уповати на князя».138 Замечательно, что, желая оправдать свою резкую критику действий князя, летописец под конец повести ссылается на «начального летословца Киевского», который «временна богатства земская не обинуяся показуеть», и на великого Селивестра (одного из редакторов «Повести временных лет»), «не украшая пишущего». Ссылается летописец и на первых властодержцев русских, повелевавших без гнева «вся добрая и недобрая прилучившаяся написовати»,139 Эта небольшая приписка к повести об Эдигее, полной укоров и обличений, лучше всего показывает, какого широкого взгляда держался московский летописец на свою работу, какая острота политического обличения влагалась им в летописные своды начала XV в., и каким авторитетом пользовалась «Повесть временных лет». Со времени ее написания работа исторической мысли еще не была так интенсивна, как в этот период. Никогда еще работе летописцев и историческим концепциям не придавалось такого исключительного значения — значения государственной важности. Общенародный господствующий характер обращения после Куликовской битвы (1380) к временам независимости, к Киеву, к «Повести временных лет», к Владимиру как к городу, овеянному воспоминаниями, связанными с эпохой независимости Руси, ярко выступает не только в книжности. Сопоставление летописной работы начала XV в. с тем, что происходило в это время в области живописи и архитектуры, ярче всего демонстрирует, какого грандиозного размаха достигли в начале XV в. восстановительные тенденции. Конец XIV — начало XV вв. могут рассматриваться как эпоха возрождения, связанного с особым интересом к родной истории и к памятникам прошлого. Резкий перелом в области московского искусства наступил именно в княжение Дмитрия Донского. Архитектурные формы постепенно обнаруживали стремление к внешнему блеску, к пышности и богатству, как бы отражающим общий подъем народного самосознания после первых побед над татарами. С княжения Дмитрия Донского впервые в русской истории началась реставрация памятников, связанных с воспоминаниями об эпохе независимости Руси. Очевидно, что именно в княжение Дмитрия Донского Успенский собор во Владимире (1158) капитально ремонтировался и стал княжеским собором. Реставрационные работы особенно усилились в начале XV в. В 1403 г. обновлялся собор 1152 г. в Переяславле Залесском. В 1408 г. знаменитый русский живописец Андрей Рублев восстановил по приказанию московского великого князя древнюю домонгольскую живопись Успенского собора во Владимире.140 Реставрационные работы над памятниками домонгольской поры велись в Ростове, в Твери, в Звенигороде и т. д. Полоса этих реставраций тянулась вплоть до Ивана III, когда итальянский зодчий Аристотель Фиораванти построил центральную святыню нового русского государства — Успенский собор московского кремля, по образцу владимирского Успенского собора 1158 г. Тот же интерес к произведениям домонгольского периода характеризует и русскую книжность. Составлялись новые и вновь редактировались старые переводы произведений, известных еще с XI–XII вв.; во множестве создавались новые исторические сказания и повести, главным образом касающиеся борьбы с татарами. В течение всего XV в. мы встречаем усиленное подражание литературным произведениям эпохи независимости. Это обращение во всех областях культурной жизни Руси конца XIV — начала XV вв. ко временам независимости вызвало к жизни оригинальную историческую теорию, символически противопоставившую начало и конец татаро-монгольского ига. Читая и перечитывая «Слово о полку Игореве», как перечитывались в конце XIV в. «Повесть временных лет», «Киево-Печерский патерик», «Сказания о рязанском разорении», подвергшиеся в это время существенным переделкам, древнерусский книжник усмотрел в событиях «Слова» начало татаро-монгольского ига. Немалую роль в этом имело самое отожествление половцев и татар, типичное для московских летописных сводов.141 Такой взгляд на «Слово о полку Игореве», как на произведение о начале татаро-монгольского ига, побудил вскоре же после Куликовской победы противопоставить ему произведение о конце татаро-монгольского ига. Таким своеобразным «ответом» на «Слово о полку Игореве» явилась «Задонщина». Автор «Задонщины» имел в виду не бессознательное использование художественных сокровищ величайшего произведения древней русской литературы — «Слова о полку Игореве», не простое подражание его стилю (как это обычно считается), а вполне сознательное сопоставление событий прошлого и настоящего, событий, изображенных в «Слове о полку Игореве», с событиями современной ему действительности. И те и другие символически противопоставлены в «Задонщине». Чтобы пояснить читателю эту идею, автор «Задонщины» предпослал ей предисловие, составленное в эпически-былинных тонах. На пиру у воеводы Микулы Васильевича великий князь Дмитрий Иванович обращается к «братии милой» с предложением пойти на юг, взойти на горы киевские, посмотреть на славный Днепр «и оттоле на восточную страну, жребий [удел] «Симов», от которого родились татары: «те бо на реце на Каяле одолеша род Афетов [русских], оттоле Русская земля сидит невесела, от Калатьския [Каяльская] рати до Мамаева побоища тугою и печалию покрышася, плачущися, чады своя поминаючи». «Снидемся, братия и друзи и сынове русские, составим слово к слову, возвеселим Русскую землю, возверзем печаль на восточную страну, в Симов жребий» [т. е. на татар], — приглашает автор «Задонщины» в начале своего произведения. Дальнейшее описание событий битвы на Дону имеет в виду именно это — «возвеселить Русскую землю», «ввергнуть печаль» на страну татар. В «Слове о полку Игореве» грозные предзнаменования сопровождают поход русских войск: волки сулят грозу по оврагом, орлы клёкотом зовут зверей на кости русских, лисицы лают на щиты русских. В «Задонщине» те же зловещие знамения сопутствуют походу татарского войска: грядущая гибель татар заставляет птиц летать под облака, часто граять воронов, говорить свою речь галок, клекотать орлов, грозно выть волков ж брехать лисиц. В «Слове» — «дети бесови [половцы] кликом поля перегородиша»; в «Задонщине» — «русские же сынове широкие поля кликом огородиша». В «Слове» — «чрьна земля под копыты» была посеяна костьми русских; в «Задонщине» — «черна земля под копыты костьми татарскими» была посеяна. В «Слове» — кости и кровь русских, посеянные на поле битвы, всходят «тугою» «по Русской земли»; в «Задонщине» — «уже бо восстона земля татарская, бедами и тугою покрыся». В «Слове» — «тоска разлияся по Русской земли»; в «Задонщине» — «уже по Русской земле простреся веселие и буйство». В «Слове» — «а погании с всех стран прихождаху с победами на землю Русскую»; в «Задонщине» же сказано о татарах: «уныша бо царей их веселие и похвала на Русскую землю ходити». В «Слове» — готские красные девы звенят русским золотом; в «Задонщине» — русские жены «восплескаша татарским златом». «Туга», разошедшаяся в «Слове» после поражения Игоря по всей Русской земле, сходит с нее в «Задонщине» после победы Дмитрия. То, что началось в «Слове», кончилось в «Задонщине». То, что в «Слове» обрушилось на Русскую землю, в «Задонщине» обратилось на ее врагов. Итак, начало того исторического периода, с которого Русская земля «сидит невесела», автор «Задонщины» относит к битве на Каяле, в которой были разбиты войска Игоря Севзрского. «Задонщина» повествует, следовательно, о конце этой эпохи «туги и печали», о начале которой повествует «Слово о полку Игореве». Отсюда преднамеренное противопоставление в «Задонщине» конца — началу, битвы на Дону — битве на Каяле, победы — поражению, и преднамеренное сопоставление Каялы с Калкой, половцев с татарами. Отсюда внешнее сходство произведений, проистекающее из исторических воззрений автора «Задонщины», типичных для своего времени. Обращение к стилю «Слова о полку Игореве» входит, следовательно, в самый замысел «Задонщины», как идеологическое освещение тех событий, начало которых автор «Задонщины» видел в битве на Каяле— Калке, а конец — в битве на Дону. Таким образом, стилистическая близость «Слова о полку Игореве» и «Задонщины» не является результатом творческого бессилия автора «Задонщины» — это вполне сознательный прием: на фоне стилистического единства «Слова» и «Задонщины» ярче и острее должно была казаться самое противопоставление двух событий — прошлого и настоящего. Куликовская битва рассматривается, следовательно, в «Задонщине» как реванш за поражение, понесенное войсками Игоря Святославича на реке Каяле, сознательно отожествляемой автором «Задонщины» с рекой Калкой, поражение русских на которой в 1224 г. явилось первым этапом завоевания Руси татарами. Эта идея реванша, как и самая идея обращения ко временам независимости Руси, сказавшаяся и в письменности, и в архитектуре, и в живописи, и в политике, имела глубоко народный характер. В этом убеждает русский былевой эпос, русские былины, где эти же идеи сказались в полной мере. Есть основание полагать, что сложение русского былевого эпоса в единый киевский цикл произошло не позднее середины XV в. Хотя главные сюжеты былинных песен о князе Владимире относятся еще к домонгольским временам (например сюжеты, связанные с Добрыней, исторически засвидетельствованные «Повестью временных лет»), однако присоединение к ним сказаний рязанских, тверских, муромских, ростовских не могло совершиться до объединения этих областей в единое государство. В то же время создание этого цикла явно не могло произойти и после присоединения Новгорода к Москве, так как новгородские былины составили особый цикл, вернее они не вошли ни в какой цикл: новгородские былины остались без того объединяющего лица, которое получили былины киевские, ростовские, рязанские, московские, сгруппировавшиеся вокруг «старого Владимира» «Красного Солнышка». Следовательно, сложение киевского цикла не могло произойти и позднее 1479 г. — года воссоединения Новгорода и Москвы. Косвенное указание на время расцвета русского былевого эпоса и создания киевского цикла былин дают московские летописные своды XV в., в которые были включены отражения различных былинных сюжетов. В частности, чрезвычайно показательны отражения в московских летописных сводах сюжетов, героем которых был ростовский богатырь Александр (Алёша) Попович. Первоначально Александр Попович, поскольку это выясняет анализ летописных сюжетов с его участием, — один из «храбров» Всеволода Большое Гнездо. Александр — житель Ростова, со смертью Всеволода он переходит на службу к его сыну Константину. Боевые подвиги Александра связаны с борьбой за наследство Всеволода между его сыновьями. Он — главный герой Липецкой битвы. Сказания о нем, сложившиеся до XIV в., тесно связывают его имя с урочищами Ростова. Эти сказания, повидимому, первоначально распространялись только в Ростово-Суздальской земле. С ослаблением центробежных областнических, узко местных тенденций в конце XIV — начале XV вв., с ростом сознания общерусского единства Александр Попович теряет черты местного ростовского герой и становится героем общерусским. Параллельно реальному политическому объединению русских земель создаются произведения, объединяющие русских богатырей, начинающих служить общерусским интересам. Создается сюжет об отъезде Александра Поповича из Ростова во главе других русских храбров, отказывающихся от служения местным князьям. Александр Попович и все русские князья приезжают в Киев — мать городов русских — и служат «единому» русскому князю Мстиславу Романовичу, а затем гибнут в Калкской битве. В летописном своде Фотия (1418 или 1423), в известии о смерти в битве на Калке Александра Поповича и «инех» 70 храбрых можно видеть древнейшее отражение в средневековой письменности эпического сюжета о гибели богатырей. Это один из древнейших этапов сложения былин в единый цикл, один из основных и первоначальных сюжетов, рисующих объединение богатырей (объединение, правда, перед лицом смерти, объединение в гибели за общерусское дело). Недовольство княжеской властью в конце XIV и начале XV вв. (эпоха усобиц) нашло отражение в летописи в резко отрицательном изображении киевского князя Мстислава Романовича (см. так называемый Тверской сборник). Однако рост политического значения княжеской власти в XIV и XV вв., выдающаяся роль московских великих князей в политическом объединении Руси приводят к переосмыслению роли и личности князя в былинных сюжетах. Соответственно этому уже во второй половине XV в. в былинных сюжетах об Александре Поповиче место ничтожного князя Мстислава Романовича занимает идеализированный русской летописью, книжностью и народом в целом — Владимир Мономах, собиратель русских богатырей и официальный родоначальник московских великих князей, собирателей Русской земли. Александр Попович на службе у Владимира Мономаха удачно обороняет Киев от половцев (Никоновская летопись под 1103 г.). Последний этап создания сюжетов об Александре Поповиче, засвидетельствованный летописью для первой половины XVI в., застает Александра Поповича при главной притягательной силе Киевской Руси — Владимире I Святославиче, совместно с другими русскими богатырями защищающим Киев от печенегов. К 1550-м годам (время составления Никоновской летописи) этот цикл развития былинных сюжетов об Александре Поповиче может считаться завершенным. Таким образом, исторические предания об Александре Поповиче и по характеру своей распространенности и по характеру своих сюжетов развиваются от узко местного эпоса к общерусскому. Местные сказания, приуроченные к определенным ростовским урочищам, превращаются в общерусские героические сюжеты с весьма обобщенным содержанием. Развитие былинных сюжетов об Александре Поповиче идет параллельно развитию и росту общенародного самосознания. Это положение справедливо и для истории ряда других былинных сюжетов. История сюжетосложения былин об Александре Поповиче наглядно убеждает в том, что процесс циклизации былинных сюжетов вокруг Киева и Владимира «Красное Солнышко» отнюдь не являлся механическим процессом, подчиненным бессознательным законам народной памяти. Историческая школа в изучении былин (Вс. Миллер, М. Халанский, Н. Дашкевич, А. Лобода, А. Марков, Б. Соколов и др.) ставила себе целью связать русские былины с подлинными историческими фактами, с определенными историческими лицами. Вся последующая история былинных сюжетов, в том числе и циклизация их вокруг Киева, рассматривалась исторической школой, как постепенное обесценивание и затухание памяти об этом историческом ядре — историческом факте, легшем в основу былины. Анализ исторического развития былинных сюжетов, поскольку оно отразилось в летописи, позволяет говорить об обратном: не о ниспадающей линии развития эпоса, а о восходящей. Возникнув на основе местного исторического припоминания, сюжет героического эпоса постепенно поднимается до обобщающих представлений об исторических судьбах родины и выходит за пределы своей местности, становясь достоянием всего народа. Это объясняется в первую очередь тем, что развитие эпоса самым тесным образом связано с историческими воззрениями народа. Эта мысль была в свое время отчетливо выражена таким непревзойденным знатоком русского эпоса и древней русской письменности, как Ф. Буслаев: «… русский народный эпос служит для народа неписанною традиционной летописью, переданной из поколения в поколение в течение столетий. Это не только поэтическое воссоздание жизни, но и выражение исторического самосознания народа».142 Таким образом, историческая концепция русского эпоса отнюдь не случайна: ее создание диктовалось исторической необходимостью; она представляла собой живой отклик народа, активно воспринимавшего события своего времени, на судьбы родины. Исторический эпос — «исторический не в том смысле, что в нем выведены действительные исторические лица, а в том, что в формах прошлого он выразил народное настроение настоящего».143 История сюжетосложения былин — история постепенного вхождения их в киевский цикл. Она наглядно показывает, что в киевском цикле отразилась прежде всего идея единства Руси, идея единства русского народа. И князь Владимир и Киев, в котором собираются все местные русские богатыри, являются в нем символами русского единства и русской независимости. На службе у князя Владимира русские богатыри, Илья Муромец, Добрыня Рязанич, ростовский житель Александр Попович и др., обороняют Русскую землю от степных кочевников, стоят на пограничной заставе, зорко всматриваясь в степную даль, и неизменно одерживают победы над врагами Руси. Объединение местных областных сказаний в единый киевский цикл вокруг князя Владимира совершилось в былинах на почве того же культа Киева и его князя Владимира, который заставлял москвичей на рубеже XIV и XV вв. восстанавливать домонгольские здания, реставрировать домонгольскую живопись, подновлять и давать новые редакции произведениям Киевской Руси, возводить генеалогию московских князей к «старому Владимиру» и т. д. Объединение русских былин в киевский цикл было, следовательно, вполне аналогично объединению областных летописей в грандиозных московских летописных сводах с киевской «Повестью временных лет» во главе. Культ Киева и его князя Владимира был культом национальной независимости и в русской книжности и в фольклоре. Подобно тому как «Задонщина» была вся проникнута идеей реванша и мести за нанесенные русским поражения, русские былины, воспевавшие неизменные победы русских богатырей над татарами, жили той же идеей мести и реванша. Смешение половцев и татар, как общих врагов Руси, в книжности и фольклоре далеко не случайно: и книжность и фольклор жили в основном единой мыслью в эпоху объединения русских областей и борьбы с татаро-монгольским игом. >VI ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА С МОСКВОЮ НОВГОРОДА И ТВЕРИ >Наряду с подъемом объединительных идей в Москве, росло и идеологическое сопротивление ей отдельных русских областей. Чем круче была политика Москвы, тем ожесточеннее было это сопротивление. Но знаменательно, что, противопоставляя Москве свои политические теории, области вынуждены были считаться с достижениями исторической мысли Москвы и безоговорочно принимали некоторые из ее идей. Чем ярче разгоралась борьба Москвы с Новгородом и Тверью, тем яснее становилась победа идеи общерусского единства. Под конец борьба шла уже не между центробежными и центростремительными силами в русской жизни: боролись областные центры с Москвою за возглавление того общерусского единства, которое уже всеми считалось одинаково необходимым. В идейной борьбе Новгорода и Твери с Москвою рождались новые исторические произведения, необычайно рос интерес к родной истории. Так, в самом сопротивлении Москве рождались предпосылки для объединения с нею. >1 Объединительная политика Москвы встретила чрезвычайно сильное сопротивление новгородского боярства, опасавшегося потерять свои обширные земельные владения, и крупного новгородского купечества, боявшегося конкуренции Москвы в торговле с Западом. Новгородское государство становилось всё более и более реакционной силой в русской жизни, сопротивлявшейся объединительной политике московских великих князей. Новгородское ушкуйничество нарушало московскую торговлю севера и северо-востока; неспокойная новгородская политика грозила постоянными неожиданностями. Однако в самом Новгороде, как и в других русских областях, увеличивалось «в населении количество таких элементов, которые прежде всего желали, чтобы был положен конец бесконечным, бессмысленным войнам, чтобы прекращены были раздоры феодалов, приводившие к тому, что внутри страны шла непрерывная война даже в том случае, когда внешний враг был в стране, чтобы прекратилось это состояние непрерывного и совершенно бесцельного опустошения, которое неизменно продолжало существовать в течение всего средневековья».144 Демократические низы Новгорода явно тяготели к Москве, к сильной великокняжеской власти, в которой надеялись найти опору против боярства. В разное время сторонники подчинения Москве находили себе в Новгороде путь к власти, но в полной мере ни партия новгородских сепаратистов (так называемая литовская), ни партия сторонников Москвы не смогли возобладать на зыбкой почве новгородского «народоправства». Конец XIV в. характеризуется крайним обострением борьбы Москвы с Новгородом. Эта борьба стала особенно напряженной в 90-х годах XIV в., в связи с отказом новгородцев выезжать на суд к московскому митрополиту. По старому, испытанному еще в XII в. пути, новгородское боярство посылало послов с жалобой в Константинополь, угрожало Москве переходом в латинство, клялось на вече не судиться у митрополита. Только после того, как войска великого князя захватили Торжок и начали опустошать новгородские волости, новгородцы изъявили покорность. Новый перевес дало новгородской литовской партии замешательство в церковных делах первой половины XV в., приведшее к образованию двух враждебных митрополий: московской и киевской. Оно позволило новгородскому боярству вести двойную политику и постоянно добиваться от Москвы уступок угрозами подчиниться киевскому митрополиту. С этой поры церковный вопрос в Новгороде приобрел первостепенное политическое значение. Пользуясь смутою в церковных делах, Евфимий II Новгородский получил «поставление» в Смоленске у киевского митрополита Герасима, и это дало Новгороду независимость от московской церкви. В Новгороде приобрели значительную силу антимосковские настроения. Архиепископ Евфимий II активно способствовал западному влиянию и оказывал покровительство иностранцам. «От странных же или чуждых стран приходящих всех любовию приимаше, всех упокоиваше, всех по достоинству миловаше», — говорит о нем Пахомий Серб. Показателем новгородской политики служит то, что в Новгороде находили убежище противники московского великого князя — Дмитрий Шемяка и Василий Гребенка. Новгородское боярство обращалось к прошлому Великого Новгорода, чтобы в нем найти опору в борьбе против Москвы. Так же, как и в Москве, это обращение к прошлому сказалось в усиленном развитии летописания, в целом ряде реставрационных работ, в попытках оживить историческое предание, связанное с героическими страницами в жизни родного города. Во второй четверти XV в. началась беспокойная строительная деятельность архиепископа Евфимия II. Он обстроил новыми зданиями владычный двор Детинца, строил на Софийской и Торговой сторонах, строил в Старой Руссе, в Вяжищах, в Хутыне и т. д. Ко времени Евфимия II относятся здания светского и промышленного назначения, церкви и правительственные палаты. Особое место в строительной деятельности Евфимия II занимало возрождение новгородских архитектурных форм XII в. — века наибольшего расцвета новгородской торговли и внешнего могущества. В 1454 г. Евфимий II реставрировал церковь Ивана на Опоках (братчины Иванщины), первоначальной постройки 1127–1130 гг. В 1455 г. он строил «на старой основе» церковь Ильи на Славне, первоначальное здание которой относилось к 1198–1202 гг. В 1442 г. Евфимий II «на старой основе» 1198 г. ставил Преображенский собор в Старой Русое. На старой же основе XII в. восстанавливались церкви Бориса и Глеба (1445), Жен-мироносиц (1445), Борогодицы на Торгу (1458) и др.145 Евфимий II возродил строительные приемы монументальной архитектуры XII в., напоминавшие своими выразительными и внушительными формами о былом величии Новгорода. Разнообразной строительной деятельностью Евфимия II восхищался Пахомий Серб, в восторженных выражениях описавший выстроенные Евфимием храмы Детинца, которые «яко звезды или горы» стоят вокруг Софии. Массовое восстановление Евфимием II старых церквей XII в. связано с одновременным установлением культа «преждеотшедших» новгородских архиепископов, с возрождением летописного дела, с созданием цикла литературных произведений об архиепископе Иоанне, при котором новгородцы в 1170 г. отбили от стен Новгорода войска северо-восточных княжеств, что в XV в. служило как бы символом неприступности Новгорода для посяганий Москвы. Около 1432 г. был составлен в Новгороде обширный летописный свод «Софийского временника», который должен был дать новую историческую концепцию, поставив в центр русской истории историю Великого Новгорода. Однако, вскоре после составления свода 1432 г. «Софийского временника», в Новгороде стал ясен и его основной недостаток, не позволявший ему конкурировать с обширными московскими летописными сводами начала XV в. В то время как московское летописание было в подлинном смысле этого слова общерусским, объединяло в своем составе известия самых разнообразных областей и освещало историю всего русского народа в целом, новгородский «Софийский временник» но составу своих известий оставался все же летописью узко новгородской. Поэтому при том же Евфимии II в 1448 г. было предпринято составление нового летописного свода. Свод 1448 г. был первым новгородским сводом с ярко выраженным общерусским характером. Это далеко уже не узкая местная летопись, редко выходящая за пределы родного города, какой была новгородская летопись в предшествующие столетия. Свод 1448 г. описывает судьбу русского народа в целом, хотя преимущество попрежнему отдает Новгороду и в нем видит, очевидно, центр событий русской истории. Знаменательно, что в основном этот общерусский характер свод 1448 г. приобретает в результате заимствования общерусских известий из московского летописного свода Фотия 1418 или 1423 г. Стремясь создать историческую и политическую концепцию, противостоящую московской, Новгород все же опирался на Москву, на ее книжность, считался с достижениями ее исторической мысли и принимал общерусский характер ее трактовки предшествующего летописания. Так, идеи Москвы находят себе признание даже у ее врагов. Однако, в противоположность московским летописцам конца XIV — начала XV вв., нередко оценивавшим события с точки зрения демократических городских слоев населения, составитель свода 1448 г. во многих случаях проявил себя как представитель интересов боярской партии — владычнего двора. Он с осуждением отнесся к черному люду — к «голодникам», «ябедникам»146 и к городским волнениям. Свод 1448 г. имел обширный успех в русском летописании. В Новгороде на его основе создается еще ряд сводов. Историческая мысль работала с чрезвычайной интенсивностью. Летописные своды с настойчивой последовательностью создавались один за другим, но самостоятельной и законченной новгородской исторической концепции, подобно московской, всё же не получилось. Содержание новгородских летописей, стремившихся соединить достижения исторической мысли Москвы с антимосковскими тенденциями правящей верхушки Новгорода, осталось таким же противоречивым, как противоречива была и сама новгородская жизнь. >2 Попытки новгородского боярства опереться на прошлое Великого Новгорода, возродить старые, еще домонгольские традиции нашли себе место не только в новгородском летописании. В 1436 г. в церкви Усекновения главы в Новгородском Детинце упавший сверху камень пробил «велию скважину», в которой обнаружилось «нетленное» тело неизвестного святого. Известили Евфимия. «Убедившись» в нетленности мощей, Евфимий начал молить Бога: «да явит имя, кто есть». В ту же ночь «явился» Евфимию архиепископ Иоанн, открылся, что мощи принадлежат ему, и велел «праздновать себя» каждое 4 октября. Иоанн (1163–1186) — первый официальный новгородский архиепископ. Он был известен в Новгороде, главным образом, как лицо, при котором в 1170 г. произошло «чудесное» спасение города от подступивших к нему войск северо-восточных княжеств, отожествлявшихся в Новгороде в XV в. с Москвой. Само собой разумеется, что открытые так кстати упавшим камнем мощи Иоанна были торжественно водворены в Софийском соборе, и почитание этого новоявленного святого приобрело формы почти политической демонстрации. Вокруг архиепископа Иоанна и «чуда» спасения Новгорода от войск суздальцев возник цикл легенд, своего рода культ новгородской независимости. Основание культа новгородских святых и возвеличение новгородского прошлого подкреплены были несколько позднее и другой легендой. Под 1439 г. летопись сохранила сказание пономаря Аарона.147 В одну из ночей пономарь Аарон увидел, как в церковь Софии «прежними дверьми» (очевидно теми, которыми перестали пользоваться) вошли все «преждеотшедшие» новгородские архиепископы, молились в алтаре и пред иконою Корсунской божьей матери. Пономарь рассказал о своем видении Евфимию, и тот «бысть радостен о таковом явлении», повелел служить панихиду по всем новгородским архиепископам, а затем установил и более регулярное чествование своих предшественников. Выходило так, что не Евфимий II насаждал почитание новгородских святых и воскрешал память о забытых временах новгородского расцвета, а само прошлое напоминало о себе. «Преждеотшедшие» архиепископы молились за Новгород, объявляли свои мощи и т. д. Новгородская боярская партия настойчиво искала в новгородском прошлом опоры для своих притязаний на независимость и отъединенность от Москвы. Евфимий II пригласил с Афона знаменитого ритора Пахомия Серба и заказал ему литературное изложение легенды о чудесном спасении Новгорода при архиепископе Иоанне от войск суздальцев в 1170 г. Простую и непосредственную новгородскую легенду Пахомий «удобрил» витиеватым красноречием, придав ей пышность и назидательность, усилив элемент чудесности. Заканчивалось описание «чуда» спасения Новгорода от войск северо-восточных княжеств в изложении Пахомия молитвой, трафаретные заключительные строки которой должны были звучать особенно остро в политической обстановке половины XV в.: молитва завершалась прошением об избавлении «града нашего [Новгорода] от глада, губительства, труса [землетрясения], потопа и нашествия иноплеменников».148 В этот первый свой приезд в Новгород Пахомий написал, кроме того, службу новгородскому святому Варлааму Хутынскому, похвальное слово ему же и житие Варлаама. Культ новгородских святых обставлялся, как видим, необходимой пышностью. Таким образом, торжественное восстановление авторитета родной старины, начатое Москвою, было подхвачено ее политическим противником — Новгородом, новгородским боярством. Чем ожесточеннее была идеологическая борьба Москвы и Новгорода, тем яснее становилась победа общерусского сознания, тем ближе в конечном счете становилась и идейная победа Москвы, как наиболее последовательного носителя общенациональных традиций. >3 Но уже и в самом Новгороде идеи Москвы находили всё большее число сторонников. К концу 50-х годов XV в., в результате победы московского великого князя над новгородским ополчением и заключения невыгодного для новгородского боярства мира, перевес Москвы настолько определился, что представителям боярской партии в Новгороде приходилось думать только о политике отсрочки, по существу, неизбежного конца новгородской независимости. Росло и сочувствие демократических слоев населения Новгорода Москве. Роль заступника и постоянного ходатая за Новгород перед московским великим князем принял на себя избранный после смерти Евфимия II архиепископ Иона, искусно лавировавший между крайностями литовской боярской партии и энергичным натиском Москвы. Иона ознаменовал свое архиепископство целым рядом предприятий, клонившихся к закреплению мирных отношений с Москвой. В житии Ионы отмечено, что «московьстии князи много любяху его и со благоговением почитаху, и писания множицею посылаху к нему и от него въсписания желанно приимаху».149 Иона установил в Новгороде культ московского святого Сергия Радонежского, выстроил ему церковь (1463), ездил в Москву, где слезно заступался за новгородцев перед великим князем. При Ионе вторично прибыл в Новгород Пахомий Серб. Иона, как и Евфимий II, заказал Пахомию различные церковные службы и при этом, наряду со службами новгородским святым заботился и о службах святым, имевшим общерусское значение. Особенный интерес имеет заказанное Ионой Пахомию «Сказание о чуде преподобного Варлаама Хутынского» (1460). «Чудо это, случившееся в первый же год архиепископства Ионы, было весьма симптоматично. Во время приезда в Новгород московского великого князя Василия Васильевича умер его постельничий Григорий Тумган. Привезенный ко гробу новгородского святого Варлаама, постельничий «воскрес». Так же, как и открытие мощей архиепископа Иоанна при Евфимии II, инсценировка воскрешения постельничего московского великого князя у гроба новгородского святого не была случайной: новое «чудо» знаменовало собой временный перелом в новгородской политике и стояло в связи с новгородской дипломатией, стремившейся расположить к Новгороду великого князя Василия Васильевича. Заказывая описание этого «чуда», Иона имел в виду внушить московскому князю уважение к новгородским святыням, примирить его с Новгородом. Предназначенное для такой цели «Сказание» написано в духе московских взглядов. Оно именует Василия Васильевича «благочестивым и благоверным великим князем володимерским и московским и новгородским и всея Руси», а Новгород — вотчиной великого князя. Впоследствии, когда отношения Новгорода с Москвой вновь обострились, послушный исполнитель воли своих заказчиков Пахомий Серб переделал свое произведение согласно с требованиями момента: пышное титулование московского великого князя было замшено более простым — «благочестивый великий князь», а место, в котором говорилось о Новгороде, как о вотчине великого князя, было опущено. К эпохе усиления московских тенденций в Новгороде (в самой средине XV в.) относится житие яркого представителя московской демократической партии в Новгороде — Михаила Клопского. Москвич по происхождению, родственник московских великих князей, Михаил избрал местом своего монашеского пребывания небогатый новгородский Клопский монастырь, игумена которого Феодосия низы новгородского населения одно время даже избрали в архиепископы. Житие, демократическое по своим тенденциям, обильно эпизодами враждебного отношения монастыря к посадникам, к укрывавшемуся в Новгороде неудачному конкуренту московского великого князя Дмитрию Шемяке, и вместе с тем, в отличие от велеречивых и витийственных произведений Пахомия, выполнявшего заказы боярской партии, носит демократический, просторечный характер со следами влияния фольклора. О новгородском князе Михаиле Олельковиче, ставленике Литвы, Михаил Клопский говорит: «то у вас не князь — грязь», советует покориться московскому великому князю, «предрекает» торжество Москвы. Таким образом, еще до завоевания Новгорода Москвою в Новгороде зрели идеи общерусского единения под верховенством Москвы. Сама новгородская старина, вызванная к жизни сторонниками литовской боярской партии, восставала на новгородскую независимость. Разбуженный интерес к родной истории подсказывал идею общерусского единства. >4 В эпоху походов Ивана III ожесточение борющихся партий в Новгороде — литовской и московской — достигло крайней ступени. Новгородское летописание утратило свою организованность и систематичность. Летописи велись по инициативе представителей обеих враждующих партий, дополнявших и расширявших списки, начатые их предшественниками. В этих дополнениях нет единства между отдельными летописцами ни в политических взглядах, ни в круге отмечаемых ими событий, ни в стиле и манере изложения. Летописцы то ограничивались одними лишь новгородскими событиями, то вводили сведения общерусского значения; иногда эти известия кратки и сдержанны, но иногда же речисты и витийственны. Те части новгородской летописи, которые отличаются традиционным новгородским лаконизмом стиля, лишены, однако, чеканности летописного языка XII–XIII вв. Летописец терял присущее ему спокойствие тона, как только подходил к предметам, близко касавшимся его политических убеждений, и разражался в этих случаях многословными тирадами против своих политических врагов всюду, где находил это возможным. Летописец, дополнивший один из списков Новгородской IV летописи (Строевский), так отчитал сторонника московского великого князя Упадыша, забившего железом пять новгородских пушек при приближении к Новгороду московского войска: «како не вострепета, зло мысля на Великий Новъгород, не сытый лукавъства? не мъзды ли ради предаеши врагом Новъгород, о Упадышче, сладкого брашна вкусил в Великом Новеграде? О, колика блага не намятив, недостаточное ума достигл еси!.. Уне бы ты, Упадыше, аще не был бы во утробе матерьни: не бы был наречен предатель Новуграду…»150и т. д. Не на одного Упадыша сетует летописец. Он осуждает «владычнь стяг» (полк новгородского архиепископа), который не хотел ударить на московскую княжескую рать, ссылаясь на то, что «владыка нам не велел на великого князя руки подынути». Осуждает летописец и тех новгородцев, которые перед битвой, с москвичами «вопили» на «больших людей», не желая сражаться: «Яз человек молодыи, испротеряхся конем и доспехом».151 «И бысть в Новегороди молва велика, и мятежь мног, и многа лжа неприазнена, сторожа многа но граду и но каменным кострам [башням] на переменах день и нощь. И разделишася людие: инии хотяху за князя [московского], а инии за короля, за Литовьского»,152 так описывает летописец волнения, вызванные поражением новгородского войска на Шелони. Иной характер носили дополнения Новгородской IV летописи по списку Дубровского. Помимо обилия в них московских и общерусских известий, список включил в свой состав такие направленные против новгородской независимости произведения, как «Словеса избранна от святых писаний»153 на новгородцев, «Послание митрополичье»154 против них же, московский рассказ о присоединении Новгорода с резкими выпадами против новгородцев и характерным заключительным проклятием новгородским «смутьянам»: «И та земская их беда и вся людцкая кровь да будетъ изысканна от Бога вседержителя, по писанному: Господи! зачинающих рать погуби. И то все на тех главах на изменных и на их душах, в сем веце и в будущем, аминь».155 Военные действия против Новгорода, а затем и борьба в Новгороде с остатками боярско-литовской партии внесли ненадолго черты озлобления и полемичности в произведения обеих партий. Эта борьба по мелочам, по текущим вопросам была лишена той широкой историко-философской аргументации, которой обладала литература предшествующего периода. >5 Московские порядки были введены в Новгороде в 1478 г. после вторичного похода, которому Иван III придал характер защиты русских интересов от изменников — новгородских бояр. Этот поход Ивана III был обставлен с чрезвычайной пышностью. Ни один из московских походов ни в прошлом, ни впоследствии не сопровождался такой усиленной пропагандой, таким обилием всяческих посланий, как новгородские походы Ивана III. Идеологическое состязание Новгорода и Москвы достигло в 70-х — 80-х годах XV в. особенной напряженности. Везя в обозе своих войск летописи и книжника, умевшего «говорить по летописцам русским» (новгородца Стефана Бородатого),156 Иван III готовился к сложной идеологической борьбе с Новгородом. Наступая на Новгород, Иван III явно не опешил, принимал по дороге перебежчиков и затягивал переговоры, очевидно, выжидая, чтобы московские интересы сами взяли верх в Новгороде. К этому у него были веские основания: так называемая литовская партия, составлявшая крайнее меньшинство, орудовала в Новгороде путем подкупов и террора, которые становились недейственными при одном приближении громадного войска великого князя. Чем ближе подступала к Новгороду великая рать московская, тем больше перебегало к ней новгородцев, обещавших служить великому князю верой и правдой. Присоединение Новгорода к Москве не сопровождалось стремлением к разрушению его культурных ценностей. Уничтожая новгородскую независимость, москвичи не считали себя завоевателями, точно так же, как и представители московской партии в Новгороде не рассматривали себя как врагов родного города. Уничтожение новгородской независимости понималось не как завоевание, а как воссоединение исконных русских земель под державой «боговенчанного» монарха «всея Руси». Сознание значительности одного из старейших русских городов постоянно ощущается в отношениях Москвы к Новгороду. Москва широко использовала новгородские летописи, приглашала к себе новгородских иконников и каменщиков, подчеркивала славу и величие великого Новгорода, исконную зависимость его от московских великих князей, усматривая новгородскую измену лишь в «последних летех». Постепенно Москва обстраивала новыми стенами Новгородский Детинец (кремль), возвратила в Новгород Софийскую казну, увезенную было Иваном III, перепланировала город, расширяя улицы, упорядочила городскую жизнь, наконец всячески пользовалась книжными традициями и богатствами Новгорода. В первой половине XVI в. в Новгороде наблюдалось возрождение организованной работы над летописью. В 1520 г. при архиепископе Макарии — будущем участнике «избранной рады» Грозного — здесь была составлена особая редакция Хронографа. В 1539 г. был создан новый свод новгородской летописи.157 При Макарии же в Новгороде составлялось грандиозное собрание житий русских святых, так называемые макарьевские Четьи-Минеи в 12 обширных томах. Стремясь найти в новгородском прошлом опору для нового порядка, Москва поддерживала культ представителя московской демократической партии в Новгороде — Михаила Клопского. Политическое значение этого культа видно хотя бы из того, что впервые в истории: древнерусской книжности составление нового жития этого святого было поручено светскому лицу — московскому чиновнику, сыну боярскому и «храброму воину» Василию Тучкову, который значительно усилил московский антипосаднический дух жития. В течение всего XVI и XVII вв. в Новгороде осуществлялся целый ряд общерусских культурных предприятий. Москва поддерживала книжность Новгорода, и сам Новгород в целом придерживался общерусской позиции; однако кое-какие отголоски идей боярско-литовской партии в церковной трансформации (новгородская церковная организация менее всего пострадала при разгроме Новгорода), как, например, идея совершенной самостоятельности новгородской церкви (легенда о белом клобуке), идея превосходства «священства» над «царством» и т. д., еще долго сказывались и в новгородской книжности и в новгородской жизни на протяжении всего XVI и XVII вв. >6 Идейное движение в Твери XV в. во многом аналогично идеологической борьбе Новгорода с Москвой. Так же, как и в Новгороде, в Твери происходит возрождение местных исторических традиций. Так же, как и Новгород, Тверь стремится создать свое местное патриотическое движение, противостоящее Москве, пытается найти опору своим сепаратистским устремлениям в своем прошлом. В Твери, как и в Новгороде, усиленно восстанавливаются старые, еще домонгольские постройки и возрождаются исторические предания эпохи национальной независимости. Однако в отличие от Новгорода, ограничивавшего круг своих исторических интересов местными преданиями, Тверь вслед за Москвой возрождает общерусские исторические традиции Киева. Тверские книжники втечение всего XV в. неоднократно обращаются к литературным произведениям Киевской Руси, переделывая их, редактируя их, переписывая и заимствуя из них для собственных сочинений отдельные образы и целые отрывки. Тверская литература обращается к патриотическому воодушевлению «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона, к широте исторической мысли «Повести временных лет», к оказаниям о князьях Борисе и Глебе, чей культ на протяжении многих веков связывается с политическими идеалами общерусского единства, к произведениям Кирилла Туровского и Киево-Печерскому патерику, пересоставленному в Твери в начале XV в. в новой, так называемой Арсеньевской редакции. Вместе с тем, тверская литература усваивает московские литературные произведения конпа XIV — начала XV вв. и опирается на достижения московской исторической литературы. Вслед за Москвой, в Тверском княжестве — усиленно ведется летописная работа. В 1409 г. составляется свод, пропагандировавший идею единства «Тверской земли» и необходимости примирения тверских и кашинских князей — наследников тверского великого князя Михаила Александровича. В 1455 г. по приказанию тверского великого князя Бориса Александровича составляется «Летописец княжения тверского». Главное и преобладающее внимание уделено в нем тверским событиям и пропаганде идеи самодержавности тверского князя Михаила Александровича. Он — «от богосадного корени доброплодная отрасль», он — «храбрость показа многу и грады многы взем: покоривыися любовию, а непокоривыа мечем». В своем политическом развитии Тверь значительно опережала Новгород. Политическая борьба тверских великих князей с сепаратистскими стремлениями кашинских князей воспитала в Твери мысль о политических преимуществах сильного единодержавного правления. Тверской свод 1455 г. весь проникнут мыслью о необходимости крепкой княжеской власти, о необходимости прекращения феодальных раздоров. И в этом отношении Тверь не только следовала за Москвою, но в некоторых своих идеях опережала ее. Так, раньше чем в Москве, в Твери создается теория самодержавной власти великого князя. Пользуясь временной слабостью Москвы в годы междоусобной борьбы за московское великое княжение, Тверь стремится взять на себя роль защитницы общерусских интересов, а тверской князь пытается быть представителем в Западной Европе всей Русской земли, как ее глава. Эта идеология ярко отразилась в замечательном похвальном «Слове» инока Фомы тверскому князю Борису Александровичу. Историческую обстановку создания «Слова» отчетливо обрисовал академик Н. П. Лихачев в своем труде «Инока Фомы слово похвальное» (1908, стр. IX–X): «В половине XV столетия еще продолжалось давнее соперничество Москвы с Тверью. Идея о царстве и царском наследии коснулась и Тверской области. Был как-раз необыкновенно благоприятный момент. Москва раздирается усобицами, законный князь то в плену, то изгнан, потом ослеплен. Только помощью Твери утверждается он на прародительском столе, заключив союзный и брачный договоры. Во главе княжества Тверского стоит деятельный и талантливый человек [Борис Александрович]. Временное процветание Твери оживляет заглохшую былую славу. Даже послы великой „Шавруковой“ орды идут в Тверь и минуют Москву. Из Византии же приходят печальные вести; после морального падения на нечестивом латинском соборе распространяются слухи о постепенном утеснении Царьграда агарянами [турками. 29 мая 1453 г. Царьград пал, православная вселенская монархия кончилась. Есть у латинян цари, сильные царства, но не может благодатное наследие царя Константина перейти к впавшим в ересь. Только на одной Руси сияет православие; кому же в Русской земле принадлежит наследие царства?.. Не князь московский, а боговенчанный царь Борис Александрович тверской настоящий наследник Византийской империи и „второй Константин“, благоверный православный самодержец…». Такова главная мысль «Слова». «Слово» инока Фомы подчеркивает величие и славу «Тверской земли». Тверская земля — богоизбранная страна, «Новый Израиль»; ее князь — «второй Константин». Имя тверского князя Бориса Александровича славимо повсюду — «от Востока и до Запада и до самого царствующего града». Авторитет тверского князя стоит высоко среди европейских монархов. Иноземные цари возносят ему хвалу. Инок Фома восхваляет храбрость Бориса Александровича и «дерзость сынов Тферскых». Борис Александрович — государь и «защитник наш». Фома подчеркивает силу княжеской власти Бориса, его единодержавство и утверждает богоустановленный характер княжеской власти, что впоследствии настойчиво станут проводить московские книжники. Великий князь Борис Александрович называется в «Слове» царствующим самодержавным государем, что само по себе было решительной новостью в русской политической мысли того времени. Борис Александрович «царскым венцем увязася» и сравнивается с Августом, с Львом Премудрым, с царем Птоломеем Книголюбцем, с Константином Великим, с царем Феодосием. Фома превозносит строительную деятельность Бориса Александровича, устройство им нового Тверского кремля и называет его «новым Ярославом» (Мудрым), что уже само по себе должно было говорить о стремлении Бориса Александровича сосредоточить в своих руках объединение Руси. «Слово» Фомы недвусмысленно выражало идею единства Руси, идею необходимости сильной монархической власти, впервые по-новому названной «царской». Сами по себе эти мысли «Слова» были глубоко прогрессивны; свидетельствуя о вполне созревшей повсюду мысли о необходимости создания единого национального государства. Но Москва имела большие исторические права на возглавление этого государства. Вскоре спор о том, кому стоять во главе объединенной Руси, был решен военной рукой Москвы. Тверской князь нарушил мирный договор с великим князем московским и вступил в переговоры с Литвой. В 1485 г. Иван III осадил Тверь, тверские бояре перешли на службу к Ивану III, тверской князь бежал в Литву, а тверичи целовали крест Ивану III. >VII РОССИЯ И ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В XVI в. >С конца XV в. объединенное Русское государство становится лицом к лицу с Литвой, Польшей, Ливонией, Швецией, Турцией, Ираном. Москва завязывает непосредственные отношения с европейскими странами: Австрией, Венгрией, Венецией, Римом, Германией, Данией. Русское правительство вступает в различные союзы со странами Западной Европы; оно вызывает архитекторов, ремесленников, горноделов, оружейных мастеров, которые вместе с русскими участвуют в общем прсмышленном подъеме страны. Деятельные сношения Русского государства с другими странами вызывают рост национального чувства, чувства гордости за свою родину. Тверской купец Афанасий Никитин, на 25 лет раньше западно-европейских путешественников проникший в Индию (1466–1472) и составивший о ней обстоятельные и умные записки, повидав многие страны, писал: «Да сохранит Бог землю Русскую! боже, сохрани ее! в сем мире нет подобной ей земли. Да устроится земля Русская».158 Русских путешественников и дипломатов, ездивших в Западную Европу в конце XV и XVI вв., всегда отличала крепкая уверенность в себе, в своем достоинстве представителей России. Русские дипломаты умело пользуются своею историческою ученостью и создают сложную теорию власти московских государей, высоко поднимавшую авторитет русского монарха над остальными европейскими королями и правителями. Это была творческая политическая идеология, направлявшая политику Русского государства по пути защиты национальных интересов, национальной культуры в сложной среде европейской цивилизации. Такова ведущая линия отношений России к Западной Европе в XVI в. >1 Не только Россия была заинтересована в конце XV–XVI вв. в деятельных сношениях с европейскими странами. Сами западно-европейские государства наперерыв стремятся к союзу с могущественной страной на Востоке Европы. Необычайные военные успехи Турции во второй половине XV в. вселили ужас и смятение в среду европейских народов. В 1453 г. после двухмесячной ожесточенной осады пал Константинополь. В 1459 г. была завоевана Сербия и обращена в турецкий пашалык. В 1460 г. турки завоевали Афинское герцогство и вслед за ним всю Грецию. В 1462 г. они захватили Лесбос и Валахию, в 1463 г. — Боснию, в 1467 г. — Албанию, а затем Герцеговину. В 1476 г. турки опустошили Молдавию, а в 1479 г. заключили победоносный мир с Венецией и Неаполем. Расцвет турецкого могущества на Востоке совпал с ростом силы и международного престижа молодого Русского государства. Иван III деятельно сносится с западно-европейскими государствами, и западные властители усиленно стремятся польстить самолюбию восточного государя обещаниями королевского титула и признанием за ним прав на константинопольское наследство. Западно-европейские государства всячески стремятся вселить Ивану III мысли о владычестве на Востоке, столкнуть Москву с Турцией и тем самым сделать Русское государство послушным орудием своей политики. Одно из первых мест в этих завязавшихся сношениях Западной Европы с Москвою принадлежало папе. Маня и соблазняя Ивана III византийским наследством, римская курия стремилась вовлечь Москву в общеевропейский союз для борьбы с исламом. Именно для этого и был задуман в Риме брак Ивана III с Софией Палеолог — племянницей последнего византийского императора Константина VIII. В пути византийскую принцессу сопровождал легат папы. В Риме надеялись приобрести в супруге царевны не только нового союзника против Турции, но и, возможно, нового члена католической церкви. Вскоре после брака Ивана III и Софии Палеолог сениория Венеции, всегда точная и осторожная в своих решениях, писала Ивану III, что Византия «за прекращением императорского рода в мужском колене должна принадлежать вашему высочеству в силу вашего благополучнейшего брака».159 Но Иван III не был склонен к войне с турками. В 1495 г. в Константинополе появились московские послы, чтобы обеспечить русским купцам беспрепятственную торговлю с Турцией. Попытки соблазнить Москву константинопольским наследием и вовлечь Русское государство в войну с Турцией особенно усилились при Василии III. В 1519 г. магистр прусского ордена сообщал Василию III через своего посла Дитриха Шонберга о желании римского папы «наияснейшаго и непобедимейшаго царя всеа Русии короновать в христьянского царя»160 с тем только, чтобы Василий III принял участие в антитурецком союзе. В ходе переговоров Шонберг говорил о союзе против «християнского врага Турка, кой держит наследие царя всеа Русии».161 Однако московские бояре отвечали Шонбергу, что Василий «хочет вотчины своее земли Русские»,162 и не приняли во внимание «костянтинополскую отчину»,163 на которую указывал им Шонберг. Ни Иван III, ни Василий III, ни Иван IV не были склонны к войне с Турцией из-за византийского наследия. Властители Запада напрасно обольщали себя надеждой общего с Москвою крестового похода против ислама. В Москве иначе смотрели на константинопольское наследие и нисколько не заботились о земельных приобретениях в Турции. Грозный не дал ответа австрийскому императорскому посольству 1576 г. на предложение «цесарства греческого» и титула «всходного цесаря» (царя Востока); он не дал его, несмотря ка все свое ревнивое отношение к признанию своего царского титула на Западе. Несмотря на состоявшийся брак Ивана III с Софией Палеолог, расчеты папской курии на то, что московские государи отныне будут считать себя наследниками византийских императоров, не оправдались. Московские государи ни разу не заявили своих прав на императорский титул, несмотря на то, что германский император Максимилиан I сам называл Василия III императором, и ни разу не обнаружили притязаний наследовать права Софии Палеолог на Византию. Пересматривая многочисленные доказательства прав, которые предъявляли московские великие князья на царский титул, мы нигде не найдем ссылок на получение этих прав через брак Ивана III с Софией Палеолог. Обращаясь к восточным патриархам за утверждением царского титула, Иван IV говорит о своем родстве с византийскими императорами, но ни разу не вспоминает своей бабки Софии Палеолог. Не упоминает о родстве московских великих князей с византийскими императорами через Софию Палеолог и официальная литература Москвы XVI в. — «Сказание о князех Владимирских», повести о Мономаховых регалиях и дипломатическая переписка Москвы. Это молчание официальной литературы XVI в. о правах Московского престола, полученных через брак Ивана III с Софией, находит себе соответствие в той крайней нелюбви народа к Софии, о которой единогласно свидетельствуют летописи, Курбский, Берсень-Беклемишев и даже иностранец С. Герберштейн. В Москве склонны были видеть в Софии царственную сироту, нашедшую себе приют в могущественном государстве, а не могущественную наследницу держанных прав Империи. В Софийской II и Воскресенской летописях, после описания похода Ивана III на Угру, летописец поместил воззвание к потомкам хранить независимость своего отечества. Это воззвание заключалось явным намеком на отца Софии — Фому Палеолога и на его сыновей, один из которых (Андрей) дважды безрезультатно приезжал на Русь торговать правами византийских императоров: «О храбрии, мужественной сынове Русьстии! потщитеся сохранити свое отечество, Русьскую землю, от поганых; не пощадите своих голов, да не узрят очи ваши пленения, и грабленное святым церквем и домом вашим, и убиения чад ваших, ж поругания женам и дщерем вашим. Якоже пострадаша инии велиции славнии земли от Турков, еже Волгаре глаголю к рекомии Греци, и Трализонь, и Амория, и Арбанасы, и Хорваты, и Боша, и Манкуп, и Кафа и инии мнозии земли, иже не сташа мужественней пошбоша и отечьство свое изгубиша н землю и государьство, и скитаются по чюжим странам беднл во истинну и странни, и много плача и слез достойно, укоряема н повоошаеми и оплеваеми, яко не мужествензии… Тако ми бога видех своима очима грешнима великих государь, избегших от Турков со имением и скитающиеся яко странни и смерти у бога просящих яко мздовъздаяния от таковыя беды».164 Ясно, кажется, что «избегшие от турков» и «смерти у бога просящие» родственники византийских императоров не могли упрочить блеск русских государей и что не на родстве с ними основывалась величественная идеология Русского государства. >2 Идею «греческого наследия» внушали русскому правительству не только западные державы. Сами греки, часто приезжавшие на Русь после падения Константинополя, греческие церковные власти, обращавшиеся на Русь за материальной поддержкой, проводили в своих домогательствах ту же «греческую идею». Суть ее в общих чертах заключалась в том, что с гибелью императорской власти в Византии единственным защитником православия и греков остается московский великий князь, к которому и должны были перейти все права и обязанности императора второго Рима — Византии. Греки — турецкие послы всячески стремились расстроить мирные отношения русских с Турцией; так было при султане Селиме и Сулеймане Великолепном. Особенно известен был этой своей изменнической по отношению к Турции политикой турецкий посол, грек по происхождению, Скиндер. Русские требовали смены Скиндера, но греческая партия была сильна в Турции: Скиндер оставался на своем посту и сыграл исключительную роль в провале идеи союза, что подтвердилось после его смены в Москве в 1529 г. Максим Грек систематически проводил идею освобождения Греции военной силой Русского государства. Он побуждал великого князя тем, что «бог грекам от отеческих престол наследника покажет»,165 т. е. тою же мыслью о правах московских князей на константинопольское наследство. Не чужда была той же идеи и среда русского духовенства, издавна воспитанная в политических представлениях византинизма. Именно в этой среде, близкой к грекам, зрела с конца XV в. мистическая теория движущегося Рима. Эта теория, возникшая на почве византийской теории всемирной супрематии императора второго Рима (Византии), пыталась перенести на московских государей византийские представления об императорской власти и рассматривала великих князей московских как законных и единственных наследников императоров Вечного Рима. Суть этой теории сводилась к следующему: в мире существует только одно христианское богоизбранное государство, которое не может пасть до скончания века — Вечный Рим. Но Рим этой теории — не неподвижный Рим, связанный с определенной территорией. Первый Рим пал, уклонившись в нечестие, потеряв чистоту христианской религии; второй Рим — Византия, примкнув в Флорентийской унии к первому, был завоеван турками. Отсюда родилась мысль, что Вечный Рим живет в каком-то новом государстве, оставшемся верным православию. И его искали то в Твери,166 то в Новгороде и, наконец, в Москве, необычайно быстрый рост которой совпал по времени с гибелью Византии. Естественно, что вся всемирно-исключительная роль, которая отводилась в Византии императору второго Рима как защитнику церкви и главе всех христиан, переходила теперь, с падением второго Рима, к главе третьего Рима — великому князю московскому. Эту теорию неоднократно внушали Василию III представители церкви. Дважды ее изложил в своих посланиях к Василию III старец Елеазарова монастыря Филофей, который, соответственно обычному титулу византийских, императоров «святой», называет Василия III167 «освященная глава»168 и применяет к нему другие обычные титулы византийского императора: «браздодержатель святых божиих церквей», «святыя православныя христианскыя веры содержатель» и др. Видя в Василии III главу всех ромеев, Филофей пишет ему: «един ты во всей поднебесной христианом царь»;169 а в другом послании: «един [есть] православный русский царь во всей поднебесной». Еще резче идея всемирной власти великого князя московского выражена Максимом Греком. Василия III Максим Грек называет «благочестивейший царю не токмо Русии, но всея подсолнечный».170 Однако теория, предложенная Филофеем Василию III, была резко отлична от творческой политической теории, направлявшей меч великокняжеской власти. В противоположность наименованию московских великих князей «едиными государями во всей подсолнечной», официальная терминология точно и определенно называла их великими князьями (или царями) «всея Руси». «Блестящее марево всемирной власти», которое пытались открыть перед московскими государями в заманчивой дали сторонники теории «Москва — третий Рим», никогда не прельщало московское правительство, неуклонно стремившееся к единой близкой и конкретной цели воссоединения «всея Руси».171 Русские великие князья упорно настаивали на своих извечных правах на царство и не желали принимать свой царский авторитет из Византии, позорно утратившей свою независимость. Не по наследству, не по милости греков получили русские монархи царский титул. Русские князья «изначала государи на своей земле». Эти идеи проводятся во всех официальных документах XV–XVI вв. в дипломатической переписке, посланиях, завещаниях, официальных речах и соборных постановлениях. Не случайно Иван Грозный говорил Поссевину: «Мы верим не в греков, а в Христа; мы получили христианскую веру при начале христианской церкви, когда Андрей, брат апостола Петра, пришел в эти страны, чтобы пройти в Рим, таким образом мы на Москве приняли христианскую веру, в то же самое время как вы в Италии, и с тех пор доселе соблюдали ее ненарушимою».172 Официальная литература московского правительства осталась чужда теории третьего Рима, как осталась она чужда и идее византийского наследства через Софию Палеолог. Мечта о Москве — третьем Риме никогда не была движущей силой московской дипломатии. Недаром Максим Грек упрекал русских в том, что они только «своих си ищут, а не яже вышняго».173 Особенно резкие различия в воззрениях греков и русских на значение царской власти сказались в придворных обрядах, выражавших несходные представления о власти обеих стран. Русские великие князья не назывались «святыми», они не принимали участия в богослужении в качестве духовных лиц, они допускали, чтобы во время обряда венчания на царство рядом с ними сидел митрополит, а впоследствии патриарх. Между тем, в Византии императору троекратно возглашалось «свят» во время обряда венчания, он занимал определенное место в богослужении, как духовное лицо, и в качестве такового благословлял народ и кадил в церкви. Он считался выше патриарха, стоявшего при нем во время обряда венчания. В византийском обряде не было обмена речами между иерархом и монархом. Между тем, в русском обряде венчания митрополит (а впоследствии патриарх) и государь обменивались речами, содержание которых знаменательно: после возглашения клиром многолетия венчанному государю митрополит (или патриарх) поучали царя «о полезных» — об обязанностях царя к Богу, к церкви, к царской власти и по отношению к народу. >3 В течение всего XIV и XV вв. для всех русских людей прекращение татарской зависимости и крепкое противоборство татарам были заветным желанием. В договорных грамотах между собой и в княжеских завещаниях, начиная с Дмитрия Донского, постоянно читалось: «переменит бог Орду», или татар.174 Летописи свидетельствуют, что когда Иван III колебался в решимости бороться с Ахматом (1480), мать и дядя великого князя, митрополит и все бояре «молиша его великим молением, чтобы стоял крепко за православное христианство против бесерменству».175 Уничтожение Иваном III зависимости от татар было тем грандиозным и долгожданным событием, с которым связан рост политической теории Русского государства. Сознание собственного достоинства, независимости от какой-либо земной власти и равноправия всем великим державам мира глубоко проникает в дипломатическую практику и политическую теорию русской монархии. Именно после прекращения зависимости от Орды (1480), а не после брака с Софьей Палеолог, начинает Иван III употреблять титул царя в международных отношениях с Любеком, Нарвою, Ревелем и магистром Ливонии.176 Послу германского императора Николаю Поппелю, вторично явившемуся в Москву в 1489 г. с предложением королевского титула, Иван III велел ответить: «мы божиею милостью государи на своей земле изначала, от первых своих прародителей, а поставление имеем от бога, чтобы нам дал бог и нашим детям и до века в том быти, как есмя ныне государи на своей земле, а поставления, как есмя наперед сего не хотели ни от кого, так и ныне не хотим».177 Перед иностранными властителями предстал государь, полный сознанием достоинства своей страны. Именно с года прекращения татарской зависимости растет пышность церемониала московского, появляются новые придворные должности,178 новый посольский обряд. Растет и забота Ивана III о том, чтобы русские послы ни в чем не роняли достоинства Русского государства. Послы Ивана III Плещеев, Голохвостов, Кутузов держат себя при константинопольском дворе не по-азиатски, не становятся на колени перед султаном, и султан разрешает им вести себя так, в то время когда другие европейские послы вынуждены преклонять колена, подвергаются оскорблениям и побоям. Ревниво оберегая честь Русского государства, Иван III внимательно следит за полным равенством отношений с другими европейскими государствами и оказывает иноземным послам такой же прием, какой оказывался русским послам при дворах иноземных государей. Так создавался новый посольский обряд, основанный не на заимствованиях из Византии, а на дипломатической практике. Дипломатические отношения России с западно-европейскими государствами развивались в тесной связи с политической теорией Русского государства. Отсюда под влиянием живых потребностей государственного строительства создается теория исконного величия России и ее правящей династии. Московские дипломаты тонко учитывают ренессансный интерес Западной Европы к античности, сказавшийся не только в искусстве и литературе, но и в политике. Они создают теорию родства московских великих князей с императорами древнего Рима, теорию, подчеркнувшую древность и княжеского рода и управляемой им страны. Отсылая Юрия Грека послом к «цесарю», Иван III дал ему наказ, в случае, если от «цесаря» последует предложение выдать дочь Ивана III за племянника «цесаря», отвечать отказом, так как это не соответствовало достоинству московского государя: «во всех землях то ведомо, а надеемся, что и вам ведомо, что государь наш, великий государь, уроженый изначала от своих прародителей; а и наперед того от давних лет прародители его по изначальству были в приятельстве и любви с передними Римскими цари, которые Рим отдали папе, а сами царствовали в Византии».179 Историческая легитимация власти, долженствовавшая утвердить царское достоинство московских государей, была предпринята в весьма широких масштабах. При том же Иване III было предпринято и создание официальной родословной московских великих князей. Эта родословная, оформленная в «Сказание о князех Владимирских», представляет собою родословную роспись всех известных в истории царей и властодержцев. Она начинается с рассказа о разделе земли между потомками Ноя, продолжается перечнем великих властителей, центральное место в котором занимают сведения об императоре Августе, к которому в средние века и, в особенности, в начале эпохи Возрождения все европейские владетельные роды возводили свое происхождение. Чтобы высоко поднять авторитет московских великих князей, «Сказание» также говорит об их родстве императору Августу, через его брата Пруса, которого Август посадил управлять на побережье Вислы. По имени этого Пруса земля на Висле, как известно издревле населенная славянскими и литовскими племенами, стала называться «Прусская земля». Сюда к племени пруссов, по совету Гостомысла, пришли послы новгородцев искать себе князя. Здесь они нашли Рюрика «суще от рода римска цесаря Августа», положившего затем основу династии русских князей. Заканчивалось «Сказание» рассказом об отвоевании знаков царского достоинства Владимиром Всеволодовичем у Константина Мономаха. После победоносного похода Владимира Всеволодовича во Фракию, побежденный Константин Мономах прислал ему дары — крест «от самого животворящего древа, на нем же распятся владыка Христос», «венец царский», «крабицу сердоликову, из нее же Август кесар веселяшеся», ожерелье, «иже на плещу свою ношаше», и др. «И с того времени, — сообщало «Сказание», — князь великий Владимир Всеволодович наречеся Мономах, царь великие России. И оттоле и доныне тем царским венцом венчаются великие князи владимирские, егда ставятся на великое княжение российское».180 Итак, согласно «Сказанию», московские великие князья ведут свое происхождение от того же римского императора Августа, от которого вели свое происхождение и главнейшие европейские царствующие дома. Русские князья получили свое царское достоинство не по наследству из Византии после ее падения в 1453 г.: они — исконные «государи на своей земле», и их царское происхождение восходит еще ко временам античности. Царские регалии, всегда по праву принадлежавшие русским князьям, возвращены им Владимиром Мономахом силою оружия. Таким образом, эта теория всячески подчеркивала исконное, а не приносное со стороны право русских князей на царский титул, древнюсть и достоинство их рода. В отличие от теории «Москва — третий Рим», не вышедшей за пределы церковных кругов по преимуществу, фантастическая генеалогия русских князей и рассказ о происхождении царского достоинства великих князей от Владимира I и Владимира Мономаха имели широкое распространение в дипломатической практике XVI в. Успех этих идей развивается по мере того, как усложняются иностранные сношения России, по мере дипломатических встреч и посольств к иноземным государям, перед которыми московские великие князья никогда не хотели казаться худородными. Сведениями о родстве великих князей и о венчании Владимира Мономаха полны все официальные памятники XVI в.: Четьи-Минеи митрополита Макария (под 20 сентября), Степенная книга, Воскресенская летопись, Казанский летописец, Царственный летописец и т. д. Повесть о Мономаховых регалиях была вырезана на дверцах царского места в Успенском соборе (1551). Генеалогию русских князей переводят на латинский язык, явно предназначая ее для распространения заграницей. Ссылками на нее пестрят дипломатические памятники XVI в. >4 Были и особые причины, заставлявшие русское правительство с особенною настойчивостью возводить принятие царского титула ко временам Владимира I и Владимира Мономаха. Почти половина русских земель принадлежала в XVI в. Польско-Литовскому государству. Древнейшие русские города — Киев, Чернигов, Полоцк, Смоленск — находились вне русских пределов. Официальная правительственная теория Русского государства выросла в значительной мере из потребностей окончательного объединения Русского государства, присоединения к нему земель, когда-то принадлежавших «прародителям» московских государей — Владимиру I и Владимиру Мономаху. Согласно официальной правительственной теории XVI в., не признававшейся поляками, московские великие князья были наследниками киевских, а Москва выступала в ней наследницей Киева — «вторым Киевом». Под знаком этой борьбы за киевское наследство проходят все дипломатические отношения Русского государства с Польско-Литовским. Пропагандируя свои права на наследство Владимира Мономаха, московские великие князья требовали тем самым признания себя боговенчанными монархами «всея Руси», а следовательно, и тех исконно русских земель, которые находились еще под властью Польско-Литовского королевства. Этим объясняются настойчивость, с которой добивалась московская дипломатия признания русской правительственной теории, и упорство Польско-Литовского государства в отказе признать право московских великих князей на царский титул. Как видно из грамоты папы Сикста IV, написанной в 1484 г. польскому королю, в Польше серьезно опасались, чтобы папа не дал Ивану III титула императора или короля «всея России» («…Imperialem sive regalem dignitatem in, tota Ruthenica natione…»), что явилось бы санкцией на собирание московским государем русских земель.181 В грамоте 1493 г. к литовскому великому князю Александру Иван III впервые в своих сношениях с Литвою назвал себя государем «всея Русии» и велел своему послу Дмитрию Загряжскому титуловать себя так во всех речах к литовскому князю. В случае вопросов о том, почему Иван III титулует себя государем «всея Русии», когда ни он, ни кто-либо из его предков не именовали себя так в сношениях с Литвою, Загряжскому наказано было отвечать: «государь мой со мною так приказал, а кто хочет то ведати, и он поедь на Москву, там ему про то скажут».182 Во второй половине XVI в. уверенность московского правительства в праве на киевское наследство настолько возросла, что московским послам не приходилось более зазывать к себе на Москву иностранных дипломатов для объяснений. Отправляя в 1549 г. послов в Литву для присутствия при обряде крестного целования короля на перемирных грамотах, Иван Грозный наказал им передать королю: «милостию бога вседержителя и родитель наших благословением, на своем государстве царем есмя венчались прежде бывшим венчанием прародителя нашего царя и великого князя Владимера Мономаха».183 В следующем 1550 г., отправляя к королю посла Якова Остафьева, Иван IV дал ему подробный наказ. На вопрос короля о титуловании Остафьев должен был отвечать: «наш государь учинился на царстве по прежнему обычаю, как прародитель его великий князь Владимер Манамах венчан на царство Русское, коли ходил ратью на царя греческого Костянтина Манамаха, и царь Костянтин Манамах тогды прародителю государя нашего, великому князю Володимеру, добил челом и прислал к нему дары, венец царьский и диядиму, с митрополитом ефесским кир [господин] Неофитом, и иные дары многие царьские прислал, и на царство митрополит Неофит венчал, и от [того] времени царь и великий князь Владимер Манамах; и государя нашего ныне венчал на царство Русское тем же венцом отец его Макарей митрополит, занже ныне землею Русскою владеет государь наш один».184 В 1554 г. в наказе послам — боярину Василию Юрьевичу, казначею Федору Сукину и дьяку Ивану Бухарину — снова стояли требование признания царского титула и подробное обоснование этих требований в виде повести о Мономаховых регалиях. Еще раз в 1554 г., отправляя посольство к королю с извещением о завоевании Астраханского царства, Иван IV наказал напомнить королю, что мир между ними возможен только в случае признания его царского титула.185 Снова было наказано послу говорить, что предок царя, Владимир Мономах, венчался на царство, и царь венчался, следуя его примеру. Теория царского титула еще раз выступает в переговорах 1555 г.,186 затем в переговорах 1556 г.187 и т. д. Не было переговоров с Польско-Литовским государством, в которых не возник бы вопрос о царском титуловании, в которых русские не ссылались бы на родство своих государей с Августом кесарем и на царское венчание Владимира Мономаха. Споры по этому вопросу продолжались при Федоре Иоанновиче, Борисе Годунове, Василии Шуйском, Михаиле Федоровиче. В искусстве и литературе конца XV — начала XVI вв. мы найдем все те три составляющие элемента, которые определяли собою и творческую и политическую идеологию Русского государства: широкий учет западно-европейского окружения, подчинение целого в первую очередь общенациональным интересам и постепенное выявление народных начал русской культуры. >5 Идеология Русского государства, его внешняя и внутренняя политика отложились резким отпечатком на внешнем облике Москвы, отныне столичного города большого европейского государства. В своих заботах о внешнем благоустройстве Москвы, московские великие князья стремятся придать ей национальный облик, воплотить в ней национальные идеалы красоты. В отличие от первых строителей Киева, стремившихся соперничать с Константинополем, как в планировке, так и в устройстве отдельных зданий (София в Константинополе и в Киеве, Золотые ворота в Константинополе и в Киеве и др.), Москва организуется как русский город, его строительство учитывает по преимуществу русские традиции. Конец XV в. отмечен объединением соперничавших между собой русских архитектурных школ. Объединительной политике московских великих князей и объединительной политике московских летописцев, соединивших в грандиозных сводах областное русское летописание, соответствуют объединительные тенденции в области московского искусства. В грандиозней строительной деятельности Москвы приняли участие зодчие из Пскова, Новгорода, Твери, Владимиро-Суздальского княжества. Кроме зодчих русских строительных школ, Москва также приглашает зодчих наиболее передовой в архитектурном отношении страны тогдашней Европы — Италии. В Москву приезжает бостонский архитектор и военный инженер Аристотель Фиораванти, затем Антон Фрязин, два Алевиза, Марко Руффо, Пьетро Антонио, Солар, Вон Фрязин и др. В Москве сосредоточивается обширный круг архитекторов эпохи Возрождения. Все эти архитекторы работают по созданию Московского Кремля. Но планировка Кремля была основана не на итальянских, а на чисто русских архитектурных принципах. Ансамбль Кремля по-русски строился открыто во внешнее пространство на крутом берегу р. Москвы. Здания, построенные москвичами, итальянцами, псковичами, стояли рядом, играя контрастирующими формами, группируясь по живописному принципу, чуждому ренессансной ясности соотношений. Знаменательно, что и болонец Аристотель Фиораванти и миланец Алевиз Новый подпали в Москве под мощное влияние русского искусства и сохранили в своих постройках лишь немногие новые для Руси архитектурные приемы. Выстроенный Аристотелем Фиораванти в Московском Кремле Успенский собор (1475–1479) развивал формы предшествовавшей ему русской архитектуры. Прежде чем приступить к постройке Успенского собора, Аристотель совершил обширное путешествие, по русским городам; в Успенском кремлевском соборе сильно отразилось воздействие архитектуры Успенского собора во Владимире и Софии новгородской. Русские формы Успенского собора, связь их с формами владимирского Успенского собора и Софии новгородской не случайны. Иван III строил в Москве центральную святыню объединенного Русского государства. Успенский собор должен был символизировать собою русскую церковь вообще так же, как София константинопольская — греческую, как храм Воскресения: в Иерусалиме — иерусалимскую и т. д. Здесь в Успенском соборе хранилась главная святыня Русского государства — покровительница Москвы икона Владимирской Божьей Матери. Здесь в Успенском соборе происходило венчание на царство московских государей и хиротония епископов всех областей; здесь при гробе митрополита Петра произносилась епископская присяга, и т. д. Иосиф Волоцкий называет Успенский собор «земным небом, сияющим, как великое солнце посреди Русской земли».188 Митрополит Филипп говорит об Успенском соборе, что он, как солнце, сияет благочестием «в всех рускых землях».189 В таких же выражениях говорит об Успенском соборе старец Филофей в своем послании Василию III, и др. Построение нового Успенского собора было отмечено составлением в 1479 г. грандиозного летописного свода, как новая эра в русской истории. Свод этот подробно описывает в последних своих частях новгородский поход Ивана III и присоединение Новгорода; он заканчивался описанием торжественного открытия нового центра вселенского православия. Исходя из идеи Успенского собора как религиозного центра «всея Руси», создаются и все окружающие его постройки. Успенский собор обстраивается целым «кустом» церквей и зданий, в построении которых принимают участие различные архитектурные школы. На месте обветшалых укреплений Дмитрия Донского возводятся новые стены и башни Московского Кремля. Стены были построены по последнему слову фортификационного искусства, сделавшего в XV в. большой шаг вперед в связи с изобретением пороха и огнестрельного оружия. В XV — начале XVI вв. Московский Кремль был сильнейшей крепостью Европы, уступая лишь Миланскому замку, законченному в 1459 г. Своими неприступными укреплениями он как бы символизировал силу и мощь Русского государства. Пышное величие и церемониальная торжественность Московского Кремля находятся в неразрывной связи с идеями государственной власти времени Ивана III. Черты Московского Кремля отразились в стенах Нижегородского Кремля и в укреплениях Серпухова, Тулы, Зарайска в многих других русских городов. Москва, став политическим центром объединенных ею областей, распространяет свое влияние и на искусство периферии. Однако заботы об общем национальном русском облике Москвы этим не ограничились. Национальные задачи, которые стояли перед Русским государством, выставили перед архитектурой проблему переноса в каменное зодчество форм народного деревянного зодчества. Русская архитектура XVI в. идет по пути создания каменного шатрового храма. Простой образец такого храма заключался в деревянной церкви, в которой сплошь и рядом восьмигранный сруб увенчивался высокою кровлею с одной главой наверху. Этот новый тип каменного храма, заимствовавший свои формы из народного деревянного зодчества, постепенно усложняясь, достигает необыкновенной декоративности, отвечавшей народным вкусам. Первые опыты переноса форм деревянной архитектуры в каменную относятся еще к очень давнему времени. Их, повидимому, можно было указать и в домонгольской Руси. Они были и в старой Москве (церковь Ивана Лествичника с колоколами наверху, 1329), и в Новгороде (круглая, «яко столп», церковь в Хутыне, 1445), и в Александровской слободе и др. Однако только в XVI в. это проникновение в каменную архитектуру форм народного деревянного зодчества приобретает широкие размеры и идейную целеустремленность обращения к народным началам. Каменный шатровый храм Вознесения в селе Коломенском, относящийся к 1532 г., — в полной мере русская, народная во всех своих формах архитектура. Храм произвел на современников сильнейшее впечатление. Освящение его было отпраздновано Василием III необычайно торжественно. Летопись отметила его красоту и «величество»: «допрежь такой не было на Руси». Высшее достижение этого народного шатрового стиля XVI в. — собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве (1550–1560), выстроенный русскими зодчими Посником и Бармой, как памятник покорения Казани. Народные формы его архитектуры не были случайностью в строительной практике Русского государства. Иван IV строил собор, «сотворив совет благ» с инициатором ряда культурных начинаний XVI в. — митрополитом Макарием. Очевидно, авторитетное мнение последнего было решающим в принятии нового типа храма. Собор представляет собой группу из 9 «столпов», частью увенчанных шатрами, и рассчитан не столько на пластическое, сколько на чисто живописное впечатление, требовавшее от зодчих особенно тонкого художественного чутья. Храм Василия Блаженного — образец необыкновенной высоты русского строительного искусства, особенно если принять во внимание, что в эпоху его создания ни в России, ни на Западе не были еще известны основы математического расчета устойчивости архитектурных сооружений. Построению каменного собора Василия Блаженного предшествовала (за 9 месяцев) постройка деревянной церкви его на том же месте.190 На этой своеобразной «модели» практически проверялось, очевидно, общее художественное впечатление постройки, силуэт шатров и глав. Построение этой деревянной церкви, за 9 месяцев до заложения каменного храма, отчетливо доказывает гипотезу, выдвинутую еще И. Забелиным, о происхождении форм храма Василия Блаженного из народного деревянного зодчества.191 Итак, и в политике, и в литературе, и в искусстве XVI в. русские стремятся утвердить свое национальное содержание, свои национальные интересы. Россия снова вошла в среду европейских государств как равноправное государство. >VIII „ЗЕМЛЯ“-НАРОД И ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ НАЧАЛА XVII в. >Эпоха крестьянской войны и борьбы с польско-шведской интервенцией представляет собою одну из самых важных страниц русской истории по исключительной сложности и глубине влияния на всю последующую русскую жизнь. Борьба с самозванцами и польско-шведскими интервентами приняла общенародный характер и высоко подняла чувство гражданской ответственности каждого за судьбу родины. >1 Активное участие всего русского народа в обороне родины не раз спасало Русь перед лицом внешней опасности. В 1016 г. население Новгорода потребовало от Ярослава I Владимировича, продолжения борьбы с польским королем Болеславом и изменником Святополком. Новгородцы порубили ладьи, в которых Ярослав пытался бежать за море, и собрали деньги для организации нового войска. В 1068 г. отказ великого князя киевского Святослава раздать оружие населению для борьбы с половцами вызвал восстание киевлян. В 1382 г. покинутые своим князем жители Москвы сами организовали оборону своего города от войск Тохтамыша. Случаев, при которых народ активно брал в свои руки организацию обороны, — не мало, но только в период национальной борьбы начала XVII в. было осознано первостепенное значение народа. Значение народа и, в частности, крестьянства в общей жизни страны получило уже отчетливое отражение в публицистических сочинениях XVI в., поразительных своим широким и свободным обсуждением самых основ государственного устройства. Забота об облегчении тягот крестьянства видна в сочинениях монахов-«нестяжателей», в произведениях Максима Грека, в известной «Беседе Сергия и Германа Валаамских чудотворцев» и, в особенности, в исключительном по оригинальности взглядов сочинении середины XVI в. — «Благохотящим царем Правительница». Здесь с редкой последовательностью проводилась мысль о том, что земледельцы — основа государства, что жизнь страны, ее экономическое и военное могущество целиком зиждутся на труде мирных пахарей. Труд ратаев дает хлеб, который приносится жертвой Богу в таинстве Евхаристии и питает всех от царя и до простых людей. Автор «Правительницы» всячески подчеркивал, что именно земледелие и крестьянство являются в России основой государственного благосостояния. Поэтому следует облегчить крестьянский труд и сообразовать с интересами земледельцев государственное управление. Знаменательно, что многочисленные произведения конца XV–XVI вв. открыто высказываются против рабства, принижающего гражданские и воинские добродетели населения (Иван Пересветов), противоречащего основам христианского человеколюбия. Нередко в публицистических сочинениях XVI в. проводится мысль о естественном равенстве всех перед Богом. Широко задуманные и далеко идущие публицистические сочинения XVI в., ясно сознающие необходимость для государства свободного и граждански сознательного населения, во многих отношениях были общи западно-европейской политической философии XVI в. >2 Идеи публицистических сочинений XVI в. не были пустыми размышлениями досужих книжников: они отражали реальную силу демократических слоев народа, его возросшую гражданскую сознательность и политическую активность. Освободительная борьба начала XVII в. ясно обнаружила глубокое развитие во всех слоях населения чувства гражданского долга, сознание личной ответственности каждого за судьбу всей Русской земли в целом. Жители городов и сельское население — нижегородцы, смольняне, ярославцы, владимирцы, москвичи и т. д. — с готовностью соглашались на всякие личные жертвы ради спасения родины. В своем знаменитом приговоре нижегородцы писали: «Стоять за истину всем безызменно, к начальникам быть во всем послушными и покорливыми и не противиться им ни в чем, на жалованье ратным людям деньги давать, а денег не достанет — отбирать не только имущество, а и дворы и жен и детей закладывать, продавать, а ратным людям давать, чтобы ратным людям скудости не было». На этом нижегородцы дали Богу души свои. Поднятое в Нижнем национальное движение сплотило русских людей. В национальной борьбе начала XVII в. оформилась идея суверенных прав народа в организации своей государственности, всей политической жизни страны и в выборе монарха. В тревожных обстоятельствах борьбы с самозванщиной и польско-шведскими интервентами для врагов и своих становилось ясным, что только тот возьмет верх, кто будет иметь на своей стороне сочувствие большинства русского народа. Отсюда стремление интервентов во что бы то ни стало склонить народ на свою сторону, обмануть его ложными договорами, громкими обещаниями или самозванцами. Отсюда же исключительное значение идеологической борьбы с самозванщиной и интервенцией. Бесчисленные грамоты, послания, обращения, исторические сочинения, политические памфлеты, сказания разъясняют смысл происходящего. Речами поднимает Авраамий Палицын казаков на помощь ополчению. Речами поднимает Минин и протопоп Савва нижегородцев на общенародное дело борьбы с интервенцией. Города сносятся грамотами, призывают друг друга «стояти заодно», «ожить и умереть вместе». С призывом к восстанию обращаются к москвичам жители осажденного польскими интервентами Смоленска. Смольняне просили москвичей переписать их грамоту и послать ее в Новгород, в Вологду, в Нижний. Москвичи и сами писали всем русским городам, призывая итти на выручку столицы. Жители Устюга писали в Пермь, в Новгород, в Холмогоры, на Вычегду, в Сольвычегодск. Нижегородцы писали вологжанам, ярославцам и т. д. Грамоты патриарха Гермогена и троице-сергиевских старцев читались в церквах. Вся страна была охвачена единым патриотическим порывом. Народ ясно осознал себя главной силой в определении исторических судеб родины. В исторических произведениях первых годов XVII в., в бесчисленных грамотах, посланиях и приговорах, всё более и более утверждается мысль о том, что «хранитель» целости и независимости «Московского государства» — сам народ, а не бояре и цари. Мысль эта, встречаемая еще в летописи, только в исторических произведениях о событиях «всеконечного разорения» — «Смуты» первых лет XVII в. — получает законченное выражение. Понятие «земли» как верховной власти ясно выступает уже в «приговоре» 30 июня 1611 г., низводившем «правительство» (Трубецкого, Ляпунова и Заруцкого) в положение подчиненной исполнительной власти, ограниченной в своих действиях ратным советом «всей земли». «Правительство» получало за свой труд жалование и в его руководство были даны точные указания. Реальные разногласия и антагонизм классов, выяснившиеся в земском приговоре 30 июня и в последующих земских соборах начала XVII в., не умаляют значения самой проявившейся в них идеи «всей земли». Народ — разумная среда, через которую проявляется воля божья. «Земля» имеет право избрать не только временное управление, но и «помазанника божья» — царя. Мысль эта была решительною новостью в политической жизни Руси, где в бесчисленных династических спорах XI–XVI кв. прочно утвердилось представление о наследственной княжеской и царской власти. Всего несколько десятков лет назад Грозный жестоко издевался в своих грамотах над Стефаном Баторием, избранным на польский престол «по многомятежному человеческому хотению». В новых обстоятельствах начала XVII в. мысль об избрании царя «всею землею» уже не вызывала возражений во всех слоях общества. Значение воли народа как верховной силы в жизни «земли» ясно подчеркнуто даже в титулах новых деятелей. Пожарский носил титул «по избранию всех людей» или «по избранию всее земли Московского государства всяких чинов людей». Козьма Минин именовался «выборный человек всею землею». Вместо старой приказной власти, явилось выборное начало, явился выборный человек, действовавший от лица «всей земли». Насколько необходимым казалось одобрение «земли», показывает хотя бы то, что нижегородское ополчение еще на походе собирало выборных по городам, заботилось о соблюдении гласности и добивалось единодушия всей земли в своих общерусских начинаниях. Апрельская грамота Пожарского, отправленная по городам, приглашала поскорее прислать в Ярославль «изо всяких чинов людей человека по два». >3 Идея «всей земли» и сознание значения народа, демократических слоев населения в жизни государства резко отразились в общих концепциях московской историографии. Сознание исторической активности народа перерабатывало средневековые представления о силах, движущих историю. В исторические произведения начала XVII в. постепенно входит представление, что историческими судьбами Русской земли руководит не божественное предопределение, а сам народ. Это было огромным шагом вперед в исторических воззрениях начала XVII в. По обычным представлениям средневековья, скорая небесная кара постигала всякий грех. Исторические сочинения XI–XVI в. и русская летопись твердо держались той мысли, что всякое народное несчастье — нашествие врагов, голод, моровое поветрие и т. д. — было божественным наказанием за грехи людей, за их отступление от заветов религии. «Всеконечное разорение» первых лет XVII в. также рассматривалось авторами исторических сочинений о «Смуте», как казнь за грехи. Однако в определении этих грехов авторы начала XVII в. резко расходились со своими предшественниками, выражали новую точку зрения на исторический процесс. «Грехи» русских людей, вызвавшие самозванщину и интервенцию, с точки зрения авторов исторических работ начала XVII в., не были личными грехами отдельных людей, обычными нарушениями христианской нравственности. Внимание авторов привлекают грехи общественные, недостатки гражданственности и общественного самосознания. Благодаря этому, понятие «греха» как основной причины исторических несчастий переносилось из сферы идеальной в сферу реальную. «Грехи» становились реальными причинами общественных бедствий, и в этом авторы сочинений о «Смуте» приближались к новому историческому восприятию причинно-следственной связи событий. Большинство авторов, писавших о «Смуте», подробно останавливалось на тех общественных «грехах» русского общества, которые привели в начале XVII в. к установлению самозванщины и вторжению иноземцев, В описаниях этих «црехов» сказались те новые и повышенные требования, которые предъявило новое народное самосознание к гражданским добродетелям населения. В летописях XI–XVI вв. неоднократно выражались требования соблюдения национальных интересов. Но требования эти обычно были обращены к князьям, к духовенству, к боярам, к дружине. «Смута» впервые предъявила суровые требования к каждому члену общества без исключения. Сами по себе эти требования говорят о новом общественном идеале, воспитанном в годы жесточайшей национальной борьбы. Изобличая общественные пороки, приведшие к «всеконечному разорению», первые писатели о «Смуте» имели в виду повысить чувство гражданской ответственности населения. Дьяк Иван Тимофеев, составивший свой «Временник» около 1619 г., видит начало всех зол в нарушении коренных начал русской жизни и в усилившемся влиянии иноземцев. Правители преклоняли уши свои к «ложным шепотам», придавали значение доносам, вследствие чего люди были «страховиты», «изменчивы», «нестоятельны», «словопревратны», «по всему вертяхуся, яко коло [колесо]». Враги Руси воспользовались этой «превратностью» русских, чтобы наслать к ним «лжецарей». Один из главных общественных грехов русских заключался в том, что в наиболее важные исторические моменты они были безгласны, как рыбы. При всеобщем молчании и попустительстве Борис Годунов преступлением добился престола: «онемеша бо языки их и уста затвориша ото мзды; вся же чувства каша паче страхом ослабеша». Тимофеев особенно выделяет именно этот недостаток «мужественные крепости» — пассивное и раболепное «бессловесное молчание» перед сильными мира сего.192 Еще резче об этом недостатке гражданской смелости говорил в своем «Сказании» Авраамий Палицын. Он называет его — «всего мира безумным молчанием» и в этом «безумном молчании» видит основной общественный порок, повлекший за собой ослабление государства.193 Авторы единодушно говорят о недостатке согласия у русских. Из-за своего «несогласия» и гражданского «немужества», — пишет Тимофеев, — русские не только допустили убийство царевича Дмитрия, но затем «бессловесно» сносили мерзости и тгечестие ииославных. «Разность» эта придала крепость врагам Руси. Враги разорили ее и надругались над ее святынями.194 «Не чуждии земли нашей разорители, но мы сами ее потребители».195 В руках народа — его судьба. Как причину «Смуты», авторы выдвигают и социальную несправедливость, разорение бедных богатыми, взяточничество и неправосудие. Неправедно собранными богатствами не искупить греха: излишни заботы богатых о красоте церквей, если она создалась из граблений и посулов. Бог не принял этой жертвы, и неправедная церковная красота подверглась разграблению иноверных. Настоящий храм божий — сам народ: «Писано бо есть, яко „вы есте храм бога жива“… храм — не стены камяны и древяны, но народ верных…»,196 — говорит Авраамий Палщын, выражая характерную для своего времени мысль о единственной и абсолютной ценности народа. В самом народе — источник его бедствий и его освобождения от иноземного ига. В этом осознании значения народа в исторической жизни страны — пафос эпохи. Авраамий Палицын приводит многочисленные случаи мужественной борьбы русских с иноземными захватчиками. Живо и талантливо рассказывает он об освобождении Москвы и о героической защите Троице-Сергиевой лавры, давая в своем изложении многочисленные примеры народного героизма. Так, например, Авраамий Палицын рассказывает о том, как возмущенный изменой брата простой воин Даниил Селев заменил его собой в рядах бойцов и пал в бою. Таким образом, писатели первой четверти XVII в., изобличая общественные пороки, а с другой стороны, показывая героизм простых и малозаметных людей, создавали новые идеалы гражданского служения родине. Итак, эпоха национальной борьбы с самозванщиной и интервенцией отчетливо выдвинула значение народа («земли») в исторической жизни страны. Это значение народа сказалось непосредственно в ходе событий и было осознано исторически. >4 Насколько глубоко проникли в народ новые исторические представления, показывает «Новая повесть о преславном Российском государстве», написание которой отноштся либо к концу 1610 г., либо к самому началу 1611 г. Она сохранилась в единственном списке; ее автор — какой-то приказный — безвестен; название ее — позднейшее, приписанное чужою рукою сверху. Это прокламация, «подметное письмо», брошенное на улицах Москвы с призывом восстать и изгнать из Москвы гарнизон польских интервентов. «А сему бы есте письму верили без всякого су мнения», — обращается автор к москвичам. Он просит не «таить» его письмо, а распространять среди верных людей: «И кто сие письмо возмет и прочтет, и он бы его не таил, давал бы рассмотряючи и ведаючи своей братии православным христианом прочитати вкратце, который за православную веру умрети хотят, чтобы было ведомо, а не тайно». Изменникам, которые «со враги соединилися», — тем бы «есте отнюдь не сказывали и не давали прочитати».197 Письмо написано со страстной убежденностью, ясным, простым и народным языком, частью прозой, частью стихами.198 «Приидите, приидите православни. Сами видите, — обращается автор письма к москвичам, — какое гонение и утеснение воздвигалось на русских: «Всегда многим смертное посечение, Описав злодеяния польских интервентов, автор восклицает: «То ли вам не весть, Автор не жалеет слов для изобличения бояр-изменников и среди них боярина Салтыкова и думного дьяка Андронова. Но письмо — не простой призыв к восстанию. Оно подробно и разумно освещает создавшуюся в стране обстановку. Автор ставит в пример москвичам граждан осажденного Смоленска, мужеством своим прославивших себя не только в России, но и в Литве, и в Польше, и до самого Рима. «И хотят славне умрети, нежели бесчестне и горько жити».206 На краю государства смольняне храбро отбиваются от врагов, которые под Смоленском, как и здесь в Москве, «на сердцах наших стоят». Если бы не Смоленск, войско Сигизмунда давно было бы в Москве. Русские в Смоленске держат короля не за голову, не за руку, не за ногу, а за самое сердце его злонравное и жестокое. Как русские в Смоленске, так в Москве один против всех отбивается патриарх Гермоген. Как эпический герой, патриарх, «исполин безоружный», поражает врагов словом своим и движет народом, сам оставаясь непоколебимым и неодолимым препятствием для врагов. Если он умрет и народ сам не встанет на свою защиту, то погибнут государство и православие. Автор «письма» приводит своеобразную политическую философию. Восстание на врагов — это «подвиг» и «радение». Только вооруженное восстание может искупить грехи русских людей, за которые Вог покарал русских испытанием иноземного ига. Эта точка зрения исключительна по религиозной смелости. Автор говорит о том, что польские интервенты боятся восстания русских. Они действуют осторожно, стремясь прельстить русских ложным уважением к их святыням. Они стоят с мечом над головою русских людей, постепенно стягивая подкрепления; закрыли кремлевские ворота, оставив для русских только узкие двери, в которых стоит шум и визг, как будто бы давят мышей. Польские интервенты хотят властвовать в Москве, но не имеют достаточных сил. Между тем народ могуществен и велик, как море. В этом «великом и недержанном мори» боятся потонуть интервенты. Поэтому хитростью и лестью они сдерживают его возмущение: «Видя зде в мире колебание «Новая повесть о преславном Российском государстве» — одно из первых в русской литературе выступлений средних классов населения. Ее содержание знаменательно. Ни одно из литературных произведений, вышедших из посадской и приказной среды во второй половине XVII в., не заявляет с такой определенностью о силе и могуществе народного «моря». «Смута» произвела глубокие изменения в политических представлениях русского общества. В момент наибольшей опасности для Руси, когда, казалось, иноземцы прочно укрепились в Москве, когда от Русского государства сохранились лишь кое-какие «останки», когда, наконец, русские сознавали, что не было еще в мировой истории «таково наказания ни на едину монаршию, ниже на царства и княжения, еже случися над превысочайшею Россиею», — в этот момент «последние люди» поднялись на защиту родины. В политических потрясениях «великой разрухи» родилась твердая уверенность в силе народа, родились мысли о «земском деле», о «всей земле»; сознание верховного значения народа и его интересов в государственной жизни страны. Это новое политическое сознание, выросшее в ужасах «последнего разорения», когда низшие и средние классы сделали отчаянное усилие для спасения Руси, — явилось предвестием нового времени. >Комментарии id="c_1">1 Доклад на Съезде советских писателей 17 августа 1934 г. id="c_2">2 Изд. 3, Л., 1939, стр. 5. id="c_3">3 А. А. Шахматов. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908, стр. 226 и др. id="c_4">4 См. об этом: Д. И. Прозоровский. Новые разыскания о новгородских посадниках. СПб., 1892, стр. 3. id="c_5">5 Лаврентьевская летопись под 985 г. id="c_6">6 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 377. id="c_7">7 Там же, стр. 378. id="c_8">8 Всев. Миллер. Очерки русской народной словесности, т. II. 1910, стр. 1–31. id="c_9">9 Марков. Беломорские былины. М., 1901, №№ 50 и 80. id="c_10">10 Астахова. Былины Севера, т. I. М.-Л., 1938, № 15. id="c_11">11 А. В. Марков. Из истории русского былевого эпоса, вып. 1. 1905, стр. 30–66. id="c_12">12 Повесть временных лет под 1061 г. Мотив загадывания загадки с последующим убийством неудачного отгадчика и др. id="c_13">13 Здесь и далее, слова в цитатах, взятые в прямых скобках, принадлежат автору настоящей работы Д. С. Лихачеву. id="c_14">14 Провар — то количество меда, которое можно сварить за один раз, — очевидно несколько ведер. id="c_15">15 Ипатьевская летопись под 964 г. id="c_16">16 Шелковые ткани. id="c_17">17 Ипатьевская летопись под 970 г. id="c_18">18 Там же под 971 г. id="c_19">19 Там же под 1201 г. id="c_20">20 Лаврентьевская летопись под 945 г. id="c_21">21 Там же. id="c_22">22 См. его Historia V, 7. Migne SGr. 133 col., 569–581. id="c_23">23 Пл. Соколов. Русский архиерей из Византии. Киев, 1913, стр. 12–13. id="c_24">24 В. Г. Васильевский, Труды, т. I, стр. 304. id="c_25">25 Аналогично смотрел на болгар Василий Болгаробойца, отказавшийся видеть в них воюющую сторону и тысячами ослеплявший пленных болгар, как бунтовщиков. id="c_26">26 Мы не останавливаемся на спорной проблеме Охридского архиепископата, в данном случае для нас несущественной. См. об этом: М. Д. Приселков. Очерки по церковно-долитической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 1913, стр. 33 и сл. id="c_27">25 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 539 и сл. Мы пользуемся гипотетическим восстановлением свода у Шахматова. Однако к какому времени ни относить составление свода Ярослава и в каком объеме его ни восстанавливать, — общий характер свода от этого не меняется. id="c_28">28 М. Д. Приселков. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 1913, стр. 82. id="c_29">29 Там же, стр. 84. id="c_30">30 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940. стр. 26. id="c_31">31 М. Д. Приселков. Очерки…, стр. 82. id="c_32">32 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 553. id="c_33">33 Там же, стр. 556–557. id="c_34">34 Там же, стр. 562. id="c_35">35 Там же, стр. 577. id="c_36">36 Там же, стр. 546–547. id="c_37">37 Там же, стр. 578. id="c_38">38 Там же, стр. 542. id="c_39">39 Там же, стр. 550. id="c_40">40 Там же, стр. 547. id="c_41">41 Там же, стр. 563. id="c_42">42 Там же, стр. 564. id="c_43">43 Там же, стр. 583–584. id="c_44">44 Там же, стр. 583. id="c_45">45 Акад. Б. Д. Греков. Развитие исторических наук в СССР за 25 лет. Под знаменем марксизма, 1942, № 11–12. id="c_46">46 Памятники древне-русской церковно-учительной литературы, под ред. А. И. Пономарева, вып. I. СПб., 1894, стр. 59. id="c_47">47 Там же, стр. 59. id="c_48">48 С. П. Шевырев. История русской словесности, ч. 2. Изд. 2, М., 1860, стр. 26. id="c_49">49 Памятники…, стр. 63. id="c_50">50 Там же, стр. 62. id="c_51">51 И. Н. Жданов, Соч., т. I, стр. 80. id="c_52">52 Памятники. стр. 66. id="c_53">53 Общее оптимистическое жизнерадостное содержание «Слова», настроение торжества, повидимому, свидетельствуют о том, что «Слово» возникло до похода Владимира Ярославича 1043 г. id="c_54">54 М. Д. Приселков. Очерки…, стр. 66 и сл. id="c_55">55 А. А. Шахматов. Сборник статей в честь В. И. Ламанского, Ч. II. СПб., 1906, и рец. Шестакова, Журнал Мин. нар. просв., нов. серия, ч. XIII, 1908, январь. id="c_56">56 И. Н. Жданов, Соч., т. I, стр. 19. id="c_57">57 Памятники…, стр. 67. id="c_58">58 Там же. id="c_59">59 Там же, стр. 68 (исправляю в тексте опечатки издания. — Д. Л.). id="c_60">60 Там же, стр. 69. id="c_61">61 Там же, стр. 69. id="c_62">62 Там же, стр. 69–70. id="c_63">63 Там же, стр. 70. id="c_64">64 Там же. id="c_65">65 Там же, стр. 70. id="c_66">66 Там же. id="c_67">67 Там же, стр. 70. id="c_68">68 Там же. id="c_69">69 Там же, стр. 72. id="c_70">70 Там же, стр. 73. id="c_71">71 Там же, стр. 75. id="c_72">72 Там же, стр. 78. id="c_73">73 Первоначально считали, что «Слово» было направлено против иудейского учения. Мнение это опроверг акад. И. Н. Жданов (Соч., т. I, 1872; стр. 1–80). id="c_74">74 В. М. Истрин. Очерк истории древнерусской литературы; т. II. 1922, стр. 131. id="c_75">75 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 398 и сл. id="c_76">76 М. Д. Приселков. Очерки…, стр. 98. id="c_77">77 Памятники…, стр. 74. id="c_78">78 Там же. id="c_79">79 Д. В. Айналов и Е. Редин. Древние памятники искусства Киева, т. X. 1899, стр. 5. id="c_80">80 Памятники…, стр. 60. id="c_81">81 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 583. id="c_82">82 Памятники…, стр. 74. id="c_83">83 Д. В. Айналов и Е. Редин. Древние памятники…, т. X. 1899, стр. 39–40. id="c_84">84 Памятники…, стр. 65. id="c_85">85 Там же…, стр. 75. id="c_86">86 Памятники древней письменности, т. 81, стр. 25. См. об этом: Пл. Соколов. Русский архиерей из Византии. Киев, 1913, стр. 51. id="c_87">87 Акты и стар., I, № 78, стр. 128. id="c_88">88 См. выше в послании митрополита Феодосия 1464 г. id="c_89">89 Прибавления к творениям св. отец, т. II, стр. 255. id="c_90">90 Разыскания…, стр. 582. id="c_91">91 Акад. Н. К. Никольский. О древнерусском христианстве. Русская мысль, 1913, кн. 6, стр. 12. id="c_92">92 М. Д. Приселков. Борьба двух мировоззрений. Сб. «Россия и Запад», под ред. А. И. Заозерского. II, 1923. id="c_93">93 М. П. Петровский. Иларион, митрополит Киевский, и Доментиан, иеромонах хнландарский. Известия ОРЯС, 1908, кн. 4. id="c_94">94 История русской литературы, т. I. Изд. Инст. литер. Акад. Наук СССР, М.—Л., 1940, стр. 271 (гипотеза покойного В. Л. Комаровича). id="c_95">95 Лаврентьевская летопись под 1054 г. id="c_96">96 Ср. в «Слове о полку Игореве» — «земля незнаема» — половецкая степь. id="c_97">97 Лаврентьевская летопись под 1093 г. id="c_98">98 Там же, введение. id="c_99">99 Т. е. наваром из кислой травы, которым мылись в бане. id="c_100">100 Лаврентьевская летопись, введение. id="c_101">101 Там же под 992 г. id="c_102">102 Там же под 1097 г. id="c_103">103 Там же. id="c_104">104 Там же. id="c_105">105 Ипатьевская летопись под 1097 г. id="c_106">106 Лаврентьевекая летопись под 1097 г id="c_107">107 Там же. id="c_108">108 Там же. id="c_109">109 Там же под 1096 г. id="c_110">110 Там же под 1095 г. id="c_111">111 Акад. Б. Д. Греков. Киевская Русь. Изд. 3, M.-Л., 1939, стр. 277. id="c_112">112 Н. И. Брунов. К вопросу о самостоятельных чертах русской архитектуры X — ХII вв. Сб. «Русская архитектура», 1940. id="c_113">113 История русской литературы, т. I. Изд. Инст. литер. Акад. Наук СССР, М. — Л., 1941, стр. 212 и сл. id="c_114">114 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 44. id="c_115">115 Новгородская летопись по Синод. сп., изд. 1888 г., стр. 145. id="c_116">116 Там же, стр. 160. id="c_117">117 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 40. id="c_118">118 А. Е. Пресняков. Лекции по русской истории, т. I. 1938, стр. 239. id="c_119">119 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 64. id="c_120">120 А. А. Шахматов. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв., Л., 1938, стр. 131. id="c_121">121 Предлагаемая ниже характеристика черниговского летописца несколько расходится с построением истории русского летописания XII в. в работах А. А. Шахматова и М. Д. Приселкова. id="c_122">122 Ипатьевская летопись под 1185 г. id="c_123">123 Акад. А. С. Орлов. Слово о полку Игореве. Л., 1938, стр. 48. id="c_124">124 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXII, М.—Л., 1931, стр. 48. id="c_125">125 «Кощей» (от тюркского «кошчи») — конюх, обозный, раб, пленник. «Чага» (от арабского asaha) — невольница. «Ногата» и «резань» — древнерусские единицы. id="c_126">126 А. Рублев умер в 1427 или 1430 г., в возрасте около 60–70 лет. Следовательно, надо считать, что он родился в 60-х — 70-х годах XIV в. id="c_127">127 Н. Каринский. Русская надпись в люблинском тюремном костеле. Известия Археологической комиссии, вып. 55, Пгр., 1914; акад. А. Соболевский. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. Спб., 1910; он же. Русские фрески в старой Польше. М., 1916; F. Kopera. O malarstwie bizantyskiem w Polsce. Polski Muzeum, Z. VIII, Krakow. id="c_128">128 К. Иречек. История болгар. Одесса, 1878, стр. 984–986. id="c_129">129 И. Ягич. Исследования но русскому языку, т. I, стр. 396 и др. id="c_130">130 А. А. Шахматов. Общерусские летописные своды XIV и XV веков. Журнал Мин. нар. просв., 1900, т. IX, стр. 91. id="c_131">131 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 113 и сл. id="c_132">132 Датировка М. Д. Приселкова (там же, стр. 128 и сл.). id="c_133">133 См. об этом подробно: А. А. Шахматов. Общерусские летописные своды XIV и XV веков. Журнал Мин. нар. проев., 1901, т. XI, стр. 73–77. id="c_134">134 Характер этой перемены вскрыт В. Л. Комаровичем в главе «Московские летописи» II тома академической «Истории русской литературы». М.—Л., 1945. id="c_135">135 См.: Летописец Рогожский. Полное Собрание русских летописей [ПСРЛ], т. XV, изд. 2, вып. 1, 1922, стр. 144 и сл.; Симеоновская летопись. ПСРЛ, т. XVIII, 1913, стр. 131 и сл. id="c_136">136 Симеоновская летопись. ПСРЛ, т. XVIII, СПб., 1913, стр. 156. id="c_137">137 Там же, стр. 157. id="c_138">138 Там же, стр. 158. id="c_139">139 Там же, стр. 159. id="c_140">140 Проф. Н. Н. Воронин. Владимиро-суздальское наследие в русском зодчестве. Архитектура СССР, 1940, № 2; И. Грабарь. Андрей Рублев. Вопросы реставрации, вып. 1, стр. 65 и сл.; 0 росписях Успенского собора во Владимире, там же, стр. 22–33. id="c_141">141 Ср., например, в Симеоновской летописи, где татары названы половцами под 1378 г., а татарская степь — половецкой под 1380 г. и т. д. Ср. также Летописец Переяславля Суздальского, где печенеги и половцы неоднократно называются татарами. Очевидно, «Повесть временных лет» воспринималась современниками Донской битвы в сопоставлении с событиями этой современности. История Руси представлялась историей непрекращающихся войн со степными народами, войн за независимость. id="c_142">142 Ф. Буслаев. Рецензия на работу О. Миллера «Илья Муромец и богатырство Киевское». Журнал Мин. нар. просв., 1871, 4, стр. 217. id="c_143">143 А. Н. Веселовский. Из введения в историческую поэтику. Собр. соч., т. I, стр. 36–37. id="c_144">144 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 443. id="c_145">145 Ю. Н. Дмитриев. К истории новгородской архитектуры. Новгородский исторический сборник, вып. 2, Л., 1937. id="c_146">146 Новгородская IV летопись. ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, Л., 1925, стр. 444. id="c_147">147 Новгородская III летопись. Новгородские летописи, СПб., 1879, стр. 271. id="c_148">148 В. Яблонский. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб.1908, стр. 100. id="c_149">149 Памятники старинной русской литературы, издававшиеся Кушелевым-Безбородко, вып. 4, 1862, стр. 30. id="c_150">150 ПСРЛ, Т. IV, Ч. 1, вып. 2, Л., 1925 стр. 448. id="c_151">151 Там же, стр. 446. id="c_152">152 Там же, стр. 447. id="c_153">153 Там же, стр. 498. id="c_154">154 Там же, стр. 504. id="c_155">155 Там же, стр. 513. id="c_156">156 Софийская II летопись под 1471 г. id="c_157">157 См. подробнее: А. А. Шахматов. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв. Л., 1938, стр. 371 и др. id="c_158">158 Софийская II летопись под 1475 г. id="c_159">159 Проф. Успенский. Брак царя Ивана III. Исторический Вестник, 1887, № 12, стр. 689. Ср. также: О. Пирлинг. Россия и Восток, стр. 103, 166. id="c_160">160 Сборник импер. Русского исторического общества, т. 53, стр. 85 и сл. id="c_161">161 Там же, стр. 91. id="c_162">162 Там же, стр. 92. id="c_163">163 Там же, стр. 86. id="c_164">164 Софийская II летопись под 1481 г. id="c_165">165 Сочинения Максима Грека, 1889, «Слово» VII. id="c_166">166 Н. П. Лихачев. Инока Фомы слово похвальное о князе Борисе Александровиче! СПб., 1906. id="c_167">167 По мнению некоторых исследователей — Ивана IV. id="c_168">168 В. Малинин. Старец Елеазарова монастыря Филофей… Киев, 1901» стр. 547. id="c_169">169 Малинин, там же, Приложение, стр. 50. id="c_170">170 Православный собеседник, 1861, ч. II, стр. 297. id="c_171">171 Отличие теории Филофея от официальной идеологии московского правительства отмечает и В. Малинин. Он пишет о Филофее: «у него с большею полнотою и определенностью выступает теория мирового призвания России, как царства не только единственно православного, но и последнего, призванного существовать до конца вселенной. Отсюда в несколько ином обосновании выступает у него и теория царской власти» (Старец Елеазарова монастыря Филофей… 1901, стр. 616). id="c_172">172 Suppl. ad Historica Russiae Monumenta, p. 102. Цитирует Е. Голубинский. История русской церкви, т. I, ч. 1, стр. 8. Предание о посещении апостола Андрея попадает в XVI в. в Степенную книгу (I, 95–97) и другие. id="c_173">173 Сочинения Максима Грека, 1889, «Слово» VII. id="c_174">174 Собрание государственных грамот и договоров (СГГиД), т. I, стр. 71, 73, 78, 81, 84, 87, 89, 92, 98, 101, 103, 108, 111, 114, 117, 120, 122, 125,128, 131, 348, 158, 161, 164, 167, 180, 184, 197, 201, 205, 229. id="c_175">175 ПСРЛ, т. VI, стр. 20 и 224; т. VIII, стр. 206; Никоновская, т. VI, стр. 112. id="c_176">176 Памятники дипломатических сношений древней Руси с державами иностранными, т. I, стр. 46, 47, 59–61, 87, 96–93, 114. id="c_177">177 Там же, стр. 12. id="c_178">178 В 1495 г. при дворе Ивана III появились новые чины: казначея, постельничьего, ясельничего, и с 1496 г. — конюшего (М. П. Шереметьев. Список старинных бояр, дворецких, окольничьих и некоторых других придворных чинов. Др. Российская Вивлиофика, т. XX, изд. 2, стр. 8). id="c_179">179 Памятники дипломатических сношений…, т. I, стр. 17. id="c_180">180 И. Н. Жданов. Русский былевой эпос. Исследования и материалы, т. I–V, СПб., 1895. id="c_181">181 Theiner. Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, т. II, № 257. Romae, an. 1861. Цитирует: В. Савва. Московские цари и византийские-василевсы, 1901, стр. 274. id="c_182">182 Сборник импер. Русского исторического общества, т. 35, стр. 80–82 и др. id="c_183">183 Там же, т. 59, стр. 309 и сл. id="c_184">184 Там же, стр. 345. id="c_185">185 Там же, стр. 451. id="c_186">186 Там же, стр. 474 и сл. id="c_187">187 Там же, стр. 504 и сл.; стр. 519 и сл. id="c_188">188 Иосиф Волоцкий. Просветитель. Печати, изд. Казанск. духовн. акад.,л. 57. id="c_189">189 Русская историческая библиотека, т. VI, столб. 723. id="c_190">190 См. «Летописец Русский», изданный А. Н. Лебедевым (Чтения в Обществе истории и древностей российских, 1895, вып. 3), — известие о построении храма Покрова в октябре 7063 г. (1553) (стр. 31) и затем под июнем 7063 г. (1554): «Того же месяца благоверный и христолюбивый царь и великий государь велел заложит церковь камену Покров Пречистыя Богородицы о девяти верхах, которой был преже древян о Казанском взятии у Фроловских ворот» (стр. 36). id="c_191">191 И. Забелин. Черты самобытности в древнерусском зодчестве. id="c_192">192 Русская историческая библиотека, т. XIII, СПб., 1892, стр. 463 и сл. id="c_193">193 Там же, стр. 479. id="c_194">194 Там же, стр. 463 и сл. id="c_195">195 Там же, стр. 465. id="c_196">196 Там же, стр. 516–517. id="c_197">197 Там же, стр. 218. id="c_198">198 Стихотворная форма «Новой повести» до сих пор не была отмечена. id="c_199">199 Русская историческая библиотека, т. ХIII, стр. 200. id="c_200">200 Там же, стр. 210. id="c_201">201 Траве. id="c_202">202 Русская историческая библиотека, т. XIII, стр. 210. id="c_203">203 Слова, заключенные в скобки, очевидно, позднейшая разъясняющая вставка. id="c_204">204 Русская историческая библиотека, т. XIII, стр. 212. id="c_205">205 Там же, стр. 213. id="c_206">206 Там же, стр. 189. id="c_207">207 Там же, стр. 202. IV КУЛЬТУРА И НАРОД НАКАНУНЕ ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ >Начавшийся с конца XI в. распад Киевского государства был связан с ростом его отдельных частей, с развитием производительных сил на местах, с образованием новых областных центров, городов, с подъемом активности городских масс населения. Этот процесс политического дробления Киевского государства и роста областных центров имел первостепенное значение в интенсивном культурном развитии Руси XII и начала XIII вв. Русская культура, которая в эпоху расцвета «империи Рюриковичей» была по преимуществу культурой Киева, с конца XI в. дробится и концентрируется вокруг многочисленных культурных областных гнезд: Новгорода, Чернигова, Полоцка, Смоленска, Владимира-Волынского, Галича, Ростова, Суздаля, Владимира Залесского и др. Все эти областные центры обнаруживают с конца XI в. решительное стремление к политической самостоятельности и культурному отъединению. «Каждая из обособившихся земель обращается в целую политическую систему, со своей собственной иерархией землевладельцев (князей и бояр), находящихся в сложных взаимных отношениях. Эти разрозненные ячейки, все больше замыкаясь в тесном пространстве своих узких интересов по сравнению с недавним большим размахом международной политической жизни Киевского государства, заметно мельчали. Однако внутренняя жизнь этих политически разрозненных миров текла интенсивно и подготовила базу для образования новых государств в восточной Европе и самого крупного из них — Московского».111 Это образование отдельных местных и областных культур с их своеобразными, индивидуальными чертами было связано с другой характерной чертой культурного развития XII–XIII вв. — интенсивным влиянием на утонченную культуру верхов русского общества многовековой местной народной культуры, восходящей своими корнями к древней культуре скифов и антов, издавна введенной в сферу влияния античности. Эти местные народные черты могут быть без труда вскрыты еще в первых произведениях каменного зодчества Руси,112 в ее книжности113 и в прикладном искусстве. С конца же XI в. и на протяжении XII и начала XIII вв. киевская культура испытывает особенно существенное изменение под воздействием местной народной культуры и сама широко распространяется в городских и сельских слоях населения. На почве этого взаимопроникновения создается новая высшая культура Руси XII в., тесно связанная с народом, местными традициями и государством. Канун татарско-монгольского нашествия был периодом чрезвычайно значительной, но подспудной, внутренней работы, чреватой величайшими последствиями. Мало заметная вначале, эта работа приводит к ощутимым результатам уже со второй половины XII в., когда, в противовес общей децентрализации русской жизни, начинают сказываться и обратные идейные стремления к объединению князей, княжеств, — гораздо раньше, чем аналогичные тенденции возникли на Западе. >1 Личное летописание Мономаха, выдубецкую переработку «Повести временных лет», продолжает его старший сын Мстислав, внук по матери последнего англо-саксонского короля Гаральда. Именно Мстиславу адресовал Мономах свое знаменитое «Поучение» к детям. Мстислав воспринял его, точно следуя отцовским заветам и в своей политической деятельности и в заботах о книжности и летописании. Подобно своему отцу, Мстислав заботился о продолжении летописания и сам был, повидимому, незаурядным писателем.114 Летописание Мстислава имело огромное значение для всего последующего развития летописного дела на Руси. Выполненный по его указанию и при его участии летописный свод (так называемая 3-я редакция «Повести временных лет») лег в начало летописания Новгорода, где одно время княжил Мстислав, затем в начало княжеского летописания Переяславля Южного, где также княжил Мстислав, и наконец — Киева, куда Мстислав перешел княжить после смерти отца. Из Переяславля Южного «Повесть временных лет» в 3-й редакции (редакции Мстислава) передалась на северо-восток — во Владимирско-Суздальскую землю. Три отростка когда-то единого ствола общерусского летописания — новгородский, переяславский и киевский — стали наиболее мощными ветвями, которые в первой четверти XII в. дало летописание мономаховичей. Вслед затем летописание дробится более и более, многочисленными побегами охватывая все наиболее значительные княжества Руси. Князья стремятся обзаводиться личными и семейными летописями. Их имели Ольговичи черниговские (Святослав и его сын Игорь Святославич, герой «Слова о полку Игореве»), Мономаховичи переяславские (особенно известен летописец Владимира Глебовича), Ростиславичи смоленские, князья владимирские и ростовские. Новые формы летописания и исторического повествования, которые с такою интенсивностью развиваются в XII в., выросли из непосредственных потребностей самой русской жизни, из тех явлений, которые имели место на русской почве еще до принятия ею христианской цивилизации Византии. Византийская историческая литература не знала семейных и родовых летописцев. Это — явление чисто русское; оно должно быть поставлено в связь с теми устными родовыми преданиями, существование которых мы предполагаем на основании некоторых фрагментов их в летописи. Летописание на Руси становится жизненной необходимостью, бытовым явлением. Князья заинтересованы в нем как в политическом документе своих прав и притязаний и решительно озабочены своевременным ведением летописных записей. Однако не одни князья и монастыри ведут свои летописи. Рядом с личным и родовым летописанием князей начинает развиваться летописание городское. Изгнание в 1136 г. новгородского князя Всеволода, внука Владимира Мономаха, восставшим ремесленным и сельским населением грозит прекращением княжеского летописания мономаховичей в Новгороде. Поэтому новое новгородское правительство с Нифонтом во главе берет летописание в свои руки. В 1136 г. по приказу Нифонта доместик новгородского Антониева монастыря Кирик составляет работу по хронологии, подсобного для ведения летописи характера, — «Учение, им же ведати числа всех лет» — и в том же 1136 г. принимает участие в широко задуманном пересмотре всего предшествующего княжеского летописания Новгорода. Летопись мономаховичей (с «Повестью временных лет») отбрасывается из начала новгородского летописания и заменяется резко антикняжеским Киево-Печерским сводом 1093 г. Составляется тот «Софийский временник», который затем продолжается в Новгороде до самого его присоединения к Москве. «Софийский временник» открывался предисловием, полным горьких упреков князьям в «ненасытстве», в алчности, в притеснении людей вирами и «продажами», налогами и поборами. Упреки эти были как нельзя более своевременны в Новгороде в середине XII в., когда одни за другими отбираются у новгородского князя его доходы, урезываются права, конфискуются земли. Можно думать, что такие же городские летописи велись и по другим областям: в Полоцке, в Ростове, в Галицко-Волынской области. Дробление летописания на этом не остановилось. Насколько распространенным было ведение летописей в XII в., показывает наличие в течение двух столетий (XII и XIII) интенсивного летописания при незначительной новгородской церкви Якова в Неревском конце, воздвигнутой на месте победы новгородцев над полоцким князем Всеславом, происшедшей в день Якова, «брата Господня». Первый летописец этой церкви — Герман Воята — ведет свою летопись в 40-х—80-х годах XII в. почти, как личный дневник. Часто он делает свои записи от первого лица; во многих из них он проявляет интересы городского обывателя, сообщающего городские слухи (Новгородская летопись по Синодальному списку, 1138), сведения о погоде (1145), об уличных происшествиях, о сене, о дровах, об урожае, о состоянии воды в Волхове (1145), о поломках и починках моста через Волхов (1142, 1143), о раннем громе (1138), о поздно стоящей дождливой погоде (1143), наконец, о собственном поставлении в попы (1144) и т. д. Летопись Германа Вояты наглядно свидетельствует, насколько развитым и распространенным было в XII в. ведение летописей, насколько сильным и всеобщим было в XII и XIII вв. стремление к историческому осмыслению событий. Летописание, которое в XI в. в основном держалось мощной поддержкой Киевской митрополии или Киево-печерского монастыря, отражало традиции византийской императорской историографии, отныне становится достоянием княжеских семей, городских церквей, превращается в повседневное бытовое явление. В XII в. широкой струей вливается в язык летописи и исторического повествования дипломатическая, деловая, военная терминология и бытовое просторечие. В новгородскую летопись проникают местные диалектизмы, разговорные обороты с пропуском сказуемого или подлежащего, в ней почти отсутствуют книжные, церковно-славянские обороты речи. Записи Германа Вояты в составленной им летописи ведутся запросто, с употреблением чисто просторечных выражений: «бысть гром велий, яко слышахом чисто в истьбе седяще» (Новгородская летопись по Синодальному списку, 1138), «стояста 2 недели пълне, яко искря жгуце, тепле вельми, переже жатвы; потом найде дъжгь, яко не видехом ясна дни ни до зимы; и много бы уйме жит и сена не уделаша; а вода бы больши третьего лета на ту осень; а на зиму не бысть снега велика, ни ясна дни, и до марта» (1145). Летописец сообщает, как посадника Якуна сбросили с Волховского моста, «обнаживъше, яко мати родила» (1141), в просторечной манере говорит о граде, выпавшем величиной «яблъков боле» (1157) и т. д. и т. п. Грандиозное по исполнению отдельных сводов в XI в., летописание в XII в. становится не менее грандиозным по широте своего распространения, по многочисленности отдельных сводов, по глубине проникновения в народную жизнь. Однако потребность в историческом осмыслении происходящего не ограничивается в XII в. только составлением многочисленных летописцев и летописных сводов. Те же потребности вызывают появление в XII в. обширной и разнообразной литературы повестей о междукняжеских отношениях. В повестях этих рассказывается о наиболее важных моментах княжеских распрей, нарушениях крестных целований, братоубийственных войнах, ослеплениях, политических убийствах и т. д. Авторы этих повестей ставили себе целью доказать правоту одних и виновность других. Знаменательно то, что при том же Владимире Мономахе, со времени которого начинает развиваться родовое и личное летописание князей, составляется и первая повесть этого типа, повесть попа Василия об ослеплении Василька Теребовльского. Затем следует многочисленный ряд повестей с аналогичным содержанием: повести об убиении Игоря Ольговича, послужившем поводом для распри Святослава Ольговича черниговского и Изяслава Мстиславича киевского, повесть киевлянина Кузмища об убиении Андрея Боголюбского, повесть боярина Петра Бориславича о клятвонарушениях и смерти Владимира галицкого и ряд других. Повести эти пространные, изящно написанные, насыщенные бытовыми подробностями, дышащие азартом междукняжеской борьбы своего времени, составлялись обычно непосредственными участниками событий, чаще всего послами (поп Василий, Петр Бориславич, киевлянин Кузмище); они наполнены драматическими подробностями, точно передают содержание переговоров, речи князей и послов, насыщены дипломатической терминологией своего времени. Повестей этих особенно много в летописях Киевской, Галицкой и Волынской, благодаря чему вместивший все эти летописи Ипатьевский список кажется особенно пространным и литературным. Жанр исторических повестей о междукняжеских отношениях также возник из потребностей русской жизни и получил самобытные черты своего внешнего выражения. Повести эти резко разрушают византийские средневековые литературные каноны, обнаруживая поразительную свежесть восприятия, свидетельствующую о своеобразных реалистических тенденциях в русской литературе XII в. Поразительна своими реалистическими тенденциями повесть Петра Бориславича — связный литературно-развитой рассказ, имеющий своей целью убедить читателей в правоте киевского князя Изяслава Мстиславича, описать с точки зрения сторонника Изяслава историю борьбы Киевского и Галицкого княжеств. Подробное описание смерти разбитого параличом Владимирка составляет эффектную развязку, доказывающую правоту Изяслава. В повести детально фиксированы речи при переговорах, насмешки «многоглаголивого» Владимирка, возражения Петра, точно отмечено время, в которое совершались те или иные события (к вечеру, до обеда, к ночи, до кур и т. д.), точно сказано, где происходили события (на сенях, на переходах, на степени, во дворе и т. д.), отмечены одежды действующих лиц (клобуки, мятли), описаны переживания самого Петра Бориславича (его обиды, тревоги, недоумения). Замечательно, что во всех этих повестях о междукняжеских отношениях продолжает жить представление о Русской земле, как о целом. Эта идея живет и в сознании враждующих князей, стремящихся оправдать свои притязания доводами защиты попранных прав и старых установлений и необходимостью восстановления утраченного единства Русской земли. Таким образом, исторические жанры — летопись и повести о междукняжеских отношениях — с необычайной интенсивностью распространяются по всей Русской земле. Они становятся явлениями русской жизни, развиваются параллельно распространению книжности вообще. Несомненно, что обильные культурные всходы XII в… были выражением постепенного углубления процесса феодализации, роста производительных сил страны, а вместе с тем роста народной культуры и потребностей в историческом осмыслении событий. >2 То же проникновение народных, местных начал отчетливо сказывается и в искусстве периода феодальной раздробленности Руси. Чрезвычайное развитие городов, ремесел, появление многочисленных артелей строителей, живописцев приводит к проникновению в высокое искусство Руси местных традиций, вкусов непосредственных исполнителей, вносивших в свои произведения черты народного искусства. Княжение Владимира Мономаха стоит на переломе двух эпох не только в области литературы, но также и в области зодчества. C одной стороны, княжение Владимира Мономаха завершает собою период монументальных и обширных сооружений, которыми был богат XI в., с другой — оно начинает собою длинный ряд сооружений XII — начала XIII вв., в которых с нарастающей силой проявляются местные народные вкусы. Как указывает проф. Н. Н. Воронин, при Владимире Мономахе народные формы архитектуры заявляют о себе в строительстве Владимира Мономаха в Вышгороде, где новые строительные приемы оформляют созданный на Руси культ первых русских святых Бориса и Глеба. При Владимире Мономахе же Новгород создает первых замечательных русских зодчих, построивших в начале XII в. такие грандиозные, поражающие своей монументальностью, лаконичностью форм и прочно найденными пропорциями сооружения, как Николо-Дворищенский собор (1113), собор Антониева монастыря (1116) и Георгиевская церковь в Юрьевом монастыре (1119), — из этих зодчих известен мастер Петр. Асимметричное трехглавое здание Георгиевской церкви Юрьева монастыря с ритмично вытянутыми в высоту мощными стенами является одним из лучших произведений русской архитектуры XII в., далеко отошедшей в Новгороде от византийских прототипов. Из Новгорода уже очень рано начинают выписывать мастеров, в частности для строительства в далеком Киеве стен Выдубицкого монастыря и др. (Коров Яковлевич, посадник Милонег). Особенно заметным это проникновение местных народных начал в искусство Новгорода становится с середины XII в., когда городские организации уличан, концов и сотни начинают играть значительную роль в новгородском государстве. Чрезвычайно существенным для всего новгородского культурного развития представляется то, что улицы и концы выступают с половины XII в. в качестве инициаторов различных культурных предприятий: в 1165 г. «шестициници», т. е. уличане Шестичинской улицы, ставят церковь «святые троицы»;115 в 1185 г. «лукиници», т. е, жители Лукиной улицы, ставят церковь Петра и Павла на Синичьей горе («Сильнищи»)116 и т. д. Организации уличан принимают активное участие в развитии книжности и в переписывании рукописей. Так, например, Пролог 1390 г. имеет следующую запись: «написаны быша книгы сия, глаголемые пролог, ко св. чудотворцома Козьмы и Дамьяну… повелением… всех бояр и всей улицы Кузмодемьяне». Создаются и новые формы осуществления общественных предприятий. Начиная с середины XII в. в Новгороде все более или менее крупные предприятия осуществляются «дружинами» — артелями. Эти «дружины» существуют, прежде всего, при дворе новгородского епископа и населяют его «слободы» в окрестностях города и поблизости Детинца (новгородского кремля). Члены этих «дружин» носят название «владычных паробков» или «владычных ребят». «Паробки» и «ребята» переписывают священные книги, составляют артели строителей и расписывают церкви. Характерно, что замечательный памятник русского искусства XII в. — церковь Нередицы — расписывало не меньше 10 мастеров одновременно. В связи с этим заметно иные, более «демократические» формы приобретает и живопись и в особенности новгородская архитектура XII в. Новгородское строительство второй половины XII в. вырабатывает новый тип четырехстолпного, квадратного в плане, укороченного храма, более упрощенного типа и меньших размеров, сравнительно с грандиозными княжескими соборами предшествующей поры. В отличие от церквей княжеской постройки с резким разделением молящихся на привилегированных, «избранных», и остальную массу молящихся, новые церкви не разделяют молящихся на категории. Князья строили церкви с обширными, сильно освещенными каменными хорами, на которых слушали богослужение княжеская семья и приближенные. Новые же, возводимые со второй половины XII в. церкви имеют скромные деревянные хоры служебного значения. Сокращение размеров вновь воздвигаемых храмов отнюдь нельзя рассматривать, как упадок зодчества: княжеские постройки предшествующей поры сравнительно редки, церквей же нового типа воздвигается огромное количество. Новгород, который в начале XII в. имеет всего 5–6 каменных храмов, правда грандиозных по размерам, из которых храм Софии остался непревзойденным но величине во всё последующее время, в середине XII в. обрастает многочисленными каменными церквами, организующими его своеобразный архитектурный облик. Еще более самобытными чертами отличаются постройки Пскова (собор Спасо-Мирожского монастыря и др.). Аналогичные процессы в области архитектуры происходят в XII в. в Киеве, Чернигове, Полоцке и др. В Смоленске в конце XII в. кн. Давид строит церковь Михаила Архангела, отличавшуюся резко своеобразными, народными приемами своей архитектуры. Огромное значение для живописи в XII в. имело вытеснение дорого стоившей мозаики широко развившейся фресковой живописью, со сравнительно свободной техникой, более дешевой, резче мозаики способной отразить индивидуальную манеру исполнителей. Стиль тех фресок новгородской Нередицы (1199), которые были выполнены русскими мастерами, свидетельствует о народных вкусах их исполнителей. Таковы в особенности бытовые подробности в композиции Крещения (фигуры сбрасывающего рубашку и плывущего в Иордане) и изображение Страшного Суда на западной стороне церкви. Народные начала сказываются и в стиле рисунков на страницах рукописей XII в. Черты быта проникают в псковские и новгородские рукописи XII в. (изображения гусляров, пешехода с корзиной, отдыхающего земледельца и проч.). Проникновение местных народных начал в искусство XII в. не означало, однако, создания какого-то единого нового народного стиля. Каждая из областей, каждый город имеет свои характерные и неповторимые черты культурного развития, свои местные, областные черты искусства, местные литературные манеры. Такими резко своеобразными чертами обладают искусство и литература Галицко-Вольшского, Владимиро-Суздальского, Киевского, Новгородского, Полоцко-Смоленского и других княжеств. Культура второй половины XII и начала XIII вв. дробится между множеством областей и обилием в них противоречивых тенденций. Киев, Владимир, Новгород, Смоленск, Туров, Галич, Владимир-Волынский — каждый из этих городов, составляет самостоятельный культурный центр. Рафинированная городская культура предшествующей поры подвергается в них всюду различному воздействию народной стихии. Широкое проникновение народных, демократических начал в книжность, в архитектуру, в живопись XII — начала XIII вв., так же как и рост вечевых собраний с конца XI в., говорит о том, что широкие массы населения все более осознают свое значение в общей жизни страны. Отсутствие в середине XII в. единого общерусского летописания и таких значительных исторических произведений, как «Повесть временных лет», отнюдь не свидетельствует еще об упадке в XII в. исторического и народного самосознания. >3 Местные, областные тенденции развиваются в XII в. параллельно росту объединительных стремлений русского парода. И центробежные и центростремительные силы, одновременно действуя, одновременно же способствуют развитию культуры русского народа. В XI в. киевские летописные своды стремились к ясному изображению единого развития Русского государства. «Откуда есть пошла Русская земля», такую задачу ставил себе не только составитель «Повести временных лет», но и предшествующие ему киевские летописцы. Эта идея единства Русского государства оплодотворяла собою литературу, архитектуру, живопись. Эта идея единства Руси, с такою настойчивостью проведенная во всех киевских сводах XI — начала XII вв., была искусно подкреплена летописцами оригинальной теорией единства княжеского рода. Именно в этих целях составитель летописи внес в нее легенду о призвании родоначальников «рюриковичей», трех братьев-варягов, подчинив этой легенде всё изложение истории Руси.117 Именно в этих целях летописец стремился доказать, что междукняжеские войны — братоубийственны, что все русские князья «одного деда внуки». Это летописное доказательство единства Руси, как единства княжеского рода, претерпело жестокое поражение в междукняжеских распрях XII в. Вот почему идея единства Русской земли в этой своей форме почти исчезает из летописей середины XII в. Однако распри князей не уничтожили в народе Стремления к единению. Распалась лишь излюбленная летописная идея о единстве княжеского рода, как о предпосылке и основе единства русской государственности. Именно этой идее был нанесен жестокий удар междоусобной борьбой князей. Уже к 70-м — 80-м годам XII в. относятся попытки нового подъема в литературе идеи единства Руси, на этот раз на иной, более глубокой основе. Предпосылкой этого нового подъема явилась половецкая опасность, тяжелой тучей нависшая над Русью во второй половине XII в. С 70-х годов XII в. начинается «рать без перерыва». Натиск половцев разбивается об ответные наступательные походы русских князей. Однако после ряда поражений половцы объединяются под властью хана Кончака. Половецкие войска получают великолепную организацию и хорошее вооружение. В их армии появляются и катапульты, и баллисты, и «греческий» («живой») огонь, огромные передвигавшиеся «на возу высоком» луки-«самострелы», тетиву которых натягивало более 50 человек. Под влиянием усилившихся в 70-х и 80-х годах XII в. набегов половцев идея необходимости объединения вспыхнула с новой силой. Идеи единения находили себе дорогу к реальной политической жизни, несмотря на утрату единства экономических интересов, поддерживавших в XI в. объединительную политику Киева, несмотря на то, что углубление процесса феодализации привело к общей децентрализации когда-то единого Киевского государства. В 80-х годах XII в. встает мираж объединения перед окончательным распадением Руси на ряд отдельных земель-княжеств, связь которых в единое целое фактически уже не могла осуществиться. На юге Руси состоялось соглашение Ростиславичей и Ольговичей. Святослав Ольгович, отец героя «Слова о полку Игореве», «получает „старейшинство и Киев“ и 13 лет сидит на Киевском столе в почетной роли слабосильного патриарха».118 Совершается и ряд других попыток примирения отдельных враждующих групп. В 1134 г. объединенными усилиями русских князей половцы были разбиты. Захвачены были «военные машины», отбиты пленные, попал в плен сам хан Кобяк и «басурменин», стрелявший «живым» огнем. Эти объединительные тенденции перед лицом нависшей половецкой опасности не замедлили отразиться в летописи. Именно в 80-х годах XII в. летописание Владимира Залесского привлекает в свой состав известия летописей Переяславля Южного, стремясь расширить рамки своего летописания и превратить его в летописание общерусское.119 Именно в 70-х—80-х годах новгородское летописание делает попытки выйти из узких пределов только новгородского летописания и использует какую-то киевскую летопись, стремясь охватить и события Южной Руси.120 Аналогичным образом внимательный анализ Ипатьевского списка выясняет чрезвычайно значительную попытку создания в 90-х годах XII в. общерусского летописного свода в Чернигове при дворе черниговского князя Игоря Святославича — героя «Слова о полку Игореве».121 В основу этого летописания кладется родовой летописец Святослава Ольговича черниговского и его сына Игоря Святославича. Этот летописец дополняется летописцем черниговского епископа. Поход Игоря Святославича на половцев (1185), в котором участвовали войска Владимира Глебовича переяславского, исконного врага черниговских князей, создает почву для привлечения к летописанию Ольговичей богатого летописания Переяславля Южного, широко охватившего события южнорусской жизни. Известия этого летописания Переяславля Южного и сейчас читаются в составе Ипатьевского списка в сильной черниговской переработке. К черниговскому летописанию привлекается и киевское, также подвергшееся в Чернигове основательной переработке в духе примирения двух враждующих групп — Ольговичей и Мономаховичей. Идейное обоснование необходимости этого примирения составляет замечательную особенность черниговского летописания 80-х—90-х годов. Именно ради этого в Черниговский свод была включена переяславская версия повести об убийстве в Киеве Игоря Ольговича, чья кровь, павшая на киевского князя, мешала примирению двух основных враждующих княжеских группировок: Мономаховичей и черниговских Ольговичей. Эта переяславская повесть об убиении Игоря Ольговича, составленная при дворе переяславского епископа Евфимия, заинтересованного в примирении Изяслава Мстиславича и Святослава Ольговича, стремилась изобразить убийство Игоря Ольговича как несчастный случай, как дело рук киевской толпы, совершившей его в разрез с желаниями Изяслава. Как рассказывает повествователь, брат Изяслава — Владимир — собственным телом прикрыл Игоря Ольговича, принимая на себя удары убийц. Сам Изяслав безутешно плачет по Игоре; дружина утешает его и свидетельствует его очевидную непричастность к преступлению. Таким образом, создание в Чернигове общерусского свода идет под знаком примирения междоусобных войн. Узкое летописание черниговских князей прерывает свой тип родового летописца и пытается вернуться на широкую дорогу общерусского летописания. Но не только в летописании делаются серьезные попытки отражения общерусских интересов: меняется и самый тип исторических повестей. Эти исторические повести, как это мы видели выше, имели с конца XI в. своими сюжетами, главным образом, междукняжеские отношения, раздоры князей между собой. В 80-х годах делается первый значительный опыт создания самостоятельной исторической повести о борьбе русских князей с внешним врагом. Знаменательно, что эта попытка делается одновременно в двух враждебных лагерях и имеет своей общей темой поход (1185) Игоря Святославича новгород-северского. Составившаяся первоначально на юге — в Переяславле Южном, историческая повесть о походе Игоря Святославича сделалась известной во Владимире и в Чернигове. В Чернигове составляется самостоятельная повесть о событиях похода, несчастных для русских; она замечательна опять-таки тою же примирительной тенденцией, которой придерживается и черниговская летопись. Автор этой повести вкладывает в уста Игоря Святославича покаянный счет своих княжеских преступлений, знаменующий собою необычайно смелый в тех условиях отказ от предшествующей политики черниговских князей. В этом покаянном счете главное место занимает раскаяние Игоря Святославича в разорении переяславского города Глебля, до крайности ожесточившем вражду переяславских и черниговских князей: «помянух аз грехы своя перед господом богом моим, яко много убийство, кровопролитие створих в земле крестьяньстей, яко же бо аз не пощадех хрестъян, но взях на щит город Глебов у Переяславля; тогда бо не мало зло подьяша безвиньнии хрестьани, отлучаеми отець от рожений своих, брат от брата, друг от друга своего, и жены от подружий своих, и дщери от материй своих, и подруга от подругы своея, и все смятено пленом и скорбью тогда бывшею, живии мертвым завидять, а мертвии радовахуся, аки мученици святеи огнем от жизни сея искушение приемши… и та вся сотворив аз, рече Игорь…».122 Здесь же в Чернигове в 1174–1175 гг. создается, посвященное памяти князей, братьев Бориса и Глеба, «Слово о князьях», резко обличавшее братоубийственные междоусобия своего времени. Таким образом, в последней четверти XII в. с разных сторон, а по преимуществу в черниговском летописании и в черниговской школе книжников делаются попытки примирения княжеских распрей, попытки создания общерусского летописания и нового типа исторической повести о борьбе с внешним врагом. Естественно, однако, что старые жанры не могли в полной мере отвечать новым задачам, которые ставились историческому повествованию в 80-х годах XII в. В этих условиях становится понятным создание в 80-х годах XII в. такого значительного произведения древнерусской литературы, как «Слово о полку Игореве». Нам понятно теперь, почему именно в конце XII в. с такой силой проявились в русской литературе великая идея родины, чувство родины, народный патриотизм. По-своему грандиозная летописная идея единства Руси, как единства княжеского рода, отмерла, но идея единства Руси, основанная на глубоком чувстве любви к родине, продолжала жить. Идея эта потребовала для своего выражения создания нового жанра поэтической повести, в которой с поразительной силой сказались народные основы патриотизма, опирающегося на живое чувство любви к родине, как к живому существу. Литература XI — начала XII вв. в произведениях Илариона, Нестора, Мономаха, в летописи и в житиях создала торжественный и героический образ Русской земли — обширной, могущественной и славной в иных странах. Но во второй половине XI в. это чувство гордости за свою родину окрашивается тонами лирической скорби о ее страданиях. Лирический образ родины, ощущение ее как живого и страдающего существа особенно остро проявилось в гениальном произведении XII в. — «Слове о полку Игореве», этом наивысшем выражении ведущих тенденций культурного развития Руси второй половины XII в. «Слово о полку Игореве» — песнь о всей Русской земле в целом. Лирический образ ее воссоздан в «Слове» с изумительной силой чувства. Небольшое по объему (2875 слов, не многим более ¼ печатного листа) «Слово» чрезвычайно обширно по своей теме. В зачине к «Слову» автор говорит, что он собирается вести свое повествование «от старого Владимира (Мономаха) до нынешнего Игоря». Излагая историю несчастного похода на половцев князя Игоря, автор охватывает события русской жизни за полтора столетия и ведет свое повествование, «свивая славы оба полы сего времени», — постоянно обращаясь от современности к истории, сопоставляя прошлые времена с — настоящим. Автор вспоминает века Трояновы, годы Ярославовы, походы Олеговы, времена старого Владимира (Мономаха). В своеобразной перекличке, которую устраивает автор русским князьям участвуют и его современники и их предшественники. Широкому хронологическому охвату повести соответствует и широта ее территориального охвата. Едва ли в мировой литературе есть произведение, в котором были бы одновременно втянуты в действие такие огромные географические пространства. Половецкая степь («страна незнаема»), Дон, Черное и Азовское моря, Волга, Рось и Оула, Днепр, Донец, Дунай, Западная Двина, Стугна, Немига, а из городов — Корсунь, Тмутаракань, Киев, Полоцк, Чернигов, Курск, Переяславль, Белгород, Новгород, Галич, Путивль, Римов и др., — вся Русская земля находится в поле зрения автора, введена в круг его повествования. При этом автор «Слова» не выключает Русскую землю из среды окружающих ее народов, заставляя прислушиваться к происходящим в ней событиям немцев и венецианцев, греков и моравов, а литву, финнов, половцев, ятвягов и деремелу (литовское племя) втягивает непосредственно в ход русской истории. Подобно Ярославу галицкому, прозванному за свой политический ум Осмомыслом, престол которого господствует над Венгрией и Киевом, откуда он обозревает происходящее, автор «Слова» видит Русь как бы с идеальной высоты. Огромность Русской земли подчеркивается одновременностью действия в разных ее частях: «девицы поют на Дунае, вьются голоса через море до Киева»; «трубы трубят в Новегороде, стоят стяги в Путивле»; «кони ржут за Сулою, звенит слава в Киеве» и т. д. Таким же, как у него самого, обостренным слухом и зрением, способным прозревать пространство, наделяет автор и своих героев: когда Всеславу в Полоцке позвонят к заутрене рано у святой Софии в колокола, он в Киеве уже звон слышал, а когда князь Олег Уступал в золотое стремя в городе Тмутаракане, тот звон слышал давнишний великий Ярославов сын Всеволод, а Владимир (Мономах) всякое утро уши себе закладывал в Чернигове. Широкое пространство действия объединяется гиперболической быстротой передвижения в ней действующих лиц. В обширных пространствах Руси сами герои «Слова» приобретают гиперболические размеры: Владимира Мономаха нельзя было пригвоздить к горам киевским; галицкий Ярослав подпер горы угорские своими железными полками, загородив королю путь, затворив Дунаю ворота. Такою же грандиозностью и острым ощущением родины, как единого большого и живого существа, отличается и пейзаж? «Слова», всегда тем не менее конкретный и взятый как бы в движении: перед битвой с половцами кровавые зори свет поведают, черные туча с моря идут… быть грому великому, итти дождю стрелами с Дону великого… Ветер, солнце, грозовые тучи, в которых трепещут синие молнии, утренний туман, дождевые облака, щекот соловьиный по ночам и галочий крикутром, вечерние зори и утренние восходы, море, овраги, реки составляют титанический фон, на котором развертывается действие «Слова». В радостях и печалях русского народа принимает участие вся русская природа. Понятие родины — Русской земли — объединяет для автора ее историю, «страны» (т. е. сельские местности), города, реки и всю природу. Солнце тьмою заслоняет путь князю — предупреждает его об опасности; Див вопит на вершине дерева, велит послушать земле незнаемой — половецкой степи, морю (Сурожу), Волге, Приморью, Посулью, Корсуни и Тмутараканскому болвану на Керченском полуострове; Донец стелет бегущему из плена Игорю постель на зеленом берегу, одевает его теплым туманом, сторожит чайками и дикими утками. Чем шире охватывает автор Русскую землю, тем конкретнее и жизненнее становится ее образ, в котором оживают реки, вступающие в беседу с Игорем, наделяются человеческим разумом звери и птицы, принимают участие в судьбе Русской земли даже стены городов, унывающие при поражении русского войска. По точному определению академика А. С. Орлова, героем «Слова» является не какой-нибудь из князей, а вся «Русская земля, добытая и устроенная трудом великим всего русского» народа».123 Таким образом, «Слово о полку Игореве» — это поэма о всей Русской земле, образ которой, ее природа и история очерчены автором широкою и свободною рукою. Новое ощущение родины как грандиозного живого существа, как совокупности всей русской истории, культуры и природы, с такой силой сказавшееся в «Слове», несомненно обязано той народной стихии, которая определила во многом и самую художественную форму «Слова о полку Игореве» — народную и фольклорную. Замечательно, что именно в этом живом чувстве родины находит себе опору «призыв русских князей к единению»,124 составляющий основную задачу и основной смысл поэмы. Этот широкий образ Русской земли пронизывает русскую литературу на всем протяжении ее развития. Теми же широкими приемами, что и в «Слове о полку Игореве», описана в «Слове о погибели Русскые земли» XIII в. «светло-светлая и украсно украшена земля Руськая», изобилующая озерами многочисленными, реками и колодцами местнопочитаемыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами чистыми, полями дивными, зверями различными, птицами бесчисленными, городами великими, селами дивными, садами монастырскими, домами церковными, грозными князьями, честными боярами и вельможами многими. Тот же широкий образ «светлой» Руси повторяется в житии Александра Невского, в поздних летописях и историческом повествовании, вплоть до XVII в., приобретя традиционные черты. В последние годы в работах: некоторых реакционных западноевропейских ученых неоднократно повторялось утверждение, что «Слово о полку Игореве» ничем не связано с общей культурой и идейной жизнью Руси XII в., что возникновение его в 80-х годах XII в. случайно и ничем необусловлено. Утверждение это основано на невежественных представлениях о русской идейной жизни XII в. На самом деле «Слово о полку Игореве» создано на богатой почве культуры Руси второй половины XII в. Оно тесно связано с ней и идейно и общим для всей культуры второй половины XII в. обращением к живительным народным началам. >4 Одной из своих тенденций «Слово о полку Игореве» имеет ближайшее отношение к Владимиро-Суздальской Руси. Идея необходимости единения перед лицом внешней опасности соединена в «Слове» с идеей сильной княжеской власти. Не бессилие русских князей отмечает «Слово», а их силу и могущество. Великий Всеволод суздальский так силен, что мог бы «Волгу веслы раскропити, а Дон шеломом выльяти». Будь он на юге, «была бы чага по ногате, а кощей по резани».125 Галицкий Ярослав Осмомысл «высоко» сидит «на своем златокованнем столе, подпер горы угорьскыи своими железными полкы», заступил пути королю венгерскому, затворил ворота к Дунаю, суды рядя до Дуная. Несчастие русского народа не в том, что Русская земля бессильна и князья в ней слабы. Беда Руси в том, что никто из русских сильных князей не слышит призыва загородить полю ворота своими острыми стрелами. Идея единства Руси неотторжима в «Слове о полку Игореве» от идеи сильной княжеской власти. Именно эта идея необходимости сильной княжеской власти дает реальную весомость идее необходимости единения. Эта идея сильной власти князя была особенно прочна на северо-востоке Руси во Владимиро-Суздальской области. Она нашла себе отчетливое выражение во всех сторонах культуры этой области. Спокойная и сильная архитектура владимиро-суздальских храмов, с их стенами, богато украшенными снаружи импозантными геральдическими изображениями львов, барсов, грифов, кентавров, всадников, святых и т. д., выражает идею силы и могущества их строителей. Та же идея отражена в летописи и литературных произведениях владимиро-суздальской Руси. Особенно характерно в этом отношении «Моление Даниила Заточника». Восхваляя князя Ярослава, Даниил заявляет себя сторонником сильной княжеской власти. Многочисленными афоризмами Даниил стремится обосновать необходимость неограниченной власти своего князя, подчеркивая ее «естественный», изначальный характер: «женам глава муж, а мужем князь, а князем Бог»; «орел-птица — царь над всеми птицами, а осетр — над рыбами, а лев — над зверями, а ты, княже, — над переяславцы. Лев рыкнет, кто не устрашится; а ты, княже, речеши, кто не убоится»; «гусли строятся персты, а град наш твоею [князя] державою» и т. д. В заключительной части своего «Моления» Даниил обращается к Богу с просьбой: «силу князю нашему укрепи», и повторяет слова митрополита Илариона, как бы непосредственно вводя нас в обстановку надвигающегося нашествия монголов: «Не дай же, господи, в полон земли нашей языком [народом], не знающим Бога, да не рекут иноплеменницы: где есть Бог их…». >5 Развитие русской культуры в XI — начале XIII вв. представляет собою непрерывный поступательный процесс, процесс, который, накануне татаро-монгольского нашествия достиг своего наивысшего уровня: в живописи — новгородские фрески, в архитектуре — владимиро-суздальское зодчество, в литературе — летописи и «Слово о полку Игореве». Проникновение в культуру высших классов общества народных начал делает вторую половину XII в. и начало XIII в. особенно значительными в истории русской культуры. Вопреки реакционным утверждениям некоторых немецких историков искусства о том, что русская культура до татаро-монгольского завоевания находилась на очень низком уровне развития, что росток византийской культуры, пересаженный на русскую почву, не развивался, а хирел, — вопреки этим утверждениям следует признать, что вся история русской культуры до татаро-монгольского завоевания свидетельствует о необычайной творческой силе русского народа, о ее все нарастающем поступательном движении. Только исключительно тяжелым гнетом татаро-монгольского ига может быть объяснена та задержка в культурном развитии Руси, которая наступила с середины XIII в. — с того самого времени, когда как-раз особенно интенсивным становится культурное развитие Европы, защищенной русской кровью от опустошительного урагана с Востока. Татаро-монгольское нашествие не «завершило собою естественного процесса постепенного упадка», наоборот, оно внешней силой, искусственно, катастрофически затормозило интенсивное развитие древнерусской культуры. Именно поэтому татаро-монгольское нашествие было воспринято на Руси, как космическая катастрофа, как вторжение потусторонних сил, как нечто невиданное и непонятное. «Явишася языци [народы], ихже никто же добре ясно не весть, — кто суть и отколе изидоша, и что язык их, и которого племени суть, и что вера их; и зовут я татары, а инии глаголют таурмени, а друзии печенези, ини глаголють ясно се суть, о них же Мефодий Патарский епископ свидетельствует… яко к скончанию времен явитися тем, яже загна Гедеон, и попленять всю землю от Востока до Ефранта и от Тигра до Понетьского [Черного] моря, кроме Ефиопья», — так выразил свои впечатления от первого появления татар на границах Руси автор летописной повести о Калкской битве. То же впечатление от татаро-монгольского завоевания, как от мировой катастрофы, скорбь и горе от гибели величайших культурных ценностей русского народа отразились в многочисленных литературных и летописных откликах на нашествие Батыя. «Величьство наше смирися, красота наша погыбе, богатство наше онем [т. е. врагам] в корысть бысть, труд наш погании наследоваша, земля наша иноплеменным в достояние бысть», — писал знаменитый русский проповедник середины XIII в. Серапион Владимирский. Недаром Серапиону Владимирскому приходили на память образы землетрясения; он говорит о том, что земля не терпит грехи людей. Бог, как дерево, трясет землю, и опадают листья. Катастрофические события второй четверти XIII в. действительно могут быть уподоблены землетрясению: многие города были разрушены до основания, лучшие произведения русского зодчества лежали в развалинах, земля была покрыта пеплом сожженных деревень. Однако дух русского народа не был уничтожен. Своеобразные «геологические» сбросы повели к обнажению в русской жизни многих задатков будущего, таившихся в глубине и вскрытых катастрофой под внешними наслоениями. В ослепительной чистоте заблестели идеи единства Руси, беззаветная любовь к родине, чувство родины, как реального, живого существа. «Слово о погибели Русскыя земли», светская повесть о мужестве Александра Невского, повести о рязанском разорении с остатками былины о Евпатии Коловрате, летописные повести о взятии Владимира, Киева и др. полны образами и идеями, предвещающими будущую идейную направленность литературы великой собирательницы Русской земли — Москвы. Самый тип великого русского князя этой поры — Александра Ярославича Невского, его военная и дипломатическая деятельность представляют собой как бы прототип будущих московских великих князей, властных и могущественных, сочетающих в себе таланты дипломатов и военачальников с глубоким знанием интересов русского народа в целом. Однако то, чего не смогла сделать татарская сабля в первый натиск на Русь Батыя, сделали долгие годы «томления» и «муки» татаро-монгольского ига; книжность угасала, зодчество почти оборвалось. Тем не менее в эти годы под навалившейся тяжестью иноземного ига продолжала теплиться жизнь. Русский народ сохранял интерес к своему прошлому, летописание продолжалось по городам. Русская культура, достигшая своего весеннего цветения накануне татаро-монгольского ига, придавленная копытами татарской конницы, сохраняла силы для будущего развития. Народные начала, вошедшие в нее накануне татаро-монгольского ига, заложили прочные основы для последующего образования национальных культур трех великих братских народов: русского, украинского и белорусского. >V ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ И ПОБЕДА НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ >Образованию Русского национального государства при Иване III предшествовала широчайшая идеологическая подготовка, своеобразное культурное возрождение русского народа; оно началось еще с 80-х годов XIV в., вслед за Куликовской битвой. Именно вслед за победой на Куликовом поле, явившейся перовым этапом свержения татаро-монгольского ига, возник тот подъем народного самосознания, который еще в конце XIV в., а особенно резко в первой половине XV в. привел к серьезному подъему творческих сил русского народа. >1 Ко второй половине XIV в. относится расцвет новгородской фресковой живописи. Наблюдение природы, которое внесли в свое искусство мозаичисты и — фрескисты Византии, а вслед за ними Чимабуэ, Джотто и Дуччио в Италии, естественный ландшафт, натуральные человеческие фигуры в сильном движении, элементы перспективы и светотени, появление сложных повествовательных сюжетов и попытки изобразить человеческие переживания— все это характерно для новгородских фресок второй половины XIV в. — для фресок церкви Спаса Преображения, Федора Стратилата, Болотова, Рождества на Кладбище, Михайло-Сковородского монастыря, Ковалева, То немногое, что мы знаем об искусстве Москвы второй половины XIV в., позволяет говорить об аналогичном подъеме в живописи и в этом городе. В Москве по-настоящему созрела национальная школа живописи, высшим представителем которой на рубеже XIV–XV вв. выступает гениальный русский художник Андрей Рублев. В 1405 г. А. Рублев известен уже как вполне зрелый сорокалетний мастер, расписывающий вместе со знаменитым Феофаном Греком и старцем Прохором из Городца кремлевский Благовещенский собор.126 Работы Рублева не стояли одиноко на рубеже XIV и XV вв. Многочисленные реставрации икон той поры, произведенные после Великой Октябрьской социалистической революции, и многочисленные новые находки икон конца XIV — начала XV вв. говорят о необычайно высоком уровне русской живописи того времени. Можно с несомненностью утверждать, что эпоха объединения русского народа вокруг Москвы была одновременно и эпохой высшего расцвета древнерусской живописи. Слава русских художников той поры была настолько велика, что их приглашали работать далеко за пределы родины. Особенно много остатков фресок древнерусских мастеров сохранилось в Польше, где в эпоху королей Ягелла и Казимира русские иконописцы работали в Кракове, в Святокрестецком монастыре на Лысой горе, в Люблине и Гнезне.127 Новгородские фрески частично сохранились в г. Висби на острове Готланде. Новгородских мастеров приглашали расписывать церкви Ганзейской колонии в Новгороде. Русские мастера ездили работать в Золотую Орду. С конца XIV в. значительное движение вперед наблюдается в русской письменности. Первые признаки зарождающегося индивидуализма отличают русскую книжность так же, как живопись конца XIV — начала XV вв. В противоположность безыменности большинства литературных произведений предшествующих веков, в конце XIV — начале XV вв. впервые появляется иное отношение к авторству. Авторы житий много говорят о себе, пишут обширные предисловия, в которых рассказывают о причинах, побудивших их приняться за перо, раскрывают свои намерения, пишут о своих личных отношениях к святым, что показалось бы в предшествующие века верхом греховного самовосхваления. Изложение проникается лиризмом и субъективизмом. Индивидуалистически настроенные писатели начала XV в. (Епифаний Премудрый, Пахомий Серб) относятся с видимым интересом к внутреннему миру своих героев. Впервые, хотя еще примитивно и схематично, толкуют писатели начала XV в. о психологических переживаниях действующих лиц своих произведений, о внутреннем религиозном развитии святых. Самые картины природы, интерес к которой постепенно растет, служат образцами для изображения душевного состояния святых. Характерная для эпохи зарождающегося гуманизма любовь к слову отразилась в русских житиях этого периода обилием длинных речей, многочисленностью риторических прикрас, так называемым «плетением словес», ритмической организацией речи, введением ассонансов, внутренних рифм, свидетельствующих о высоком литературном мастерстве русских авторов. Это высокое литературное мастерство в значительной мере поддерживалось живым культурным общением Руси с Византией и южнославянскими странами, особенно интенсивным с конца XIV в. Целый поток югославянских рукописей нахлынул на Русь во второй половине XIV в. Вместе с тем русские рукописи проникают в югославянокие страны, вызывая здесь подражания. Сербский монах Доментиан подражает «Слову» митрополита русского Илариона. Общение книжное увеличивалось непосредственным общением людским. На Русь приезжают болгарские и сербские книжники (Григорий Цамблак, Киприан, Пахомий Серб), а сами русские образуют целые колонии на Афоне и в Константинополе, занятые переписыванием книг, вмешиваются во внутреннюю жизнь и оказывают влияние на культуру югославянских стран. Русский боярин Иван на службе у болгар в правление царя Михаила с 3 тысячами конницы чуть было не овладел Константинополем.128 Насколько основательным было влияние русских книжников, живших на Афоне и в Константинополе, можно заключить хотя бы из того что Константин Костенчский в своем сочинении о правописании называет русский язык «красивейшими тончайшим», ставит его в образец другим славянским языкам и сообразует с ним свои правила орфографии. Русский язык оказывает существенное влияние на болгарский язык XIV в.129 Но самым важным явлением русской культуры конца XIV — начала XV вв. был возродившийся интерес к истории Русской земли. Вся русская культура конца XIV — начала XV вв. пронизана духом историзма, духом любви к славному прошлому своей родины. Как мы увидим ниже, темами русской истории увлечены не только русские книжники: к прошлому Руси обращаются и русская живопись и русская архитектура. Центральное место в этом возродившемся интересе к родной истории, ко временам русской независимости, к домонгольскому периоду русской истории принадлежит Москве. В конце XIV — начале XV вв. работа московских летописцев стала важнейшим государственным делом. Ведя политику собирания Русской земли в единое целое, Москва нуждалась в идеологическом обосновании своих действий, в реальном возрождении исконной летописной идеи о единстве Русской земли. Московские митрополиты и великие князья свозили в Москву различные областные летописи и широко пользовались ими в своем летописании. Московская летопись из узкой, областной становилась благодаря этому общерусской, приобретала общенародный характер и невиданный ранее размах. Эта работа московских летописцев, соединивших в самом конце XIV — начале XV вв. разрозненное летописание отдельных областей, значительно опережала реальный политический рост Москвы. Характер московского летописания, по выражению крупнейшего исследователя русских летописей академика А. А. Шахматова, «свидетельствует об общерусских интересах, о единстве земли русской в такую эпоху, когда эти понятия едва только возникали в политических мечтах московских правителей».130 В самом конце XIV в. в Москве был составлен первый большой летописный свод, названный «Летописцем великим русским». По одним предположениям (А. А. Шахматов), «Летописец» этот возник в 1396 г., по другим (М. Д. Приселков) — в 1389 г.131 Попытки выйти за пределы узко московских интересов еще очень слабо ощущаются в этом своде. Однако чрезвычайно серьезным новшеством, наложившим резкий отпечаток на всё последующее московское летописание, было то, что в начало этого свода была включена «Повесть временных лет». «Повесть временных лет» была тем произведением древнерусской исторической мысли времени Владимира Мономаха, которое живо хранило идейные традиции литературы домонгольской Руси, сознание единства княжеского рода и Русской земли. Отсюда московские летописцы могли заимствовать идею служения князя народу, свободную критику действий князей, идею обороны Русской земли от кочевников соединенными усилиями русских княжеств. Именно с момента включения «Повести временных лет» в качестве составной, вступительной части в московские летописи мы видим в них не безразличное к политическому смыслу происходящего наименование татар половцами, татарской степи — половецкой, и, наоборот, половцев и печенегов — татарами; очевидно, что «Повесть временных лет» не только переписывалась в это время, но и усиленно читалась, и события, изображенные в ней, применялись в определенном смысле к событиям современности. Призывы «Повести временных лет» к борьбе с половцами воспринимались как призывы к борьбе с татарами. И летописец не без умысла менял эти названия, сопоставляя тех и других как общих врагов русской независимости. Первый общерусский свод, по-настоящему поднявшийся над узкими местными интересами — тверскими, московскими, суздальско-нижегородскими, ростовскими, рязанскими, новгородскими — и осветивший русскую историю с точки зрения единства Русской земли, был составлен в Москве в 1408 г.132 Инициатива составления этого свода принадлежала митрополиту Киприану. Он превратил Москву в религиозный центр всей Руси и фактически подчинил московской митрополии церковные организации отдельных русских областей, в том числе и тех, которые входили еще в состав Литвы. В самые последние годы своей жизни Киприан собрал с различных концов Руси местные летописи, действуя в этом отношении через подчиненную ему церковную организацию. К своду были привлечены новгородская летопись, рязанская — княжеская, суздальская, тверская, некоторые местные московские летописи (например серпуховская) и предшествовавший московский «Летописец великий русский». Кроме того, в свод Киприана впервые были включены известия по истории Литвы, так как и в Литве находились русские земли, на которые претендовала Москва. Составленная таким образом летопись (окончание работы над нею относится уже ко времени после смерти Киприана) известна под названием Троицкой. Летопись эта сгорела во время московского пожара 1812 г., выдержки из нее сохранились в приложениях к «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина. Существенным моментом в Киприановской летописи явился ее учительный, публицистико-назидательный характер по отношению к московским великим князьям. Следующий за Киприановским сводом свод Фотия не только удержал, но и развил именно эту учительную по отношению к московскому великому князю тенденцию. Критическое отношение к московскому великому князю за недостаточно решительные, по мнению летописца, действия против Орды составляло отныне одну из самых «боевых» сторон московской летописи. Она ориентировалась на «Повесть временных лет», на возрожденные традиции киевского летописания. Свод Фотия отразил в своем составе всё летописное богатство древней Руси. Он соединил в себе в обширных извлечениях летописи тверскую, новгородскую, ростовскую, ярославскую нижегородскую и т. д. Эти местные летописи не были здесь обезличены: они сохранили, иногда в неизменном виде, местные симпатии и политические устремления. Свод Фотия стремится вести историческое повествование беспристрастно и объективно. Сглаживается изложение борьбы Москвы с соперничающими центрами, опускаются некоторые узко московские известия, сведения семейно-княжеского характера и т. д. Изъятию подверглись пренебрежительные выпады против новгородцев, тверичей, суздальцев. Такая переработка летописных известий, несомненно, была вызвана тем, что в своей борьбе с областными центробежными силами Москва стремилась опереться на местное демократическое население, была заинтересована в прекращении областной вражды и ощущала себя носительницей идеи единства Руси. Решительною новостью со времени «Повести временных лет» явилось использование в своде народных эпических преданий о богатырях Владимирова цикла и о гибели богатырей на Калке. В летописи рассказывалось о богатырском подвиге Демиана Куденевича, о Рагдае Удалом, который один выходил на триста воинов, об Александре Поповиче и слуге его Торопе. Упоминались и многие другие богатыри, как, например, Добрыня Рязанич Златой Пояс, Андриан Добрянкович Храбрый, Ян Усмошвец, одержавший победу над половцами вместе с Александром Поповичем, и др.133 Москва явно стремилась придать летописанию общенародный характер. Соединение в единую летопись разрозненных летописей множества разобщенных областей свидетельствует о вполне созревшей уже мысли о единстве Руси. Мысль эта сочеталась пока с бережным использованием местной литературы, местных, иногда демократических тенденций и не диктовала еще, как позднее, сурового сокращения и цензурования местных памятников. Наоборот, московская летопись в эти годы явно начинала занимать все более и более демократическую позицию, выдвигая роль горожан в защите Руси от кочевников. Иную трактовку получила, например, в новом своде повесть о Тохтамыше.134 В предшествующем летописном своде главная роль в защите Москвы от войск Тохтамыша принадлежит внуку Ольгерда Остею,135 заменившему ушедшего в Кострому великого князя Дмитрия Ивановича. Гибель этого литовца сломила, якобы, сопротивление Москвы. В новой редакции этой повести о Тохтамыше в своде Фотия с особенным вниманием рассказывается о московских купцах-гостях — «сурожанах» суконниках и др. Они названы поборниками земли Русской; против них, главным образом, направлена ненависть татар. Литовский князь Остей не выступает уже защитником Москвы от Тохтамыша, как в своде Киприана: сами горожане оберегают город. В повествование введен новый рассказ о подвиге суконника Адама, который, заметив с Фроловских (Спасских) ворот кремля важного татарского князя, попал ему из самострела прямо «в сердце его гневливое». Взять Москву Тохтамышу удалось лишь при помощи измены в русском стане и ложными, вероломными обещаниями. Демократический характер этой переделки несомненен. Версия эта носит следы фольклорного происхождения: былины знают горького пьяницу Василия Игнатьевича, который в Киеве со стены города поражает стрелами трех знатнейших татарских вельмож. Таким образом, идея единства Руси вошла в московские летописные своды вместе с демократическими тенденциями. Действия великого князя московского обсуждаются в них с точки зрения соответствия их задачам общенародной политики. В этом последнем отношении чрезвычайно показательна неясная по своему происхождению, возможно составленная в Твери, пространная и витиеватая повесть о походе на Москву татарского хана Эдигея (1408). Повесть резко заострена против политики московского великого князя, пригласившего к себе на помощь татар и приютившего «ляха» Свидригайло. Когда пограничные отряды Эдигея пришли, чтобы помочь русским против Витовта, «сгарци же сего не похвал шла, глаголюще: „Добра ли се будеть дума юных наших бояр, иже приведоша половець на помощь?“».136 Летописец осуждает князей, которые наводят на Русь половцев-татар. Но особенному осуждению подвергся в летописи великий князь Василий Дмитриевич за то, что отдал Свидригайлу, «ляху верою», кафедральный город митрополита всея Руси — Владимир. В повесть вставлена похвальная характеристика города Владимира как стола Русской земли, «мати градом» русским, города пречистой богоматери, в котором «князи велиции Русстии первоседание и стол земли Русскыя приемлють».137 Резкому осуждению подвергнуты в повести и нерешительные действия русских войск. По поводу оставления великим князем Москвы вставлена цитата из псалма, не оставляющая никаких сомнений в цели ее применения: «добро есть уповати на Господа, нежели уповати на князя».138 Замечательно, что, желая оправдать свою резкую критику действий князя, летописец под конец повести ссылается на «начального летословца Киевского», который «временна богатства земская не обинуяся показуеть», и на великого Селивестра (одного из редакторов «Повести временных лет»), «не украшая пишущего». Ссылается летописец и на первых властодержцев русских, повелевавших без гнева «вся добрая и недобрая прилучившаяся написовати»,139 Эта небольшая приписка к повести об Эдигее, полной укоров и обличений, лучше всего показывает, какого широкого взгляда держался московский летописец на свою работу, какая острота политического обличения влагалась им в летописные своды начала XV в., и каким авторитетом пользовалась «Повесть временных лет». Со времени ее написания работа исторической мысли еще не была так интенсивна, как в этот период. Никогда еще работе летописцев и историческим концепциям не придавалось такого исключительного значения — значения государственной важности. Общенародный господствующий характер обращения после Куликовской битвы (1380) к временам независимости, к Киеву, к «Повести временных лет», к Владимиру как к городу, овеянному воспоминаниями, связанными с эпохой независимости Руси, ярко выступает не только в книжности. Сопоставление летописной работы начала XV в. с тем, что происходило в это время в области живописи и архитектуры, ярче всего демонстрирует, какого грандиозного размаха достигли в начале XV в. восстановительные тенденции. Конец XIV — начало XV вв. могут рассматриваться как эпоха возрождения, связанного с особым интересом к родной истории и к памятникам прошлого. Резкий перелом в области московского искусства наступил именно в княжение Дмитрия Донского. Архитектурные формы постепенно обнаруживали стремление к внешнему блеску, к пышности и богатству, как бы отражающим общий подъем народного самосознания после первых побед над татарами. С княжения Дмитрия Донского впервые в русской истории началась реставрация памятников, связанных с воспоминаниями об эпохе независимости Руси. Очевидно, что именно в княжение Дмитрия Донского Успенский собор во Владимире (1158) капитально ремонтировался и стал княжеским собором. Реставрационные работы особенно усилились в начале XV в. В 1403 г. обновлялся собор 1152 г. в Переяславле Залесском. В 1408 г. знаменитый русский живописец Андрей Рублев восстановил по приказанию московского великого князя древнюю домонгольскую живопись Успенского собора во Владимире.140 Реставрационные работы над памятниками домонгольской поры велись в Ростове, в Твери, в Звенигороде и т. д. Полоса этих реставраций тянулась вплоть до Ивана III, когда итальянский зодчий Аристотель Фиораванти построил центральную святыню нового русского государства — Успенский собор московского кремля, по образцу владимирского Успенского собора 1158 г. Тот же интерес к произведениям домонгольского периода характеризует и русскую книжность. Составлялись новые и вновь редактировались старые переводы произведений, известных еще с XI–XII вв.; во множестве создавались новые исторические сказания и повести, главным образом касающиеся борьбы с татарами. В течение всего XV в. мы встречаем усиленное подражание литературным произведениям эпохи независимости. Это обращение во всех областях культурной жизни Руси конца XIV — начала XV вв. ко временам независимости вызвало к жизни оригинальную историческую теорию, символически противопоставившую начало и конец татаро-монгольского ига. Читая и перечитывая «Слово о полку Игореве», как перечитывались в конце XIV в. «Повесть временных лет», «Киево-Печерский патерик», «Сказания о рязанском разорении», подвергшиеся в это время существенным переделкам, древнерусский книжник усмотрел в событиях «Слова» начало татаро-монгольского ига. Немалую роль в этом имело самое отожествление половцев и татар, типичное для московских летописных сводов.141 Такой взгляд на «Слово о полку Игореве», как на произведение о начале татаро-монгольского ига, побудил вскоре же после Куликовской победы противопоставить ему произведение о конце татаро-монгольского ига. Таким своеобразным «ответом» на «Слово о полку Игореве» явилась «Задонщина». Автор «Задонщины» имел в виду не бессознательное использование художественных сокровищ величайшего произведения древней русской литературы — «Слова о полку Игореве», не простое подражание его стилю (как это обычно считается), а вполне сознательное сопоставление событий прошлого и настоящего, событий, изображенных в «Слове о полку Игореве», с событиями современной ему действительности. И те и другие символически противопоставлены в «Задонщине». Чтобы пояснить читателю эту идею, автор «Задонщины» предпослал ей предисловие, составленное в эпически-былинных тонах. На пиру у воеводы Микулы Васильевича великий князь Дмитрий Иванович обращается к «братии милой» с предложением пойти на юг, взойти на горы киевские, посмотреть на славный Днепр «и оттоле на восточную страну, жребий [удел] «Симов», от которого родились татары: «те бо на реце на Каяле одолеша род Афетов [русских], оттоле Русская земля сидит невесела, от Калатьския [Каяльская] рати до Мамаева побоища тугою и печалию покрышася, плачущися, чады своя поминаючи». «Снидемся, братия и друзи и сынове русские, составим слово к слову, возвеселим Русскую землю, возверзем печаль на восточную страну, в Симов жребий» [т. е. на татар], — приглашает автор «Задонщины» в начале своего произведения. Дальнейшее описание событий битвы на Дону имеет в виду именно это — «возвеселить Русскую землю», «ввергнуть печаль» на страну татар. В «Слове о полку Игореве» грозные предзнаменования сопровождают поход русских войск: волки сулят грозу по оврагом, орлы клёкотом зовут зверей на кости русских, лисицы лают на щиты русских. В «Задонщине» те же зловещие знамения сопутствуют походу татарского войска: грядущая гибель татар заставляет птиц летать под облака, часто граять воронов, говорить свою речь галок, клекотать орлов, грозно выть волков ж брехать лисиц. В «Слове» — «дети бесови [половцы] кликом поля перегородиша»; в «Задонщине» — «русские же сынове широкие поля кликом огородиша». В «Слове» — «чрьна земля под копыты» была посеяна костьми русских; в «Задонщине» — «черна земля под копыты костьми татарскими» была посеяна. В «Слове» — кости и кровь русских, посеянные на поле битвы, всходят «тугою» «по Русской земли»; в «Задонщине» — «уже бо восстона земля татарская, бедами и тугою покрыся». В «Слове» — «тоска разлияся по Русской земли»; в «Задонщине» — «уже по Русской земле простреся веселие и буйство». В «Слове» — «а погании с всех стран прихождаху с победами на землю Русскую»; в «Задонщине» же сказано о татарах: «уныша бо царей их веселие и похвала на Русскую землю ходити». В «Слове» — готские красные девы звенят русским золотом; в «Задонщине» — русские жены «восплескаша татарским златом». «Туга», разошедшаяся в «Слове» после поражения Игоря по всей Русской земле, сходит с нее в «Задонщине» после победы Дмитрия. То, что началось в «Слове», кончилось в «Задонщине». То, что в «Слове» обрушилось на Русскую землю, в «Задонщине» обратилось на ее врагов. Итак, начало того исторического периода, с которого Русская земля «сидит невесела», автор «Задонщины» относит к битве на Каяле, в которой были разбиты войска Игоря Севзрского. «Задонщина» повествует, следовательно, о конце этой эпохи «туги и печали», о начале которой повествует «Слово о полку Игореве». Отсюда преднамеренное противопоставление в «Задонщине» конца — началу, битвы на Дону — битве на Каяле, победы — поражению, и преднамеренное сопоставление Каялы с Калкой, половцев с татарами. Отсюда внешнее сходство произведений, проистекающее из исторических воззрений автора «Задонщины», типичных для своего времени. Обращение к стилю «Слова о полку Игореве» входит, следовательно, в самый замысел «Задонщины», как идеологическое освещение тех событий, начало которых автор «Задонщины» видел в битве на Каяле— Калке, а конец — в битве на Дону. Таким образом, стилистическая близость «Слова о полку Игореве» и «Задонщины» не является результатом творческого бессилия автора «Задонщины» — это вполне сознательный прием: на фоне стилистического единства «Слова» и «Задонщины» ярче и острее должно была казаться самое противопоставление двух событий — прошлого и настоящего. Куликовская битва рассматривается, следовательно, в «Задонщине» как реванш за поражение, понесенное войсками Игоря Святославича на реке Каяле, сознательно отожествляемой автором «Задонщины» с рекой Калкой, поражение русских на которой в 1224 г. явилось первым этапом завоевания Руси татарами. Эта идея реванша, как и самая идея обращения ко временам независимости Руси, сказавшаяся и в письменности, и в архитектуре, и в живописи, и в политике, имела глубоко народный характер. В этом убеждает русский былевой эпос, русские былины, где эти же идеи сказались в полной мере. Есть основание полагать, что сложение русского былевого эпоса в единый киевский цикл произошло не позднее середины XV в. Хотя главные сюжеты былинных песен о князе Владимире относятся еще к домонгольским временам (например сюжеты, связанные с Добрыней, исторически засвидетельствованные «Повестью временных лет»), однако присоединение к ним сказаний рязанских, тверских, муромских, ростовских не могло совершиться до объединения этих областей в единое государство. В то же время создание этого цикла явно не могло произойти и после присоединения Новгорода к Москве, так как новгородские былины составили особый цикл, вернее они не вошли ни в какой цикл: новгородские былины остались без того объединяющего лица, которое получили былины киевские, ростовские, рязанские, московские, сгруппировавшиеся вокруг «старого Владимира» «Красного Солнышка». Следовательно, сложение киевского цикла не могло произойти и позднее 1479 г. — года воссоединения Новгорода и Москвы. Косвенное указание на время расцвета русского былевого эпоса и создания киевского цикла былин дают московские летописные своды XV в., в которые были включены отражения различных былинных сюжетов. В частности, чрезвычайно показательны отражения в московских летописных сводах сюжетов, героем которых был ростовский богатырь Александр (Алёша) Попович. Первоначально Александр Попович, поскольку это выясняет анализ летописных сюжетов с его участием, — один из «храбров» Всеволода Большое Гнездо. Александр — житель Ростова, со смертью Всеволода он переходит на службу к его сыну Константину. Боевые подвиги Александра связаны с борьбой за наследство Всеволода между его сыновьями. Он — главный герой Липецкой битвы. Сказания о нем, сложившиеся до XIV в., тесно связывают его имя с урочищами Ростова. Эти сказания, повидимому, первоначально распространялись только в Ростово-Суздальской земле. С ослаблением центробежных областнических, узко местных тенденций в конце XIV — начале XV вв., с ростом сознания общерусского единства Александр Попович теряет черты местного ростовского герой и становится героем общерусским. Параллельно реальному политическому объединению русских земель создаются произведения, объединяющие русских богатырей, начинающих служить общерусским интересам. Создается сюжет об отъезде Александра Поповича из Ростова во главе других русских храбров, отказывающихся от служения местным князьям. Александр Попович и все русские князья приезжают в Киев — мать городов русских — и служат «единому» русскому князю Мстиславу Романовичу, а затем гибнут в Калкской битве. В летописном своде Фотия (1418 или 1423), в известии о смерти в битве на Калке Александра Поповича и «инех» 70 храбрых можно видеть древнейшее отражение в средневековой письменности эпического сюжета о гибели богатырей. Это один из древнейших этапов сложения былин в единый цикл, один из основных и первоначальных сюжетов, рисующих объединение богатырей (объединение, правда, перед лицом смерти, объединение в гибели за общерусское дело). Недовольство княжеской властью в конце XIV и начале XV вв. (эпоха усобиц) нашло отражение в летописи в резко отрицательном изображении киевского князя Мстислава Романовича (см. так называемый Тверской сборник). Однако рост политического значения княжеской власти в XIV и XV вв., выдающаяся роль московских великих князей в политическом объединении Руси приводят к переосмыслению роли и личности князя в былинных сюжетах. Соответственно этому уже во второй половине XV в. в былинных сюжетах об Александре Поповиче место ничтожного князя Мстислава Романовича занимает идеализированный русской летописью, книжностью и народом в целом — Владимир Мономах, собиратель русских богатырей и официальный родоначальник московских великих князей, собирателей Русской земли. Александр Попович на службе у Владимира Мономаха удачно обороняет Киев от половцев (Никоновская летопись под 1103 г.). Последний этап создания сюжетов об Александре Поповиче, засвидетельствованный летописью для первой половины XVI в., застает Александра Поповича при главной притягательной силе Киевской Руси — Владимире I Святославиче, совместно с другими русскими богатырями защищающим Киев от печенегов. К 1550-м годам (время составления Никоновской летописи) этот цикл развития былинных сюжетов об Александре Поповиче может считаться завершенным. Таким образом, исторические предания об Александре Поповиче и по характеру своей распространенности и по характеру своих сюжетов развиваются от узко местного эпоса к общерусскому. Местные сказания, приуроченные к определенным ростовским урочищам, превращаются в общерусские героические сюжеты с весьма обобщенным содержанием. Развитие былинных сюжетов об Александре Поповиче идет параллельно развитию и росту общенародного самосознания. Это положение справедливо и для истории ряда других былинных сюжетов. История сюжетосложения былин об Александре Поповиче наглядно убеждает в том, что процесс циклизации былинных сюжетов вокруг Киева и Владимира «Красное Солнышко» отнюдь не являлся механическим процессом, подчиненным бессознательным законам народной памяти. Историческая школа в изучении былин (Вс. Миллер, М. Халанский, Н. Дашкевич, А. Лобода, А. Марков, Б. Соколов и др.) ставила себе целью связать русские былины с подлинными историческими фактами, с определенными историческими лицами. Вся последующая история былинных сюжетов, в том числе и циклизация их вокруг Киева, рассматривалась исторической школой, как постепенное обесценивание и затухание памяти об этом историческом ядре — историческом факте, легшем в основу былины. Анализ исторического развития былинных сюжетов, поскольку оно отразилось в летописи, позволяет говорить об обратном: не о ниспадающей линии развития эпоса, а о восходящей. Возникнув на основе местного исторического припоминания, сюжет героического эпоса постепенно поднимается до обобщающих представлений об исторических судьбах родины и выходит за пределы своей местности, становясь достоянием всего народа. Это объясняется в первую очередь тем, что развитие эпоса самым тесным образом связано с историческими воззрениями народа. Эта мысль была в свое время отчетливо выражена таким непревзойденным знатоком русского эпоса и древней русской письменности, как Ф. Буслаев: «… русский народный эпос служит для народа неписанною традиционной летописью, переданной из поколения в поколение в течение столетий. Это не только поэтическое воссоздание жизни, но и выражение исторического самосознания народа».142 Таким образом, историческая концепция русского эпоса отнюдь не случайна: ее создание диктовалось исторической необходимостью; она представляла собой живой отклик народа, активно воспринимавшего события своего времени, на судьбы родины. Исторический эпос — «исторический не в том смысле, что в нем выведены действительные исторические лица, а в том, что в формах прошлого он выразил народное настроение настоящего».143 История сюжетосложения былин — история постепенного вхождения их в киевский цикл. Она наглядно показывает, что в киевском цикле отразилась прежде всего идея единства Руси, идея единства русского народа. И князь Владимир и Киев, в котором собираются все местные русские богатыри, являются в нем символами русского единства и русской независимости. На службе у князя Владимира русские богатыри, Илья Муромец, Добрыня Рязанич, ростовский житель Александр Попович и др., обороняют Русскую землю от степных кочевников, стоят на пограничной заставе, зорко всматриваясь в степную даль, и неизменно одерживают победы над врагами Руси. Объединение местных областных сказаний в единый киевский цикл вокруг князя Владимира совершилось в былинах на почве того же культа Киева и его князя Владимира, который заставлял москвичей на рубеже XIV и XV вв. восстанавливать домонгольские здания, реставрировать домонгольскую живопись, подновлять и давать новые редакции произведениям Киевской Руси, возводить генеалогию московских князей к «старому Владимиру» и т. д. Объединение русских былин в киевский цикл было, следовательно, вполне аналогично объединению областных летописей в грандиозных московских летописных сводах с киевской «Повестью временных лет» во главе. Культ Киева и его князя Владимира был культом национальной независимости и в русской книжности и в фольклоре. Подобно тому как «Задонщина» была вся проникнута идеей реванша и мести за нанесенные русским поражения, русские былины, воспевавшие неизменные победы русских богатырей над татарами, жили той же идеей мести и реванша. Смешение половцев и татар, как общих врагов Руси, в книжности и фольклоре далеко не случайно: и книжность и фольклор жили в основном единой мыслью в эпоху объединения русских областей и борьбы с татаро-монгольским игом. >VI ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА С МОСКВОЮ НОВГОРОДА И ТВЕРИ >Наряду с подъемом объединительных идей в Москве, росло и идеологическое сопротивление ей отдельных русских областей. Чем круче была политика Москвы, тем ожесточеннее было это сопротивление. Но знаменательно, что, противопоставляя Москве свои политические теории, области вынуждены были считаться с достижениями исторической мысли Москвы и безоговорочно принимали некоторые из ее идей. Чем ярче разгоралась борьба Москвы с Новгородом и Тверью, тем яснее становилась победа идеи общерусского единства. Под конец борьба шла уже не между центробежными и центростремительными силами в русской жизни: боролись областные центры с Москвою за возглавление того общерусского единства, которое уже всеми считалось одинаково необходимым. В идейной борьбе Новгорода и Твери с Москвою рождались новые исторические произведения, необычайно рос интерес к родной истории. Так, в самом сопротивлении Москве рождались предпосылки для объединения с нею. >1 Объединительная политика Москвы встретила чрезвычайно сильное сопротивление новгородского боярства, опасавшегося потерять свои обширные земельные владения, и крупного новгородского купечества, боявшегося конкуренции Москвы в торговле с Западом. Новгородское государство становилось всё более и более реакционной силой в русской жизни, сопротивлявшейся объединительной политике московских великих князей. Новгородское ушкуйничество нарушало московскую торговлю севера и северо-востока; неспокойная новгородская политика грозила постоянными неожиданностями. Однако в самом Новгороде, как и в других русских областях, увеличивалось «в населении количество таких элементов, которые прежде всего желали, чтобы был положен конец бесконечным, бессмысленным войнам, чтобы прекращены были раздоры феодалов, приводившие к тому, что внутри страны шла непрерывная война даже в том случае, когда внешний враг был в стране, чтобы прекратилось это состояние непрерывного и совершенно бесцельного опустошения, которое неизменно продолжало существовать в течение всего средневековья».144 Демократические низы Новгорода явно тяготели к Москве, к сильной великокняжеской власти, в которой надеялись найти опору против боярства. В разное время сторонники подчинения Москве находили себе в Новгороде путь к власти, но в полной мере ни партия новгородских сепаратистов (так называемая литовская), ни партия сторонников Москвы не смогли возобладать на зыбкой почве новгородского «народоправства». Конец XIV в. характеризуется крайним обострением борьбы Москвы с Новгородом. Эта борьба стала особенно напряженной в 90-х годах XIV в., в связи с отказом новгородцев выезжать на суд к московскому митрополиту. По старому, испытанному еще в XII в. пути, новгородское боярство посылало послов с жалобой в Константинополь, угрожало Москве переходом в латинство, клялось на вече не судиться у митрополита. Только после того, как войска великого князя захватили Торжок и начали опустошать новгородские волости, новгородцы изъявили покорность. Новый перевес дало новгородской литовской партии замешательство в церковных делах первой половины XV в., приведшее к образованию двух враждебных митрополий: московской и киевской. Оно позволило новгородскому боярству вести двойную политику и постоянно добиваться от Москвы уступок угрозами подчиниться киевскому митрополиту. С этой поры церковный вопрос в Новгороде приобрел первостепенное политическое значение. Пользуясь смутою в церковных делах, Евфимий II Новгородский получил «поставление» в Смоленске у киевского митрополита Герасима, и это дало Новгороду независимость от московской церкви. В Новгороде приобрели значительную силу антимосковские настроения. Архиепископ Евфимий II активно способствовал западному влиянию и оказывал покровительство иностранцам. «От странных же или чуждых стран приходящих всех любовию приимаше, всех упокоиваше, всех по достоинству миловаше», — говорит о нем Пахомий Серб. Показателем новгородской политики служит то, что в Новгороде находили убежище противники московского великого князя — Дмитрий Шемяка и Василий Гребенка. Новгородское боярство обращалось к прошлому Великого Новгорода, чтобы в нем найти опору в борьбе против Москвы. Так же, как и в Москве, это обращение к прошлому сказалось в усиленном развитии летописания, в целом ряде реставрационных работ, в попытках оживить историческое предание, связанное с героическими страницами в жизни родного города. Во второй четверти XV в. началась беспокойная строительная деятельность архиепископа Евфимия II. Он обстроил новыми зданиями владычный двор Детинца, строил на Софийской и Торговой сторонах, строил в Старой Руссе, в Вяжищах, в Хутыне и т. д. Ко времени Евфимия II относятся здания светского и промышленного назначения, церкви и правительственные палаты. Особое место в строительной деятельности Евфимия II занимало возрождение новгородских архитектурных форм XII в. — века наибольшего расцвета новгородской торговли и внешнего могущества. В 1454 г. Евфимий II реставрировал церковь Ивана на Опоках (братчины Иванщины), первоначальной постройки 1127–1130 гг. В 1455 г. он строил «на старой основе» церковь Ильи на Славне, первоначальное здание которой относилось к 1198–1202 гг. В 1442 г. Евфимий II «на старой основе» 1198 г. ставил Преображенский собор в Старой Русое. На старой же основе XII в. восстанавливались церкви Бориса и Глеба (1445), Жен-мироносиц (1445), Борогодицы на Торгу (1458) и др.145 Евфимий II возродил строительные приемы монументальной архитектуры XII в., напоминавшие своими выразительными и внушительными формами о былом величии Новгорода. Разнообразной строительной деятельностью Евфимия II восхищался Пахомий Серб, в восторженных выражениях описавший выстроенные Евфимием храмы Детинца, которые «яко звезды или горы» стоят вокруг Софии. Массовое восстановление Евфимием II старых церквей XII в. связано с одновременным установлением культа «преждеотшедших» новгородских архиепископов, с возрождением летописного дела, с созданием цикла литературных произведений об архиепископе Иоанне, при котором новгородцы в 1170 г. отбили от стен Новгорода войска северо-восточных княжеств, что в XV в. служило как бы символом неприступности Новгорода для посяганий Москвы. Около 1432 г. был составлен в Новгороде обширный летописный свод «Софийского временника», который должен был дать новую историческую концепцию, поставив в центр русской истории историю Великого Новгорода. Однако, вскоре после составления свода 1432 г. «Софийского временника», в Новгороде стал ясен и его основной недостаток, не позволявший ему конкурировать с обширными московскими летописными сводами начала XV в. В то время как московское летописание было в подлинном смысле этого слова общерусским, объединяло в своем составе известия самых разнообразных областей и освещало историю всего русского народа в целом, новгородский «Софийский временник» но составу своих известий оставался все же летописью узко новгородской. Поэтому при том же Евфимии II в 1448 г. было предпринято составление нового летописного свода. Свод 1448 г. был первым новгородским сводом с ярко выраженным общерусским характером. Это далеко уже не узкая местная летопись, редко выходящая за пределы родного города, какой была новгородская летопись в предшествующие столетия. Свод 1448 г. описывает судьбу русского народа в целом, хотя преимущество попрежнему отдает Новгороду и в нем видит, очевидно, центр событий русской истории. Знаменательно, что в основном этот общерусский характер свод 1448 г. приобретает в результате заимствования общерусских известий из московского летописного свода Фотия 1418 или 1423 г. Стремясь создать историческую и политическую концепцию, противостоящую московской, Новгород все же опирался на Москву, на ее книжность, считался с достижениями ее исторической мысли и принимал общерусский характер ее трактовки предшествующего летописания. Так, идеи Москвы находят себе признание даже у ее врагов. Однако, в противоположность московским летописцам конца XIV — начала XV вв., нередко оценивавшим события с точки зрения демократических городских слоев населения, составитель свода 1448 г. во многих случаях проявил себя как представитель интересов боярской партии — владычнего двора. Он с осуждением отнесся к черному люду — к «голодникам», «ябедникам»146 и к городским волнениям. Свод 1448 г. имел обширный успех в русском летописании. В Новгороде на его основе создается еще ряд сводов. Историческая мысль работала с чрезвычайной интенсивностью. Летописные своды с настойчивой последовательностью создавались один за другим, но самостоятельной и законченной новгородской исторической концепции, подобно московской, всё же не получилось. Содержание новгородских летописей, стремившихся соединить достижения исторической мысли Москвы с антимосковскими тенденциями правящей верхушки Новгорода, осталось таким же противоречивым, как противоречива была и сама новгородская жизнь. >2 Попытки новгородского боярства опереться на прошлое Великого Новгорода, возродить старые, еще домонгольские традиции нашли себе место не только в новгородском летописании. В 1436 г. в церкви Усекновения главы в Новгородском Детинце упавший сверху камень пробил «велию скважину», в которой обнаружилось «нетленное» тело неизвестного святого. Известили Евфимия. «Убедившись» в нетленности мощей, Евфимий начал молить Бога: «да явит имя, кто есть». В ту же ночь «явился» Евфимию архиепископ Иоанн, открылся, что мощи принадлежат ему, и велел «праздновать себя» каждое 4 октября. Иоанн (1163–1186) — первый официальный новгородский архиепископ. Он был известен в Новгороде, главным образом, как лицо, при котором в 1170 г. произошло «чудесное» спасение города от подступивших к нему войск северо-восточных княжеств, отожествлявшихся в Новгороде в XV в. с Москвой. Само собой разумеется, что открытые так кстати упавшим камнем мощи Иоанна были торжественно водворены в Софийском соборе, и почитание этого новоявленного святого приобрело формы почти политической демонстрации. Вокруг архиепископа Иоанна и «чуда» спасения Новгорода от войск суздальцев возник цикл легенд, своего рода культ новгородской независимости. Основание культа новгородских святых и возвеличение новгородского прошлого подкреплены были несколько позднее и другой легендой. Под 1439 г. летопись сохранила сказание пономаря Аарона.147 В одну из ночей пономарь Аарон увидел, как в церковь Софии «прежними дверьми» (очевидно теми, которыми перестали пользоваться) вошли все «преждеотшедшие» новгородские архиепископы, молились в алтаре и пред иконою Корсунской божьей матери. Пономарь рассказал о своем видении Евфимию, и тот «бысть радостен о таковом явлении», повелел служить панихиду по всем новгородским архиепископам, а затем установил и более регулярное чествование своих предшественников. Выходило так, что не Евфимий II насаждал почитание новгородских святых и воскрешал память о забытых временах новгородского расцвета, а само прошлое напоминало о себе. «Преждеотшедшие» архиепископы молились за Новгород, объявляли свои мощи и т. д. Новгородская боярская партия настойчиво искала в новгородском прошлом опоры для своих притязаний на независимость и отъединенность от Москвы. Евфимий II пригласил с Афона знаменитого ритора Пахомия Серба и заказал ему литературное изложение легенды о чудесном спасении Новгорода при архиепископе Иоанне от войск суздальцев в 1170 г. Простую и непосредственную новгородскую легенду Пахомий «удобрил» витиеватым красноречием, придав ей пышность и назидательность, усилив элемент чудесности. Заканчивалось описание «чуда» спасения Новгорода от войск северо-восточных княжеств в изложении Пахомия молитвой, трафаретные заключительные строки которой должны были звучать особенно остро в политической обстановке половины XV в.: молитва завершалась прошением об избавлении «града нашего [Новгорода] от глада, губительства, труса [землетрясения], потопа и нашествия иноплеменников».148 В этот первый свой приезд в Новгород Пахомий написал, кроме того, службу новгородскому святому Варлааму Хутынскому, похвальное слово ему же и житие Варлаама. Культ новгородских святых обставлялся, как видим, необходимой пышностью. Таким образом, торжественное восстановление авторитета родной старины, начатое Москвою, было подхвачено ее политическим противником — Новгородом, новгородским боярством. Чем ожесточеннее была идеологическая борьба Москвы и Новгорода, тем яснее становилась победа общерусского сознания, тем ближе в конечном счете становилась и идейная победа Москвы, как наиболее последовательного носителя общенациональных традиций. >3 Но уже и в самом Новгороде идеи Москвы находили всё большее число сторонников. К концу 50-х годов XV в., в результате победы московского великого князя над новгородским ополчением и заключения невыгодного для новгородского боярства мира, перевес Москвы настолько определился, что представителям боярской партии в Новгороде приходилось думать только о политике отсрочки, по существу, неизбежного конца новгородской независимости. Росло и сочувствие демократических слоев населения Новгорода Москве. Роль заступника и постоянного ходатая за Новгород перед московским великим князем принял на себя избранный после смерти Евфимия II архиепископ Иона, искусно лавировавший между крайностями литовской боярской партии и энергичным натиском Москвы. Иона ознаменовал свое архиепископство целым рядом предприятий, клонившихся к закреплению мирных отношений с Москвой. В житии Ионы отмечено, что «московьстии князи много любяху его и со благоговением почитаху, и писания множицею посылаху к нему и от него въсписания желанно приимаху».149 Иона установил в Новгороде культ московского святого Сергия Радонежского, выстроил ему церковь (1463), ездил в Москву, где слезно заступался за новгородцев перед великим князем. При Ионе вторично прибыл в Новгород Пахомий Серб. Иона, как и Евфимий II, заказал Пахомию различные церковные службы и при этом, наряду со службами новгородским святым заботился и о службах святым, имевшим общерусское значение. Особенный интерес имеет заказанное Ионой Пахомию «Сказание о чуде преподобного Варлаама Хутынского» (1460). «Чудо это, случившееся в первый же год архиепископства Ионы, было весьма симптоматично. Во время приезда в Новгород московского великого князя Василия Васильевича умер его постельничий Григорий Тумган. Привезенный ко гробу новгородского святого Варлаама, постельничий «воскрес». Так же, как и открытие мощей архиепископа Иоанна при Евфимии II, инсценировка воскрешения постельничего московского великого князя у гроба новгородского святого не была случайной: новое «чудо» знаменовало собой временный перелом в новгородской политике и стояло в связи с новгородской дипломатией, стремившейся расположить к Новгороду великого князя Василия Васильевича. Заказывая описание этого «чуда», Иона имел в виду внушить московскому князю уважение к новгородским святыням, примирить его с Новгородом. Предназначенное для такой цели «Сказание» написано в духе московских взглядов. Оно именует Василия Васильевича «благочестивым и благоверным великим князем володимерским и московским и новгородским и всея Руси», а Новгород — вотчиной великого князя. Впоследствии, когда отношения Новгорода с Москвой вновь обострились, послушный исполнитель воли своих заказчиков Пахомий Серб переделал свое произведение согласно с требованиями момента: пышное титулование московского великого князя было замшено более простым — «благочестивый великий князь», а место, в котором говорилось о Новгороде, как о вотчине великого князя, было опущено. К эпохе усиления московских тенденций в Новгороде (в самой средине XV в.) относится житие яркого представителя московской демократической партии в Новгороде — Михаила Клопского. Москвич по происхождению, родственник московских великих князей, Михаил избрал местом своего монашеского пребывания небогатый новгородский Клопский монастырь, игумена которого Феодосия низы новгородского населения одно время даже избрали в архиепископы. Житие, демократическое по своим тенденциям, обильно эпизодами враждебного отношения монастыря к посадникам, к укрывавшемуся в Новгороде неудачному конкуренту московского великого князя Дмитрию Шемяке, и вместе с тем, в отличие от велеречивых и витийственных произведений Пахомия, выполнявшего заказы боярской партии, носит демократический, просторечный характер со следами влияния фольклора. О новгородском князе Михаиле Олельковиче, ставленике Литвы, Михаил Клопский говорит: «то у вас не князь — грязь», советует покориться московскому великому князю, «предрекает» торжество Москвы. Таким образом, еще до завоевания Новгорода Москвою в Новгороде зрели идеи общерусского единения под верховенством Москвы. Сама новгородская старина, вызванная к жизни сторонниками литовской боярской партии, восставала на новгородскую независимость. Разбуженный интерес к родной истории подсказывал идею общерусского единства. >4 В эпоху походов Ивана III ожесточение борющихся партий в Новгороде — литовской и московской — достигло крайней ступени. Новгородское летописание утратило свою организованность и систематичность. Летописи велись по инициативе представителей обеих враждующих партий, дополнявших и расширявших списки, начатые их предшественниками. В этих дополнениях нет единства между отдельными летописцами ни в политических взглядах, ни в круге отмечаемых ими событий, ни в стиле и манере изложения. Летописцы то ограничивались одними лишь новгородскими событиями, то вводили сведения общерусского значения; иногда эти известия кратки и сдержанны, но иногда же речисты и витийственны. Те части новгородской летописи, которые отличаются традиционным новгородским лаконизмом стиля, лишены, однако, чеканности летописного языка XII–XIII вв. Летописец терял присущее ему спокойствие тона, как только подходил к предметам, близко касавшимся его политических убеждений, и разражался в этих случаях многословными тирадами против своих политических врагов всюду, где находил это возможным. Летописец, дополнивший один из списков Новгородской IV летописи (Строевский), так отчитал сторонника московского великого князя Упадыша, забившего железом пять новгородских пушек при приближении к Новгороду московского войска: «како не вострепета, зло мысля на Великий Новъгород, не сытый лукавъства? не мъзды ли ради предаеши врагом Новъгород, о Упадышче, сладкого брашна вкусил в Великом Новеграде? О, колика блага не намятив, недостаточное ума достигл еси!.. Уне бы ты, Упадыше, аще не был бы во утробе матерьни: не бы был наречен предатель Новуграду…»150и т. д. Не на одного Упадыша сетует летописец. Он осуждает «владычнь стяг» (полк новгородского архиепископа), который не хотел ударить на московскую княжескую рать, ссылаясь на то, что «владыка нам не велел на великого князя руки подынути». Осуждает летописец и тех новгородцев, которые перед битвой, с москвичами «вопили» на «больших людей», не желая сражаться: «Яз человек молодыи, испротеряхся конем и доспехом».151 «И бысть в Новегороди молва велика, и мятежь мног, и многа лжа неприазнена, сторожа многа но граду и но каменным кострам [башням] на переменах день и нощь. И разделишася людие: инии хотяху за князя [московского], а инии за короля, за Литовьского»,152 так описывает летописец волнения, вызванные поражением новгородского войска на Шелони. Иной характер носили дополнения Новгородской IV летописи по списку Дубровского. Помимо обилия в них московских и общерусских известий, список включил в свой состав такие направленные против новгородской независимости произведения, как «Словеса избранна от святых писаний»153 на новгородцев, «Послание митрополичье»154 против них же, московский рассказ о присоединении Новгорода с резкими выпадами против новгородцев и характерным заключительным проклятием новгородским «смутьянам»: «И та земская их беда и вся людцкая кровь да будетъ изысканна от Бога вседержителя, по писанному: Господи! зачинающих рать погуби. И то все на тех главах на изменных и на их душах, в сем веце и в будущем, аминь».155 Военные действия против Новгорода, а затем и борьба в Новгороде с остатками боярско-литовской партии внесли ненадолго черты озлобления и полемичности в произведения обеих партий. Эта борьба по мелочам, по текущим вопросам была лишена той широкой историко-философской аргументации, которой обладала литература предшествующего периода. >5 Московские порядки были введены в Новгороде в 1478 г. после вторичного похода, которому Иван III придал характер защиты русских интересов от изменников — новгородских бояр. Этот поход Ивана III был обставлен с чрезвычайной пышностью. Ни один из московских походов ни в прошлом, ни впоследствии не сопровождался такой усиленной пропагандой, таким обилием всяческих посланий, как новгородские походы Ивана III. Идеологическое состязание Новгорода и Москвы достигло в 70-х — 80-х годах XV в. особенной напряженности. Везя в обозе своих войск летописи и книжника, умевшего «говорить по летописцам русским» (новгородца Стефана Бородатого),156 Иван III готовился к сложной идеологической борьбе с Новгородом. Наступая на Новгород, Иван III явно не опешил, принимал по дороге перебежчиков и затягивал переговоры, очевидно, выжидая, чтобы московские интересы сами взяли верх в Новгороде. К этому у него были веские основания: так называемая литовская партия, составлявшая крайнее меньшинство, орудовала в Новгороде путем подкупов и террора, которые становились недейственными при одном приближении громадного войска великого князя. Чем ближе подступала к Новгороду великая рать московская, тем больше перебегало к ней новгородцев, обещавших служить великому князю верой и правдой. Присоединение Новгорода к Москве не сопровождалось стремлением к разрушению его культурных ценностей. Уничтожая новгородскую независимость, москвичи не считали себя завоевателями, точно так же, как и представители московской партии в Новгороде не рассматривали себя как врагов родного города. Уничтожение новгородской независимости понималось не как завоевание, а как воссоединение исконных русских земель под державой «боговенчанного» монарха «всея Руси». Сознание значительности одного из старейших русских городов постоянно ощущается в отношениях Москвы к Новгороду. Москва широко использовала новгородские летописи, приглашала к себе новгородских иконников и каменщиков, подчеркивала славу и величие великого Новгорода, исконную зависимость его от московских великих князей, усматривая новгородскую измену лишь в «последних летех». Постепенно Москва обстраивала новыми стенами Новгородский Детинец (кремль), возвратила в Новгород Софийскую казну, увезенную было Иваном III, перепланировала город, расширяя улицы, упорядочила городскую жизнь, наконец всячески пользовалась книжными традициями и богатствами Новгорода. В первой половине XVI в. в Новгороде наблюдалось возрождение организованной работы над летописью. В 1520 г. при архиепископе Макарии — будущем участнике «избранной рады» Грозного — здесь была составлена особая редакция Хронографа. В 1539 г. был создан новый свод новгородской летописи.157 При Макарии же в Новгороде составлялось грандиозное собрание житий русских святых, так называемые макарьевские Четьи-Минеи в 12 обширных томах. Стремясь найти в новгородском прошлом опору для нового порядка, Москва поддерживала культ представителя московской демократической партии в Новгороде — Михаила Клопского. Политическое значение этого культа видно хотя бы из того, что впервые в истории: древнерусской книжности составление нового жития этого святого было поручено светскому лицу — московскому чиновнику, сыну боярскому и «храброму воину» Василию Тучкову, который значительно усилил московский антипосаднический дух жития. В течение всего XVI и XVII вв. в Новгороде осуществлялся целый ряд общерусских культурных предприятий. Москва поддерживала книжность Новгорода, и сам Новгород в целом придерживался общерусской позиции; однако кое-какие отголоски идей боярско-литовской партии в церковной трансформации (новгородская церковная организация менее всего пострадала при разгроме Новгорода), как, например, идея совершенной самостоятельности новгородской церкви (легенда о белом клобуке), идея превосходства «священства» над «царством» и т. д., еще долго сказывались и в новгородской книжности и в новгородской жизни на протяжении всего XVI и XVII вв. >6 Идейное движение в Твери XV в. во многом аналогично идеологической борьбе Новгорода с Москвой. Так же, как и в Новгороде, в Твери происходит возрождение местных исторических традиций. Так же, как и Новгород, Тверь стремится создать свое местное патриотическое движение, противостоящее Москве, пытается найти опору своим сепаратистским устремлениям в своем прошлом. В Твери, как и в Новгороде, усиленно восстанавливаются старые, еще домонгольские постройки и возрождаются исторические предания эпохи национальной независимости. Однако в отличие от Новгорода, ограничивавшего круг своих исторических интересов местными преданиями, Тверь вслед за Москвой возрождает общерусские исторические традиции Киева. Тверские книжники втечение всего XV в. неоднократно обращаются к литературным произведениям Киевской Руси, переделывая их, редактируя их, переписывая и заимствуя из них для собственных сочинений отдельные образы и целые отрывки. Тверская литература обращается к патриотическому воодушевлению «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона, к широте исторической мысли «Повести временных лет», к оказаниям о князьях Борисе и Глебе, чей культ на протяжении многих веков связывается с политическими идеалами общерусского единства, к произведениям Кирилла Туровского и Киево-Печерскому патерику, пересоставленному в Твери в начале XV в. в новой, так называемой Арсеньевской редакции. Вместе с тем, тверская литература усваивает московские литературные произведения конпа XIV — начала XV вв. и опирается на достижения московской исторической литературы. Вслед за Москвой, в Тверском княжестве — усиленно ведется летописная работа. В 1409 г. составляется свод, пропагандировавший идею единства «Тверской земли» и необходимости примирения тверских и кашинских князей — наследников тверского великого князя Михаила Александровича. В 1455 г. по приказанию тверского великого князя Бориса Александровича составляется «Летописец княжения тверского». Главное и преобладающее внимание уделено в нем тверским событиям и пропаганде идеи самодержавности тверского князя Михаила Александровича. Он — «от богосадного корени доброплодная отрасль», он — «храбрость показа многу и грады многы взем: покоривыися любовию, а непокоривыа мечем». В своем политическом развитии Тверь значительно опережала Новгород. Политическая борьба тверских великих князей с сепаратистскими стремлениями кашинских князей воспитала в Твери мысль о политических преимуществах сильного единодержавного правления. Тверской свод 1455 г. весь проникнут мыслью о необходимости крепкой княжеской власти, о необходимости прекращения феодальных раздоров. И в этом отношении Тверь не только следовала за Москвою, но в некоторых своих идеях опережала ее. Так, раньше чем в Москве, в Твери создается теория самодержавной власти великого князя. Пользуясь временной слабостью Москвы в годы междоусобной борьбы за московское великое княжение, Тверь стремится взять на себя роль защитницы общерусских интересов, а тверской князь пытается быть представителем в Западной Европе всей Русской земли, как ее глава. Эта идеология ярко отразилась в замечательном похвальном «Слове» инока Фомы тверскому князю Борису Александровичу. Историческую обстановку создания «Слова» отчетливо обрисовал академик Н. П. Лихачев в своем труде «Инока Фомы слово похвальное» (1908, стр. IX–X): «В половине XV столетия еще продолжалось давнее соперничество Москвы с Тверью. Идея о царстве и царском наследии коснулась и Тверской области. Был как-раз необыкновенно благоприятный момент. Москва раздирается усобицами, законный князь то в плену, то изгнан, потом ослеплен. Только помощью Твери утверждается он на прародительском столе, заключив союзный и брачный договоры. Во главе княжества Тверского стоит деятельный и талантливый человек [Борис Александрович]. Временное процветание Твери оживляет заглохшую былую славу. Даже послы великой „Шавруковой“ орды идут в Тверь и минуют Москву. Из Византии же приходят печальные вести; после морального падения на нечестивом латинском соборе распространяются слухи о постепенном утеснении Царьграда агарянами [турками. 29 мая 1453 г. Царьград пал, православная вселенская монархия кончилась. Есть у латинян цари, сильные царства, но не может благодатное наследие царя Константина перейти к впавшим в ересь. Только на одной Руси сияет православие; кому же в Русской земле принадлежит наследие царства?.. Не князь московский, а боговенчанный царь Борис Александрович тверской настоящий наследник Византийской империи и „второй Константин“, благоверный православный самодержец…». Такова главная мысль «Слова». «Слово» инока Фомы подчеркивает величие и славу «Тверской земли». Тверская земля — богоизбранная страна, «Новый Израиль»; ее князь — «второй Константин». Имя тверского князя Бориса Александровича славимо повсюду — «от Востока и до Запада и до самого царствующего града». Авторитет тверского князя стоит высоко среди европейских монархов. Иноземные цари возносят ему хвалу. Инок Фома восхваляет храбрость Бориса Александровича и «дерзость сынов Тферскых». Борис Александрович — государь и «защитник наш». Фома подчеркивает силу княжеской власти Бориса, его единодержавство и утверждает богоустановленный характер княжеской власти, что впоследствии настойчиво станут проводить московские книжники. Великий князь Борис Александрович называется в «Слове» царствующим самодержавным государем, что само по себе было решительной новостью в русской политической мысли того времени. Борис Александрович «царскым венцем увязася» и сравнивается с Августом, с Львом Премудрым, с царем Птоломеем Книголюбцем, с Константином Великим, с царем Феодосием. Фома превозносит строительную деятельность Бориса Александровича, устройство им нового Тверского кремля и называет его «новым Ярославом» (Мудрым), что уже само по себе должно было говорить о стремлении Бориса Александровича сосредоточить в своих руках объединение Руси. «Слово» Фомы недвусмысленно выражало идею единства Руси, идею необходимости сильной монархической власти, впервые по-новому названной «царской». Сами по себе эти мысли «Слова» были глубоко прогрессивны; свидетельствуя о вполне созревшей повсюду мысли о необходимости создания единого национального государства. Но Москва имела большие исторические права на возглавление этого государства. Вскоре спор о том, кому стоять во главе объединенной Руси, был решен военной рукой Москвы. Тверской князь нарушил мирный договор с великим князем московским и вступил в переговоры с Литвой. В 1485 г. Иван III осадил Тверь, тверские бояре перешли на службу к Ивану III, тверской князь бежал в Литву, а тверичи целовали крест Ивану III. >VII РОССИЯ И ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В XVI в. >С конца XV в. объединенное Русское государство становится лицом к лицу с Литвой, Польшей, Ливонией, Швецией, Турцией, Ираном. Москва завязывает непосредственные отношения с европейскими странами: Австрией, Венгрией, Венецией, Римом, Германией, Данией. Русское правительство вступает в различные союзы со странами Западной Европы; оно вызывает архитекторов, ремесленников, горноделов, оружейных мастеров, которые вместе с русскими участвуют в общем прсмышленном подъеме страны. Деятельные сношения Русского государства с другими странами вызывают рост национального чувства, чувства гордости за свою родину. Тверской купец Афанасий Никитин, на 25 лет раньше западно-европейских путешественников проникший в Индию (1466–1472) и составивший о ней обстоятельные и умные записки, повидав многие страны, писал: «Да сохранит Бог землю Русскую! боже, сохрани ее! в сем мире нет подобной ей земли. Да устроится земля Русская».158 Русских путешественников и дипломатов, ездивших в Западную Европу в конце XV и XVI вв., всегда отличала крепкая уверенность в себе, в своем достоинстве представителей России. Русские дипломаты умело пользуются своею историческою ученостью и создают сложную теорию власти московских государей, высоко поднимавшую авторитет русского монарха над остальными европейскими королями и правителями. Это была творческая политическая идеология, направлявшая политику Русского государства по пути защиты национальных интересов, национальной культуры в сложной среде европейской цивилизации. Такова ведущая линия отношений России к Западной Европе в XVI в. >1 Не только Россия была заинтересована в конце XV–XVI вв. в деятельных сношениях с европейскими странами. Сами западно-европейские государства наперерыв стремятся к союзу с могущественной страной на Востоке Европы. Необычайные военные успехи Турции во второй половине XV в. вселили ужас и смятение в среду европейских народов. В 1453 г. после двухмесячной ожесточенной осады пал Константинополь. В 1459 г. была завоевана Сербия и обращена в турецкий пашалык. В 1460 г. турки завоевали Афинское герцогство и вслед за ним всю Грецию. В 1462 г. они захватили Лесбос и Валахию, в 1463 г. — Боснию, в 1467 г. — Албанию, а затем Герцеговину. В 1476 г. турки опустошили Молдавию, а в 1479 г. заключили победоносный мир с Венецией и Неаполем. Расцвет турецкого могущества на Востоке совпал с ростом силы и международного престижа молодого Русского государства. Иван III деятельно сносится с западно-европейскими государствами, и западные властители усиленно стремятся польстить самолюбию восточного государя обещаниями королевского титула и признанием за ним прав на константинопольское наследство. Западно-европейские государства всячески стремятся вселить Ивану III мысли о владычестве на Востоке, столкнуть Москву с Турцией и тем самым сделать Русское государство послушным орудием своей политики. Одно из первых мест в этих завязавшихся сношениях Западной Европы с Москвою принадлежало папе. Маня и соблазняя Ивана III византийским наследством, римская курия стремилась вовлечь Москву в общеевропейский союз для борьбы с исламом. Именно для этого и был задуман в Риме брак Ивана III с Софией Палеолог — племянницей последнего византийского императора Константина VIII. В пути византийскую принцессу сопровождал легат папы. В Риме надеялись приобрести в супруге царевны не только нового союзника против Турции, но и, возможно, нового члена католической церкви. Вскоре после брака Ивана III и Софии Палеолог сениория Венеции, всегда точная и осторожная в своих решениях, писала Ивану III, что Византия «за прекращением императорского рода в мужском колене должна принадлежать вашему высочеству в силу вашего благополучнейшего брака».159 Но Иван III не был склонен к войне с турками. В 1495 г. в Константинополе появились московские послы, чтобы обеспечить русским купцам беспрепятственную торговлю с Турцией. Попытки соблазнить Москву константинопольским наследием и вовлечь Русское государство в войну с Турцией особенно усилились при Василии III. В 1519 г. магистр прусского ордена сообщал Василию III через своего посла Дитриха Шонберга о желании римского папы «наияснейшаго и непобедимейшаго царя всеа Русии короновать в христьянского царя»160 с тем только, чтобы Василий III принял участие в антитурецком союзе. В ходе переговоров Шонберг говорил о союзе против «християнского врага Турка, кой держит наследие царя всеа Русии».161 Однако московские бояре отвечали Шонбергу, что Василий «хочет вотчины своее земли Русские»,162 и не приняли во внимание «костянтинополскую отчину»,163 на которую указывал им Шонберг. Ни Иван III, ни Василий III, ни Иван IV не были склонны к войне с Турцией из-за византийского наследия. Властители Запада напрасно обольщали себя надеждой общего с Москвою крестового похода против ислама. В Москве иначе смотрели на константинопольское наследие и нисколько не заботились о земельных приобретениях в Турции. Грозный не дал ответа австрийскому императорскому посольству 1576 г. на предложение «цесарства греческого» и титула «всходного цесаря» (царя Востока); он не дал его, несмотря ка все свое ревнивое отношение к признанию своего царского титула на Западе. Несмотря на состоявшийся брак Ивана III с Софией Палеолог, расчеты папской курии на то, что московские государи отныне будут считать себя наследниками византийских императоров, не оправдались. Московские государи ни разу не заявили своих прав на императорский титул, несмотря на то, что германский император Максимилиан I сам называл Василия III императором, и ни разу не обнаружили притязаний наследовать права Софии Палеолог на Византию. Пересматривая многочисленные доказательства прав, которые предъявляли московские великие князья на царский титул, мы нигде не найдем ссылок на получение этих прав через брак Ивана III с Софией Палеолог. Обращаясь к восточным патриархам за утверждением царского титула, Иван IV говорит о своем родстве с византийскими императорами, но ни разу не вспоминает своей бабки Софии Палеолог. Не упоминает о родстве московских великих князей с византийскими императорами через Софию Палеолог и официальная литература Москвы XVI в. — «Сказание о князех Владимирских», повести о Мономаховых регалиях и дипломатическая переписка Москвы. Это молчание официальной литературы XVI в. о правах Московского престола, полученных через брак Ивана III с Софией, находит себе соответствие в той крайней нелюбви народа к Софии, о которой единогласно свидетельствуют летописи, Курбский, Берсень-Беклемишев и даже иностранец С. Герберштейн. В Москве склонны были видеть в Софии царственную сироту, нашедшую себе приют в могущественном государстве, а не могущественную наследницу держанных прав Империи. В Софийской II и Воскресенской летописях, после описания похода Ивана III на Угру, летописец поместил воззвание к потомкам хранить независимость своего отечества. Это воззвание заключалось явным намеком на отца Софии — Фому Палеолога и на его сыновей, один из которых (Андрей) дважды безрезультатно приезжал на Русь торговать правами византийских императоров: «О храбрии, мужественной сынове Русьстии! потщитеся сохранити свое отечество, Русьскую землю, от поганых; не пощадите своих голов, да не узрят очи ваши пленения, и грабленное святым церквем и домом вашим, и убиения чад ваших, ж поругания женам и дщерем вашим. Якоже пострадаша инии велиции славнии земли от Турков, еже Волгаре глаголю к рекомии Греци, и Трализонь, и Амория, и Арбанасы, и Хорваты, и Боша, и Манкуп, и Кафа и инии мнозии земли, иже не сташа мужественней пошбоша и отечьство свое изгубиша н землю и государьство, и скитаются по чюжим странам беднл во истинну и странни, и много плача и слез достойно, укоряема н повоошаеми и оплеваеми, яко не мужествензии… Тако ми бога видех своима очима грешнима великих государь, избегших от Турков со имением и скитающиеся яко странни и смерти у бога просящих яко мздовъздаяния от таковыя беды».164 Ясно, кажется, что «избегшие от турков» и «смерти у бога просящие» родственники византийских императоров не могли упрочить блеск русских государей и что не на родстве с ними основывалась величественная идеология Русского государства. >2 Идею «греческого наследия» внушали русскому правительству не только западные державы. Сами греки, часто приезжавшие на Русь после падения Константинополя, греческие церковные власти, обращавшиеся на Русь за материальной поддержкой, проводили в своих домогательствах ту же «греческую идею». Суть ее в общих чертах заключалась в том, что с гибелью императорской власти в Византии единственным защитником православия и греков остается московский великий князь, к которому и должны были перейти все права и обязанности императора второго Рима — Византии. Греки — турецкие послы всячески стремились расстроить мирные отношения русских с Турцией; так было при султане Селиме и Сулеймане Великолепном. Особенно известен был этой своей изменнической по отношению к Турции политикой турецкий посол, грек по происхождению, Скиндер. Русские требовали смены Скиндера, но греческая партия была сильна в Турции: Скиндер оставался на своем посту и сыграл исключительную роль в провале идеи союза, что подтвердилось после его смены в Москве в 1529 г. Максим Грек систематически проводил идею освобождения Греции военной силой Русского государства. Он побуждал великого князя тем, что «бог грекам от отеческих престол наследника покажет»,165 т. е. тою же мыслью о правах московских князей на константинопольское наследство. Не чужда была той же идеи и среда русского духовенства, издавна воспитанная в политических представлениях византинизма. Именно в этой среде, близкой к грекам, зрела с конца XV в. мистическая теория движущегося Рима. Эта теория, возникшая на почве византийской теории всемирной супрематии императора второго Рима (Византии), пыталась перенести на московских государей византийские представления об императорской власти и рассматривала великих князей московских как законных и единственных наследников императоров Вечного Рима. Суть этой теории сводилась к следующему: в мире существует только одно христианское богоизбранное государство, которое не может пасть до скончания века — Вечный Рим. Но Рим этой теории — не неподвижный Рим, связанный с определенной территорией. Первый Рим пал, уклонившись в нечестие, потеряв чистоту христианской религии; второй Рим — Византия, примкнув в Флорентийской унии к первому, был завоеван турками. Отсюда родилась мысль, что Вечный Рим живет в каком-то новом государстве, оставшемся верным православию. И его искали то в Твери,166 то в Новгороде и, наконец, в Москве, необычайно быстрый рост которой совпал по времени с гибелью Византии. Естественно, что вся всемирно-исключительная роль, которая отводилась в Византии императору второго Рима как защитнику церкви и главе всех христиан, переходила теперь, с падением второго Рима, к главе третьего Рима — великому князю московскому. Эту теорию неоднократно внушали Василию III представители церкви. Дважды ее изложил в своих посланиях к Василию III старец Елеазарова монастыря Филофей, который, соответственно обычному титулу византийских, императоров «святой», называет Василия III167 «освященная глава»168 и применяет к нему другие обычные титулы византийского императора: «браздодержатель святых божиих церквей», «святыя православныя христианскыя веры содержатель» и др. Видя в Василии III главу всех ромеев, Филофей пишет ему: «един ты во всей поднебесной христианом царь»;169 а в другом послании: «един [есть] православный русский царь во всей поднебесной». Еще резче идея всемирной власти великого князя московского выражена Максимом Греком. Василия III Максим Грек называет «благочестивейший царю не токмо Русии, но всея подсолнечный».170 Однако теория, предложенная Филофеем Василию III, была резко отлична от творческой политической теории, направлявшей меч великокняжеской власти. В противоположность наименованию московских великих князей «едиными государями во всей подсолнечной», официальная терминология точно и определенно называла их великими князьями (или царями) «всея Руси». «Блестящее марево всемирной власти», которое пытались открыть перед московскими государями в заманчивой дали сторонники теории «Москва — третий Рим», никогда не прельщало московское правительство, неуклонно стремившееся к единой близкой и конкретной цели воссоединения «всея Руси».171 Русские великие князья упорно настаивали на своих извечных правах на царство и не желали принимать свой царский авторитет из Византии, позорно утратившей свою независимость. Не по наследству, не по милости греков получили русские монархи царский титул. Русские князья «изначала государи на своей земле». Эти идеи проводятся во всех официальных документах XV–XVI вв. в дипломатической переписке, посланиях, завещаниях, официальных речах и соборных постановлениях. Не случайно Иван Грозный говорил Поссевину: «Мы верим не в греков, а в Христа; мы получили христианскую веру при начале христианской церкви, когда Андрей, брат апостола Петра, пришел в эти страны, чтобы пройти в Рим, таким образом мы на Москве приняли христианскую веру, в то же самое время как вы в Италии, и с тех пор доселе соблюдали ее ненарушимою».172 Официальная литература московского правительства осталась чужда теории третьего Рима, как осталась она чужда и идее византийского наследства через Софию Палеолог. Мечта о Москве — третьем Риме никогда не была движущей силой московской дипломатии. Недаром Максим Грек упрекал русских в том, что они только «своих си ищут, а не яже вышняго».173 Особенно резкие различия в воззрениях греков и русских на значение царской власти сказались в придворных обрядах, выражавших несходные представления о власти обеих стран. Русские великие князья не назывались «святыми», они не принимали участия в богослужении в качестве духовных лиц, они допускали, чтобы во время обряда венчания на царство рядом с ними сидел митрополит, а впоследствии патриарх. Между тем, в Византии императору троекратно возглашалось «свят» во время обряда венчания, он занимал определенное место в богослужении, как духовное лицо, и в качестве такового благословлял народ и кадил в церкви. Он считался выше патриарха, стоявшего при нем во время обряда венчания. В византийском обряде не было обмена речами между иерархом и монархом. Между тем, в русском обряде венчания митрополит (а впоследствии патриарх) и государь обменивались речами, содержание которых знаменательно: после возглашения клиром многолетия венчанному государю митрополит (или патриарх) поучали царя «о полезных» — об обязанностях царя к Богу, к церкви, к царской власти и по отношению к народу. >3 В течение всего XIV и XV вв. для всех русских людей прекращение татарской зависимости и крепкое противоборство татарам были заветным желанием. В договорных грамотах между собой и в княжеских завещаниях, начиная с Дмитрия Донского, постоянно читалось: «переменит бог Орду», или татар.174 Летописи свидетельствуют, что когда Иван III колебался в решимости бороться с Ахматом (1480), мать и дядя великого князя, митрополит и все бояре «молиша его великим молением, чтобы стоял крепко за православное христианство против бесерменству».175 Уничтожение Иваном III зависимости от татар было тем грандиозным и долгожданным событием, с которым связан рост политической теории Русского государства. Сознание собственного достоинства, независимости от какой-либо земной власти и равноправия всем великим державам мира глубоко проникает в дипломатическую практику и политическую теорию русской монархии. Именно после прекращения зависимости от Орды (1480), а не после брака с Софьей Палеолог, начинает Иван III употреблять титул царя в международных отношениях с Любеком, Нарвою, Ревелем и магистром Ливонии.176 Послу германского императора Николаю Поппелю, вторично явившемуся в Москву в 1489 г. с предложением королевского титула, Иван III велел ответить: «мы божиею милостью государи на своей земле изначала, от первых своих прародителей, а поставление имеем от бога, чтобы нам дал бог и нашим детям и до века в том быти, как есмя ныне государи на своей земле, а поставления, как есмя наперед сего не хотели ни от кого, так и ныне не хотим».177 Перед иностранными властителями предстал государь, полный сознанием достоинства своей страны. Именно с года прекращения татарской зависимости растет пышность церемониала московского, появляются новые придворные должности,178 новый посольский обряд. Растет и забота Ивана III о том, чтобы русские послы ни в чем не роняли достоинства Русского государства. Послы Ивана III Плещеев, Голохвостов, Кутузов держат себя при константинопольском дворе не по-азиатски, не становятся на колени перед султаном, и султан разрешает им вести себя так, в то время когда другие европейские послы вынуждены преклонять колена, подвергаются оскорблениям и побоям. Ревниво оберегая честь Русского государства, Иван III внимательно следит за полным равенством отношений с другими европейскими государствами и оказывает иноземным послам такой же прием, какой оказывался русским послам при дворах иноземных государей. Так создавался новый посольский обряд, основанный не на заимствованиях из Византии, а на дипломатической практике. Дипломатические отношения России с западно-европейскими государствами развивались в тесной связи с политической теорией Русского государства. Отсюда под влиянием живых потребностей государственного строительства создается теория исконного величия России и ее правящей династии. Московские дипломаты тонко учитывают ренессансный интерес Западной Европы к античности, сказавшийся не только в искусстве и литературе, но и в политике. Они создают теорию родства московских великих князей с императорами древнего Рима, теорию, подчеркнувшую древность и княжеского рода и управляемой им страны. Отсылая Юрия Грека послом к «цесарю», Иван III дал ему наказ, в случае, если от «цесаря» последует предложение выдать дочь Ивана III за племянника «цесаря», отвечать отказом, так как это не соответствовало достоинству московского государя: «во всех землях то ведомо, а надеемся, что и вам ведомо, что государь наш, великий государь, уроженый изначала от своих прародителей; а и наперед того от давних лет прародители его по изначальству были в приятельстве и любви с передними Римскими цари, которые Рим отдали папе, а сами царствовали в Византии».179 Историческая легитимация власти, долженствовавшая утвердить царское достоинство московских государей, была предпринята в весьма широких масштабах. При том же Иване III было предпринято и создание официальной родословной московских великих князей. Эта родословная, оформленная в «Сказание о князех Владимирских», представляет собою родословную роспись всех известных в истории царей и властодержцев. Она начинается с рассказа о разделе земли между потомками Ноя, продолжается перечнем великих властителей, центральное место в котором занимают сведения об императоре Августе, к которому в средние века и, в особенности, в начале эпохи Возрождения все европейские владетельные роды возводили свое происхождение. Чтобы высоко поднять авторитет московских великих князей, «Сказание» также говорит об их родстве императору Августу, через его брата Пруса, которого Август посадил управлять на побережье Вислы. По имени этого Пруса земля на Висле, как известно издревле населенная славянскими и литовскими племенами, стала называться «Прусская земля». Сюда к племени пруссов, по совету Гостомысла, пришли послы новгородцев искать себе князя. Здесь они нашли Рюрика «суще от рода римска цесаря Августа», положившего затем основу династии русских князей. Заканчивалось «Сказание» рассказом об отвоевании знаков царского достоинства Владимиром Всеволодовичем у Константина Мономаха. После победоносного похода Владимира Всеволодовича во Фракию, побежденный Константин Мономах прислал ему дары — крест «от самого животворящего древа, на нем же распятся владыка Христос», «венец царский», «крабицу сердоликову, из нее же Август кесар веселяшеся», ожерелье, «иже на плещу свою ношаше», и др. «И с того времени, — сообщало «Сказание», — князь великий Владимир Всеволодович наречеся Мономах, царь великие России. И оттоле и доныне тем царским венцом венчаются великие князи владимирские, егда ставятся на великое княжение российское».180 Итак, согласно «Сказанию», московские великие князья ведут свое происхождение от того же римского императора Августа, от которого вели свое происхождение и главнейшие европейские царствующие дома. Русские князья получили свое царское достоинство не по наследству из Византии после ее падения в 1453 г.: они — исконные «государи на своей земле», и их царское происхождение восходит еще ко временам античности. Царские регалии, всегда по праву принадлежавшие русским князьям, возвращены им Владимиром Мономахом силою оружия. Таким образом, эта теория всячески подчеркивала исконное, а не приносное со стороны право русских князей на царский титул, древнюсть и достоинство их рода. В отличие от теории «Москва — третий Рим», не вышедшей за пределы церковных кругов по преимуществу, фантастическая генеалогия русских князей и рассказ о происхождении царского достоинства великих князей от Владимира I и Владимира Мономаха имели широкое распространение в дипломатической практике XVI в. Успех этих идей развивается по мере того, как усложняются иностранные сношения России, по мере дипломатических встреч и посольств к иноземным государям, перед которыми московские великие князья никогда не хотели казаться худородными. Сведениями о родстве великих князей и о венчании Владимира Мономаха полны все официальные памятники XVI в.: Четьи-Минеи митрополита Макария (под 20 сентября), Степенная книга, Воскресенская летопись, Казанский летописец, Царственный летописец и т. д. Повесть о Мономаховых регалиях была вырезана на дверцах царского места в Успенском соборе (1551). Генеалогию русских князей переводят на латинский язык, явно предназначая ее для распространения заграницей. Ссылками на нее пестрят дипломатические памятники XVI в. >4 Были и особые причины, заставлявшие русское правительство с особенною настойчивостью возводить принятие царского титула ко временам Владимира I и Владимира Мономаха. Почти половина русских земель принадлежала в XVI в. Польско-Литовскому государству. Древнейшие русские города — Киев, Чернигов, Полоцк, Смоленск — находились вне русских пределов. Официальная правительственная теория Русского государства выросла в значительной мере из потребностей окончательного объединения Русского государства, присоединения к нему земель, когда-то принадлежавших «прародителям» московских государей — Владимиру I и Владимиру Мономаху. Согласно официальной правительственной теории XVI в., не признававшейся поляками, московские великие князья были наследниками киевских, а Москва выступала в ней наследницей Киева — «вторым Киевом». Под знаком этой борьбы за киевское наследство проходят все дипломатические отношения Русского государства с Польско-Литовским. Пропагандируя свои права на наследство Владимира Мономаха, московские великие князья требовали тем самым признания себя боговенчанными монархами «всея Руси», а следовательно, и тех исконно русских земель, которые находились еще под властью Польско-Литовского королевства. Этим объясняются настойчивость, с которой добивалась московская дипломатия признания русской правительственной теории, и упорство Польско-Литовского государства в отказе признать право московских великих князей на царский титул. Как видно из грамоты папы Сикста IV, написанной в 1484 г. польскому королю, в Польше серьезно опасались, чтобы папа не дал Ивану III титула императора или короля «всея России» («…Imperialem sive regalem dignitatem in, tota Ruthenica natione…»), что явилось бы санкцией на собирание московским государем русских земель.181 В грамоте 1493 г. к литовскому великому князю Александру Иван III впервые в своих сношениях с Литвою назвал себя государем «всея Русии» и велел своему послу Дмитрию Загряжскому титуловать себя так во всех речах к литовскому князю. В случае вопросов о том, почему Иван III титулует себя государем «всея Русии», когда ни он, ни кто-либо из его предков не именовали себя так в сношениях с Литвою, Загряжскому наказано было отвечать: «государь мой со мною так приказал, а кто хочет то ведати, и он поедь на Москву, там ему про то скажут».182 Во второй половине XVI в. уверенность московского правительства в праве на киевское наследство настолько возросла, что московским послам не приходилось более зазывать к себе на Москву иностранных дипломатов для объяснений. Отправляя в 1549 г. послов в Литву для присутствия при обряде крестного целования короля на перемирных грамотах, Иван Грозный наказал им передать королю: «милостию бога вседержителя и родитель наших благословением, на своем государстве царем есмя венчались прежде бывшим венчанием прародителя нашего царя и великого князя Владимера Мономаха».183 В следующем 1550 г., отправляя к королю посла Якова Остафьева, Иван IV дал ему подробный наказ. На вопрос короля о титуловании Остафьев должен был отвечать: «наш государь учинился на царстве по прежнему обычаю, как прародитель его великий князь Владимер Манамах венчан на царство Русское, коли ходил ратью на царя греческого Костянтина Манамаха, и царь Костянтин Манамах тогды прародителю государя нашего, великому князю Володимеру, добил челом и прислал к нему дары, венец царьский и диядиму, с митрополитом ефесским кир [господин] Неофитом, и иные дары многие царьские прислал, и на царство митрополит Неофит венчал, и от [того] времени царь и великий князь Владимер Манамах; и государя нашего ныне венчал на царство Русское тем же венцом отец его Макарей митрополит, занже ныне землею Русскою владеет государь наш один».184 В 1554 г. в наказе послам — боярину Василию Юрьевичу, казначею Федору Сукину и дьяку Ивану Бухарину — снова стояли требование признания царского титула и подробное обоснование этих требований в виде повести о Мономаховых регалиях. Еще раз в 1554 г., отправляя посольство к королю с извещением о завоевании Астраханского царства, Иван IV наказал напомнить королю, что мир между ними возможен только в случае признания его царского титула.185 Снова было наказано послу говорить, что предок царя, Владимир Мономах, венчался на царство, и царь венчался, следуя его примеру. Теория царского титула еще раз выступает в переговорах 1555 г.,186 затем в переговорах 1556 г.187 и т. д. Не было переговоров с Польско-Литовским государством, в которых не возник бы вопрос о царском титуловании, в которых русские не ссылались бы на родство своих государей с Августом кесарем и на царское венчание Владимира Мономаха. Споры по этому вопросу продолжались при Федоре Иоанновиче, Борисе Годунове, Василии Шуйском, Михаиле Федоровиче. В искусстве и литературе конца XV — начала XVI вв. мы найдем все те три составляющие элемента, которые определяли собою и творческую и политическую идеологию Русского государства: широкий учет западно-европейского окружения, подчинение целого в первую очередь общенациональным интересам и постепенное выявление народных начал русской культуры. >5 Идеология Русского государства, его внешняя и внутренняя политика отложились резким отпечатком на внешнем облике Москвы, отныне столичного города большого европейского государства. В своих заботах о внешнем благоустройстве Москвы, московские великие князья стремятся придать ей национальный облик, воплотить в ней национальные идеалы красоты. В отличие от первых строителей Киева, стремившихся соперничать с Константинополем, как в планировке, так и в устройстве отдельных зданий (София в Константинополе и в Киеве, Золотые ворота в Константинополе и в Киеве и др.), Москва организуется как русский город, его строительство учитывает по преимуществу русские традиции. Конец XV в. отмечен объединением соперничавших между собой русских архитектурных школ. Объединительной политике московских великих князей и объединительной политике московских летописцев, соединивших в грандиозных сводах областное русское летописание, соответствуют объединительные тенденции в области московского искусства. В грандиозней строительной деятельности Москвы приняли участие зодчие из Пскова, Новгорода, Твери, Владимиро-Суздальского княжества. Кроме зодчих русских строительных школ, Москва также приглашает зодчих наиболее передовой в архитектурном отношении страны тогдашней Европы — Италии. В Москву приезжает бостонский архитектор и военный инженер Аристотель Фиораванти, затем Антон Фрязин, два Алевиза, Марко Руффо, Пьетро Антонио, Солар, Вон Фрязин и др. В Москве сосредоточивается обширный круг архитекторов эпохи Возрождения. Все эти архитекторы работают по созданию Московского Кремля. Но планировка Кремля была основана не на итальянских, а на чисто русских архитектурных принципах. Ансамбль Кремля по-русски строился открыто во внешнее пространство на крутом берегу р. Москвы. Здания, построенные москвичами, итальянцами, псковичами, стояли рядом, играя контрастирующими формами, группируясь по живописному принципу, чуждому ренессансной ясности соотношений. Знаменательно, что и болонец Аристотель Фиораванти и миланец Алевиз Новый подпали в Москве под мощное влияние русского искусства и сохранили в своих постройках лишь немногие новые для Руси архитектурные приемы. Выстроенный Аристотелем Фиораванти в Московском Кремле Успенский собор (1475–1479) развивал формы предшествовавшей ему русской архитектуры. Прежде чем приступить к постройке Успенского собора, Аристотель совершил обширное путешествие, по русским городам; в Успенском кремлевском соборе сильно отразилось воздействие архитектуры Успенского собора во Владимире и Софии новгородской. Русские формы Успенского собора, связь их с формами владимирского Успенского собора и Софии новгородской не случайны. Иван III строил в Москве центральную святыню объединенного Русского государства. Успенский собор должен был символизировать собою русскую церковь вообще так же, как София константинопольская — греческую, как храм Воскресения: в Иерусалиме — иерусалимскую и т. д. Здесь в Успенском соборе хранилась главная святыня Русского государства — покровительница Москвы икона Владимирской Божьей Матери. Здесь в Успенском соборе происходило венчание на царство московских государей и хиротония епископов всех областей; здесь при гробе митрополита Петра произносилась епископская присяга, и т. д. Иосиф Волоцкий называет Успенский собор «земным небом, сияющим, как великое солнце посреди Русской земли».188 Митрополит Филипп говорит об Успенском соборе, что он, как солнце, сияет благочестием «в всех рускых землях».189 В таких же выражениях говорит об Успенском соборе старец Филофей в своем послании Василию III, и др. Построение нового Успенского собора было отмечено составлением в 1479 г. грандиозного летописного свода, как новая эра в русской истории. Свод этот подробно описывает в последних своих частях новгородский поход Ивана III и присоединение Новгорода; он заканчивался описанием торжественного открытия нового центра вселенского православия. Исходя из идеи Успенского собора как религиозного центра «всея Руси», создаются и все окружающие его постройки. Успенский собор обстраивается целым «кустом» церквей и зданий, в построении которых принимают участие различные архитектурные школы. На месте обветшалых укреплений Дмитрия Донского возводятся новые стены и башни Московского Кремля. Стены были построены по последнему слову фортификационного искусства, сделавшего в XV в. большой шаг вперед в связи с изобретением пороха и огнестрельного оружия. В XV — начале XVI вв. Московский Кремль был сильнейшей крепостью Европы, уступая лишь Миланскому замку, законченному в 1459 г. Своими неприступными укреплениями он как бы символизировал силу и мощь Русского государства. Пышное величие и церемониальная торжественность Московского Кремля находятся в неразрывной связи с идеями государственной власти времени Ивана III. Черты Московского Кремля отразились в стенах Нижегородского Кремля и в укреплениях Серпухова, Тулы, Зарайска в многих других русских городов. Москва, став политическим центром объединенных ею областей, распространяет свое влияние и на искусство периферии. Однако заботы об общем национальном русском облике Москвы этим не ограничились. Национальные задачи, которые стояли перед Русским государством, выставили перед архитектурой проблему переноса в каменное зодчество форм народного деревянного зодчества. Русская архитектура XVI в. идет по пути создания каменного шатрового храма. Простой образец такого храма заключался в деревянной церкви, в которой сплошь и рядом восьмигранный сруб увенчивался высокою кровлею с одной главой наверху. Этот новый тип каменного храма, заимствовавший свои формы из народного деревянного зодчества, постепенно усложняясь, достигает необыкновенной декоративности, отвечавшей народным вкусам. Первые опыты переноса форм деревянной архитектуры в каменную относятся еще к очень давнему времени. Их, повидимому, можно было указать и в домонгольской Руси. Они были и в старой Москве (церковь Ивана Лествичника с колоколами наверху, 1329), и в Новгороде (круглая, «яко столп», церковь в Хутыне, 1445), и в Александровской слободе и др. Однако только в XVI в. это проникновение в каменную архитектуру форм народного деревянного зодчества приобретает широкие размеры и идейную целеустремленность обращения к народным началам. Каменный шатровый храм Вознесения в селе Коломенском, относящийся к 1532 г., — в полной мере русская, народная во всех своих формах архитектура. Храм произвел на современников сильнейшее впечатление. Освящение его было отпраздновано Василием III необычайно торжественно. Летопись отметила его красоту и «величество»: «допрежь такой не было на Руси». Высшее достижение этого народного шатрового стиля XVI в. — собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве (1550–1560), выстроенный русскими зодчими Посником и Бармой, как памятник покорения Казани. Народные формы его архитектуры не были случайностью в строительной практике Русского государства. Иван IV строил собор, «сотворив совет благ» с инициатором ряда культурных начинаний XVI в. — митрополитом Макарием. Очевидно, авторитетное мнение последнего было решающим в принятии нового типа храма. Собор представляет собой группу из 9 «столпов», частью увенчанных шатрами, и рассчитан не столько на пластическое, сколько на чисто живописное впечатление, требовавшее от зодчих особенно тонкого художественного чутья. Храм Василия Блаженного — образец необыкновенной высоты русского строительного искусства, особенно если принять во внимание, что в эпоху его создания ни в России, ни на Западе не были еще известны основы математического расчета устойчивости архитектурных сооружений. Построению каменного собора Василия Блаженного предшествовала (за 9 месяцев) постройка деревянной церкви его на том же месте.190 На этой своеобразной «модели» практически проверялось, очевидно, общее художественное впечатление постройки, силуэт шатров и глав. Построение этой деревянной церкви, за 9 месяцев до заложения каменного храма, отчетливо доказывает гипотезу, выдвинутую еще И. Забелиным, о происхождении форм храма Василия Блаженного из народного деревянного зодчества.191 Итак, и в политике, и в литературе, и в искусстве XVI в. русские стремятся утвердить свое национальное содержание, свои национальные интересы. Россия снова вошла в среду европейских государств как равноправное государство. >VIII „ЗЕМЛЯ“-НАРОД И ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ НАЧАЛА XVII в. >Эпоха крестьянской войны и борьбы с польско-шведской интервенцией представляет собою одну из самых важных страниц русской истории по исключительной сложности и глубине влияния на всю последующую русскую жизнь. Борьба с самозванцами и польско-шведскими интервентами приняла общенародный характер и высоко подняла чувство гражданской ответственности каждого за судьбу родины. >1 Активное участие всего русского народа в обороне родины не раз спасало Русь перед лицом внешней опасности. В 1016 г. население Новгорода потребовало от Ярослава I Владимировича, продолжения борьбы с польским королем Болеславом и изменником Святополком. Новгородцы порубили ладьи, в которых Ярослав пытался бежать за море, и собрали деньги для организации нового войска. В 1068 г. отказ великого князя киевского Святослава раздать оружие населению для борьбы с половцами вызвал восстание киевлян. В 1382 г. покинутые своим князем жители Москвы сами организовали оборону своего города от войск Тохтамыша. Случаев, при которых народ активно брал в свои руки организацию обороны, — не мало, но только в период национальной борьбы начала XVII в. было осознано первостепенное значение народа. Значение народа и, в частности, крестьянства в общей жизни страны получило уже отчетливое отражение в публицистических сочинениях XVI в., поразительных своим широким и свободным обсуждением самых основ государственного устройства. Забота об облегчении тягот крестьянства видна в сочинениях монахов-«нестяжателей», в произведениях Максима Грека, в известной «Беседе Сергия и Германа Валаамских чудотворцев» и, в особенности, в исключительном по оригинальности взглядов сочинении середины XVI в. — «Благохотящим царем Правительница». Здесь с редкой последовательностью проводилась мысль о том, что земледельцы — основа государства, что жизнь страны, ее экономическое и военное могущество целиком зиждутся на труде мирных пахарей. Труд ратаев дает хлеб, который приносится жертвой Богу в таинстве Евхаристии и питает всех от царя и до простых людей. Автор «Правительницы» всячески подчеркивал, что именно земледелие и крестьянство являются в России основой государственного благосостояния. Поэтому следует облегчить крестьянский труд и сообразовать с интересами земледельцев государственное управление. Знаменательно, что многочисленные произведения конца XV–XVI вв. открыто высказываются против рабства, принижающего гражданские и воинские добродетели населения (Иван Пересветов), противоречащего основам христианского человеколюбия. Нередко в публицистических сочинениях XVI в. проводится мысль о естественном равенстве всех перед Богом. Широко задуманные и далеко идущие публицистические сочинения XVI в., ясно сознающие необходимость для государства свободного и граждански сознательного населения, во многих отношениях были общи западно-европейской политической философии XVI в. >2 Идеи публицистических сочинений XVI в. не были пустыми размышлениями досужих книжников: они отражали реальную силу демократических слоев народа, его возросшую гражданскую сознательность и политическую активность. Освободительная борьба начала XVII в. ясно обнаружила глубокое развитие во всех слоях населения чувства гражданского долга, сознание личной ответственности каждого за судьбу всей Русской земли в целом. Жители городов и сельское население — нижегородцы, смольняне, ярославцы, владимирцы, москвичи и т. д. — с готовностью соглашались на всякие личные жертвы ради спасения родины. В своем знаменитом приговоре нижегородцы писали: «Стоять за истину всем безызменно, к начальникам быть во всем послушными и покорливыми и не противиться им ни в чем, на жалованье ратным людям деньги давать, а денег не достанет — отбирать не только имущество, а и дворы и жен и детей закладывать, продавать, а ратным людям давать, чтобы ратным людям скудости не было». На этом нижегородцы дали Богу души свои. Поднятое в Нижнем национальное движение сплотило русских людей. В национальной борьбе начала XVII в. оформилась идея суверенных прав народа в организации своей государственности, всей политической жизни страны и в выборе монарха. В тревожных обстоятельствах борьбы с самозванщиной и польско-шведскими интервентами для врагов и своих становилось ясным, что только тот возьмет верх, кто будет иметь на своей стороне сочувствие большинства русского народа. Отсюда стремление интервентов во что бы то ни стало склонить народ на свою сторону, обмануть его ложными договорами, громкими обещаниями или самозванцами. Отсюда же исключительное значение идеологической борьбы с самозванщиной и интервенцией. Бесчисленные грамоты, послания, обращения, исторические сочинения, политические памфлеты, сказания разъясняют смысл происходящего. Речами поднимает Авраамий Палицын казаков на помощь ополчению. Речами поднимает Минин и протопоп Савва нижегородцев на общенародное дело борьбы с интервенцией. Города сносятся грамотами, призывают друг друга «стояти заодно», «ожить и умереть вместе». С призывом к восстанию обращаются к москвичам жители осажденного польскими интервентами Смоленска. Смольняне просили москвичей переписать их грамоту и послать ее в Новгород, в Вологду, в Нижний. Москвичи и сами писали всем русским городам, призывая итти на выручку столицы. Жители Устюга писали в Пермь, в Новгород, в Холмогоры, на Вычегду, в Сольвычегодск. Нижегородцы писали вологжанам, ярославцам и т. д. Грамоты патриарха Гермогена и троице-сергиевских старцев читались в церквах. Вся страна была охвачена единым патриотическим порывом. Народ ясно осознал себя главной силой в определении исторических судеб родины. В исторических произведениях первых годов XVII в., в бесчисленных грамотах, посланиях и приговорах, всё более и более утверждается мысль о том, что «хранитель» целости и независимости «Московского государства» — сам народ, а не бояре и цари. Мысль эта, встречаемая еще в летописи, только в исторических произведениях о событиях «всеконечного разорения» — «Смуты» первых лет XVII в. — получает законченное выражение. Понятие «земли» как верховной власти ясно выступает уже в «приговоре» 30 июня 1611 г., низводившем «правительство» (Трубецкого, Ляпунова и Заруцкого) в положение подчиненной исполнительной власти, ограниченной в своих действиях ратным советом «всей земли». «Правительство» получало за свой труд жалование и в его руководство были даны точные указания. Реальные разногласия и антагонизм классов, выяснившиеся в земском приговоре 30 июня и в последующих земских соборах начала XVII в., не умаляют значения самой проявившейся в них идеи «всей земли». Народ — разумная среда, через которую проявляется воля божья. «Земля» имеет право избрать не только временное управление, но и «помазанника божья» — царя. Мысль эта была решительною новостью в политической жизни Руси, где в бесчисленных династических спорах XI–XVI кв. прочно утвердилось представление о наследственной княжеской и царской власти. Всего несколько десятков лет назад Грозный жестоко издевался в своих грамотах над Стефаном Баторием, избранным на польский престол «по многомятежному человеческому хотению». В новых обстоятельствах начала XVII в. мысль об избрании царя «всею землею» уже не вызывала возражений во всех слоях общества. Значение воли народа как верховной силы в жизни «земли» ясно подчеркнуто даже в титулах новых деятелей. Пожарский носил титул «по избранию всех людей» или «по избранию всее земли Московского государства всяких чинов людей». Козьма Минин именовался «выборный человек всею землею». Вместо старой приказной власти, явилось выборное начало, явился выборный человек, действовавший от лица «всей земли». Насколько необходимым казалось одобрение «земли», показывает хотя бы то, что нижегородское ополчение еще на походе собирало выборных по городам, заботилось о соблюдении гласности и добивалось единодушия всей земли в своих общерусских начинаниях. Апрельская грамота Пожарского, отправленная по городам, приглашала поскорее прислать в Ярославль «изо всяких чинов людей человека по два». >3 Идея «всей земли» и сознание значения народа, демократических слоев населения в жизни государства резко отразились в общих концепциях московской историографии. Сознание исторической активности народа перерабатывало средневековые представления о силах, движущих историю. В исторические произведения начала XVII в. постепенно входит представление, что историческими судьбами Русской земли руководит не божественное предопределение, а сам народ. Это было огромным шагом вперед в исторических воззрениях начала XVII в. По обычным представлениям средневековья, скорая небесная кара постигала всякий грех. Исторические сочинения XI–XVI в. и русская летопись твердо держались той мысли, что всякое народное несчастье — нашествие врагов, голод, моровое поветрие и т. д. — было божественным наказанием за грехи людей, за их отступление от заветов религии. «Всеконечное разорение» первых лет XVII в. также рассматривалось авторами исторических сочинений о «Смуте», как казнь за грехи. Однако в определении этих грехов авторы начала XVII в. резко расходились со своими предшественниками, выражали новую точку зрения на исторический процесс. «Грехи» русских людей, вызвавшие самозванщину и интервенцию, с точки зрения авторов исторических работ начала XVII в., не были личными грехами отдельных людей, обычными нарушениями христианской нравственности. Внимание авторов привлекают грехи общественные, недостатки гражданственности и общественного самосознания. Благодаря этому, понятие «греха» как основной причины исторических несчастий переносилось из сферы идеальной в сферу реальную. «Грехи» становились реальными причинами общественных бедствий, и в этом авторы сочинений о «Смуте» приближались к новому историческому восприятию причинно-следственной связи событий. Большинство авторов, писавших о «Смуте», подробно останавливалось на тех общественных «грехах» русского общества, которые привели в начале XVII в. к установлению самозванщины и вторжению иноземцев, В описаниях этих «црехов» сказались те новые и повышенные требования, которые предъявило новое народное самосознание к гражданским добродетелям населения. В летописях XI–XVI вв. неоднократно выражались требования соблюдения национальных интересов. Но требования эти обычно были обращены к князьям, к духовенству, к боярам, к дружине. «Смута» впервые предъявила суровые требования к каждому члену общества без исключения. Сами по себе эти требования говорят о новом общественном идеале, воспитанном в годы жесточайшей национальной борьбы. Изобличая общественные пороки, приведшие к «всеконечному разорению», первые писатели о «Смуте» имели в виду повысить чувство гражданской ответственности населения. Дьяк Иван Тимофеев, составивший свой «Временник» около 1619 г., видит начало всех зол в нарушении коренных начал русской жизни и в усилившемся влиянии иноземцев. Правители преклоняли уши свои к «ложным шепотам», придавали значение доносам, вследствие чего люди были «страховиты», «изменчивы», «нестоятельны», «словопревратны», «по всему вертяхуся, яко коло [колесо]». Враги Руси воспользовались этой «превратностью» русских, чтобы наслать к ним «лжецарей». Один из главных общественных грехов русских заключался в том, что в наиболее важные исторические моменты они были безгласны, как рыбы. При всеобщем молчании и попустительстве Борис Годунов преступлением добился престола: «онемеша бо языки их и уста затвориша ото мзды; вся же чувства каша паче страхом ослабеша». Тимофеев особенно выделяет именно этот недостаток «мужественные крепости» — пассивное и раболепное «бессловесное молчание» перед сильными мира сего.192 Еще резче об этом недостатке гражданской смелости говорил в своем «Сказании» Авраамий Палицын. Он называет его — «всего мира безумным молчанием» и в этом «безумном молчании» видит основной общественный порок, повлекший за собой ослабление государства.193 Авторы единодушно говорят о недостатке согласия у русских. Из-за своего «несогласия» и гражданского «немужества», — пишет Тимофеев, — русские не только допустили убийство царевича Дмитрия, но затем «бессловесно» сносили мерзости и тгечестие ииославных. «Разность» эта придала крепость врагам Руси. Враги разорили ее и надругались над ее святынями.194 «Не чуждии земли нашей разорители, но мы сами ее потребители».195 В руках народа — его судьба. Как причину «Смуты», авторы выдвигают и социальную несправедливость, разорение бедных богатыми, взяточничество и неправосудие. Неправедно собранными богатствами не искупить греха: излишни заботы богатых о красоте церквей, если она создалась из граблений и посулов. Бог не принял этой жертвы, и неправедная церковная красота подверглась разграблению иноверных. Настоящий храм божий — сам народ: «Писано бо есть, яко „вы есте храм бога жива“… храм — не стены камяны и древяны, но народ верных…»,196 — говорит Авраамий Палщын, выражая характерную для своего времени мысль о единственной и абсолютной ценности народа. В самом народе — источник его бедствий и его освобождения от иноземного ига. В этом осознании значения народа в исторической жизни страны — пафос эпохи. Авраамий Палицын приводит многочисленные случаи мужественной борьбы русских с иноземными захватчиками. Живо и талантливо рассказывает он об освобождении Москвы и о героической защите Троице-Сергиевой лавры, давая в своем изложении многочисленные примеры народного героизма. Так, например, Авраамий Палицын рассказывает о том, как возмущенный изменой брата простой воин Даниил Селев заменил его собой в рядах бойцов и пал в бою. Таким образом, писатели первой четверти XVII в., изобличая общественные пороки, а с другой стороны, показывая героизм простых и малозаметных людей, создавали новые идеалы гражданского служения родине. Итак, эпоха национальной борьбы с самозванщиной и интервенцией отчетливо выдвинула значение народа («земли») в исторической жизни страны. Это значение народа сказалось непосредственно в ходе событий и было осознано исторически. >4 Насколько глубоко проникли в народ новые исторические представления, показывает «Новая повесть о преславном Российском государстве», написание которой отноштся либо к концу 1610 г., либо к самому началу 1611 г. Она сохранилась в единственном списке; ее автор — какой-то приказный — безвестен; название ее — позднейшее, приписанное чужою рукою сверху. Это прокламация, «подметное письмо», брошенное на улицах Москвы с призывом восстать и изгнать из Москвы гарнизон польских интервентов. «А сему бы есте письму верили без всякого су мнения», — обращается автор к москвичам. Он просит не «таить» его письмо, а распространять среди верных людей: «И кто сие письмо возмет и прочтет, и он бы его не таил, давал бы рассмотряючи и ведаючи своей братии православным христианом прочитати вкратце, который за православную веру умрети хотят, чтобы было ведомо, а не тайно». Изменникам, которые «со враги соединилися», — тем бы «есте отнюдь не сказывали и не давали прочитати».197 Письмо написано со страстной убежденностью, ясным, простым и народным языком, частью прозой, частью стихами.198 «Приидите, приидите православни. Сами видите, — обращается автор письма к москвичам, — какое гонение и утеснение воздвигалось на русских: «Всегда многим смертное посечение, Описав злодеяния польских интервентов, автор восклицает: «То ли вам не весть, Автор не жалеет слов для изобличения бояр-изменников и среди них боярина Салтыкова и думного дьяка Андронова. Но письмо — не простой призыв к восстанию. Оно подробно и разумно освещает создавшуюся в стране обстановку. Автор ставит в пример москвичам граждан осажденного Смоленска, мужеством своим прославивших себя не только в России, но и в Литве, и в Польше, и до самого Рима. «И хотят славне умрети, нежели бесчестне и горько жити».206 На краю государства смольняне храбро отбиваются от врагов, которые под Смоленском, как и здесь в Москве, «на сердцах наших стоят». Если бы не Смоленск, войско Сигизмунда давно было бы в Москве. Русские в Смоленске держат короля не за голову, не за руку, не за ногу, а за самое сердце его злонравное и жестокое. Как русские в Смоленске, так в Москве один против всех отбивается патриарх Гермоген. Как эпический герой, патриарх, «исполин безоружный», поражает врагов словом своим и движет народом, сам оставаясь непоколебимым и неодолимым препятствием для врагов. Если он умрет и народ сам не встанет на свою защиту, то погибнут государство и православие. Автор «письма» приводит своеобразную политическую философию. Восстание на врагов — это «подвиг» и «радение». Только вооруженное восстание может искупить грехи русских людей, за которые Вог покарал русских испытанием иноземного ига. Эта точка зрения исключительна по религиозной смелости. Автор говорит о том, что польские интервенты боятся восстания русских. Они действуют осторожно, стремясь прельстить русских ложным уважением к их святыням. Они стоят с мечом над головою русских людей, постепенно стягивая подкрепления; закрыли кремлевские ворота, оставив для русских только узкие двери, в которых стоит шум и визг, как будто бы давят мышей. Польские интервенты хотят властвовать в Москве, но не имеют достаточных сил. Между тем народ могуществен и велик, как море. В этом «великом и недержанном мори» боятся потонуть интервенты. Поэтому хитростью и лестью они сдерживают его возмущение: «Видя зде в мире колебание «Новая повесть о преславном Российском государстве» — одно из первых в русской литературе выступлений средних классов населения. Ее содержание знаменательно. Ни одно из литературных произведений, вышедших из посадской и приказной среды во второй половине XVII в., не заявляет с такой определенностью о силе и могуществе народного «моря». «Смута» произвела глубокие изменения в политических представлениях русского общества. В момент наибольшей опасности для Руси, когда, казалось, иноземцы прочно укрепились в Москве, когда от Русского государства сохранились лишь кое-какие «останки», когда, наконец, русские сознавали, что не было еще в мировой истории «таково наказания ни на едину монаршию, ниже на царства и княжения, еже случися над превысочайшею Россиею», — в этот момент «последние люди» поднялись на защиту родины. В политических потрясениях «великой разрухи» родилась твердая уверенность в силе народа, родились мысли о «земском деле», о «всей земле»; сознание верховного значения народа и его интересов в государственной жизни страны. Это новое политическое сознание, выросшее в ужасах «последнего разорения», когда низшие и средние классы сделали отчаянное усилие для спасения Руси, — явилось предвестием нового времени. >Комментарии id="c_1">1 Доклад на Съезде советских писателей 17 августа 1934 г. id="c_2">2 Изд. 3, Л., 1939, стр. 5. id="c_3">3 А. А. Шахматов. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908, стр. 226 и др. id="c_4">4 См. об этом: Д. И. Прозоровский. Новые разыскания о новгородских посадниках. СПб., 1892, стр. 3. id="c_5">5 Лаврентьевская летопись под 985 г. id="c_6">6 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 377. id="c_7">7 Там же, стр. 378. id="c_8">8 Всев. Миллер. Очерки русской народной словесности, т. II. 1910, стр. 1–31. id="c_9">9 Марков. Беломорские былины. М., 1901, №№ 50 и 80. id="c_10">10 Астахова. Былины Севера, т. I. М.-Л., 1938, № 15. id="c_11">11 А. В. Марков. Из истории русского былевого эпоса, вып. 1. 1905, стр. 30–66. id="c_12">12 Повесть временных лет под 1061 г. Мотив загадывания загадки с последующим убийством неудачного отгадчика и др. id="c_13">13 Здесь и далее, слова в цитатах, взятые в прямых скобках, принадлежат автору настоящей работы Д. С. Лихачеву. id="c_14">14 Провар — то количество меда, которое можно сварить за один раз, — очевидно несколько ведер. id="c_15">15 Ипатьевская летопись под 964 г. id="c_16">16 Шелковые ткани. id="c_17">17 Ипатьевская летопись под 970 г. id="c_18">18 Там же под 971 г. id="c_19">19 Там же под 1201 г. id="c_20">20 Лаврентьевская летопись под 945 г. id="c_21">21 Там же. id="c_22">22 См. его Historia V, 7. Migne SGr. 133 col., 569–581. id="c_23">23 Пл. Соколов. Русский архиерей из Византии. Киев, 1913, стр. 12–13. id="c_24">24 В. Г. Васильевский, Труды, т. I, стр. 304. id="c_25">25 Аналогично смотрел на болгар Василий Болгаробойца, отказавшийся видеть в них воюющую сторону и тысячами ослеплявший пленных болгар, как бунтовщиков. id="c_26">26 Мы не останавливаемся на спорной проблеме Охридского архиепископата, в данном случае для нас несущественной. См. об этом: М. Д. Приселков. Очерки по церковно-долитической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 1913, стр. 33 и сл. id="c_27">25 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 539 и сл. Мы пользуемся гипотетическим восстановлением свода у Шахматова. Однако к какому времени ни относить составление свода Ярослава и в каком объеме его ни восстанавливать, — общий характер свода от этого не меняется. id="c_28">28 М. Д. Приселков. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 1913, стр. 82. id="c_29">29 Там же, стр. 84. id="c_30">30 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940. стр. 26. id="c_31">31 М. Д. Приселков. Очерки…, стр. 82. id="c_32">32 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 553. id="c_33">33 Там же, стр. 556–557. id="c_34">34 Там же, стр. 562. id="c_35">35 Там же, стр. 577. id="c_36">36 Там же, стр. 546–547. id="c_37">37 Там же, стр. 578. id="c_38">38 Там же, стр. 542. id="c_39">39 Там же, стр. 550. id="c_40">40 Там же, стр. 547. id="c_41">41 Там же, стр. 563. id="c_42">42 Там же, стр. 564. id="c_43">43 Там же, стр. 583–584. id="c_44">44 Там же, стр. 583. id="c_45">45 Акад. Б. Д. Греков. Развитие исторических наук в СССР за 25 лет. Под знаменем марксизма, 1942, № 11–12. id="c_46">46 Памятники древне-русской церковно-учительной литературы, под ред. А. И. Пономарева, вып. I. СПб., 1894, стр. 59. id="c_47">47 Там же, стр. 59. id="c_48">48 С. П. Шевырев. История русской словесности, ч. 2. Изд. 2, М., 1860, стр. 26. id="c_49">49 Памятники…, стр. 63. id="c_50">50 Там же, стр. 62. id="c_51">51 И. Н. Жданов, Соч., т. I, стр. 80. id="c_52">52 Памятники. стр. 66. id="c_53">53 Общее оптимистическое жизнерадостное содержание «Слова», настроение торжества, повидимому, свидетельствуют о том, что «Слово» возникло до похода Владимира Ярославича 1043 г. id="c_54">54 М. Д. Приселков. Очерки…, стр. 66 и сл. id="c_55">55 А. А. Шахматов. Сборник статей в честь В. И. Ламанского, Ч. II. СПб., 1906, и рец. Шестакова, Журнал Мин. нар. просв., нов. серия, ч. XIII, 1908, январь. id="c_56">56 И. Н. Жданов, Соч., т. I, стр. 19. id="c_57">57 Памятники…, стр. 67. id="c_58">58 Там же. id="c_59">59 Там же, стр. 68 (исправляю в тексте опечатки издания. — Д. Л.). id="c_60">60 Там же, стр. 69. id="c_61">61 Там же, стр. 69. id="c_62">62 Там же, стр. 69–70. id="c_63">63 Там же, стр. 70. id="c_64">64 Там же. id="c_65">65 Там же, стр. 70. id="c_66">66 Там же. id="c_67">67 Там же, стр. 70. id="c_68">68 Там же. id="c_69">69 Там же, стр. 72. id="c_70">70 Там же, стр. 73. id="c_71">71 Там же, стр. 75. id="c_72">72 Там же, стр. 78. id="c_73">73 Первоначально считали, что «Слово» было направлено против иудейского учения. Мнение это опроверг акад. И. Н. Жданов (Соч., т. I, 1872; стр. 1–80). id="c_74">74 В. М. Истрин. Очерк истории древнерусской литературы; т. II. 1922, стр. 131. id="c_75">75 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 398 и сл. id="c_76">76 М. Д. Приселков. Очерки…, стр. 98. id="c_77">77 Памятники…, стр. 74. id="c_78">78 Там же. id="c_79">79 Д. В. Айналов и Е. Редин. Древние памятники искусства Киева, т. X. 1899, стр. 5. id="c_80">80 Памятники…, стр. 60. id="c_81">81 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 583. id="c_82">82 Памятники…, стр. 74. id="c_83">83 Д. В. Айналов и Е. Редин. Древние памятники…, т. X. 1899, стр. 39–40. id="c_84">84 Памятники…, стр. 65. id="c_85">85 Там же…, стр. 75. id="c_86">86 Памятники древней письменности, т. 81, стр. 25. См. об этом: Пл. Соколов. Русский архиерей из Византии. Киев, 1913, стр. 51. id="c_87">87 Акты и стар., I, № 78, стр. 128. id="c_88">88 См. выше в послании митрополита Феодосия 1464 г. id="c_89">89 Прибавления к творениям св. отец, т. II, стр. 255. id="c_90">90 Разыскания…, стр. 582. id="c_91">91 Акад. Н. К. Никольский. О древнерусском христианстве. Русская мысль, 1913, кн. 6, стр. 12. id="c_92">92 М. Д. Приселков. Борьба двух мировоззрений. Сб. «Россия и Запад», под ред. А. И. Заозерского. II, 1923. id="c_93">93 М. П. Петровский. Иларион, митрополит Киевский, и Доментиан, иеромонах хнландарский. Известия ОРЯС, 1908, кн. 4. id="c_94">94 История русской литературы, т. I. Изд. Инст. литер. Акад. Наук СССР, М.—Л., 1940, стр. 271 (гипотеза покойного В. Л. Комаровича). id="c_95">95 Лаврентьевская летопись под 1054 г. id="c_96">96 Ср. в «Слове о полку Игореве» — «земля незнаема» — половецкая степь. id="c_97">97 Лаврентьевская летопись под 1093 г. id="c_98">98 Там же, введение. id="c_99">99 Т. е. наваром из кислой травы, которым мылись в бане. id="c_100">100 Лаврентьевская летопись, введение. id="c_101">101 Там же под 992 г. id="c_102">102 Там же под 1097 г. id="c_103">103 Там же. id="c_104">104 Там же. id="c_105">105 Ипатьевская летопись под 1097 г. id="c_106">106 Лаврентьевекая летопись под 1097 г id="c_107">107 Там же. id="c_108">108 Там же. id="c_109">109 Там же под 1096 г. id="c_110">110 Там же под 1095 г. id="c_111">111 Акад. Б. Д. Греков. Киевская Русь. Изд. 3, M.-Л., 1939, стр. 277. id="c_112">112 Н. И. Брунов. К вопросу о самостоятельных чертах русской архитектуры X — ХII вв. Сб. «Русская архитектура», 1940. id="c_113">113 История русской литературы, т. I. Изд. Инст. литер. Акад. Наук СССР, М. — Л., 1941, стр. 212 и сл. id="c_114">114 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 44. id="c_115">115 Новгородская летопись по Синод. сп., изд. 1888 г., стр. 145. id="c_116">116 Там же, стр. 160. id="c_117">117 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 40. id="c_118">118 А. Е. Пресняков. Лекции по русской истории, т. I. 1938, стр. 239. id="c_119">119 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 64. id="c_120">120 А. А. Шахматов. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв., Л., 1938, стр. 131. id="c_121">121 Предлагаемая ниже характеристика черниговского летописца несколько расходится с построением истории русского летописания XII в. в работах А. А. Шахматова и М. Д. Приселкова. id="c_122">122 Ипатьевская летопись под 1185 г. id="c_123">123 Акад. А. С. Орлов. Слово о полку Игореве. Л., 1938, стр. 48. id="c_124">124 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXII, М.—Л., 1931, стр. 48. id="c_125">125 «Кощей» (от тюркского «кошчи») — конюх, обозный, раб, пленник. «Чага» (от арабского asaha) — невольница. «Ногата» и «резань» — древнерусские единицы. id="c_126">126 А. Рублев умер в 1427 или 1430 г., в возрасте около 60–70 лет. Следовательно, надо считать, что он родился в 60-х — 70-х годах XIV в. id="c_127">127 Н. Каринский. Русская надпись в люблинском тюремном костеле. Известия Археологической комиссии, вып. 55, Пгр., 1914; акад. А. Соболевский. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. Спб., 1910; он же. Русские фрески в старой Польше. М., 1916; F. Kopera. O malarstwie bizantyskiem w Polsce. Polski Muzeum, Z. VIII, Krakow. id="c_128">128 К. Иречек. История болгар. Одесса, 1878, стр. 984–986. id="c_129">129 И. Ягич. Исследования но русскому языку, т. I, стр. 396 и др. id="c_130">130 А. А. Шахматов. Общерусские летописные своды XIV и XV веков. Журнал Мин. нар. просв., 1900, т. IX, стр. 91. id="c_131">131 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 113 и сл. id="c_132">132 Датировка М. Д. Приселкова (там же, стр. 128 и сл.). id="c_133">133 См. об этом подробно: А. А. Шахматов. Общерусские летописные своды XIV и XV веков. Журнал Мин. нар. проев., 1901, т. XI, стр. 73–77. id="c_134">134 Характер этой перемены вскрыт В. Л. Комаровичем в главе «Московские летописи» II тома академической «Истории русской литературы». М.—Л., 1945. id="c_135">135 См.: Летописец Рогожский. Полное Собрание русских летописей [ПСРЛ], т. XV, изд. 2, вып. 1, 1922, стр. 144 и сл.; Симеоновская летопись. ПСРЛ, т. XVIII, 1913, стр. 131 и сл. id="c_136">136 Симеоновская летопись. ПСРЛ, т. XVIII, СПб., 1913, стр. 156. id="c_137">137 Там же, стр. 157. id="c_138">138 Там же, стр. 158. id="c_139">139 Там же, стр. 159. id="c_140">140 Проф. Н. Н. Воронин. Владимиро-суздальское наследие в русском зодчестве. Архитектура СССР, 1940, № 2; И. Грабарь. Андрей Рублев. Вопросы реставрации, вып. 1, стр. 65 и сл.; 0 росписях Успенского собора во Владимире, там же, стр. 22–33. id="c_141">141 Ср., например, в Симеоновской летописи, где татары названы половцами под 1378 г., а татарская степь — половецкой под 1380 г. и т. д. Ср. также Летописец Переяславля Суздальского, где печенеги и половцы неоднократно называются татарами. Очевидно, «Повесть временных лет» воспринималась современниками Донской битвы в сопоставлении с событиями этой современности. История Руси представлялась историей непрекращающихся войн со степными народами, войн за независимость. id="c_142">142 Ф. Буслаев. Рецензия на работу О. Миллера «Илья Муромец и богатырство Киевское». Журнал Мин. нар. просв., 1871, 4, стр. 217. id="c_143">143 А. Н. Веселовский. Из введения в историческую поэтику. Собр. соч., т. I, стр. 36–37. id="c_144">144 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 443. id="c_145">145 Ю. Н. Дмитриев. К истории новгородской архитектуры. Новгородский исторический сборник, вып. 2, Л., 1937. id="c_146">146 Новгородская IV летопись. ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, Л., 1925, стр. 444. id="c_147">147 Новгородская III летопись. Новгородские летописи, СПб., 1879, стр. 271. id="c_148">148 В. Яблонский. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб.1908, стр. 100. id="c_149">149 Памятники старинной русской литературы, издававшиеся Кушелевым-Безбородко, вып. 4, 1862, стр. 30. id="c_150">150 ПСРЛ, Т. IV, Ч. 1, вып. 2, Л., 1925 стр. 448. id="c_151">151 Там же, стр. 446. id="c_152">152 Там же, стр. 447. id="c_153">153 Там же, стр. 498. id="c_154">154 Там же, стр. 504. id="c_155">155 Там же, стр. 513. id="c_156">156 Софийская II летопись под 1471 г. id="c_157">157 См. подробнее: А. А. Шахматов. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв. Л., 1938, стр. 371 и др. id="c_158">158 Софийская II летопись под 1475 г. id="c_159">159 Проф. Успенский. Брак царя Ивана III. Исторический Вестник, 1887, № 12, стр. 689. Ср. также: О. Пирлинг. Россия и Восток, стр. 103, 166. id="c_160">160 Сборник импер. Русского исторического общества, т. 53, стр. 85 и сл. id="c_161">161 Там же, стр. 91. id="c_162">162 Там же, стр. 92. id="c_163">163 Там же, стр. 86. id="c_164">164 Софийская II летопись под 1481 г. id="c_165">165 Сочинения Максима Грека, 1889, «Слово» VII. id="c_166">166 Н. П. Лихачев. Инока Фомы слово похвальное о князе Борисе Александровиче! СПб., 1906. id="c_167">167 По мнению некоторых исследователей — Ивана IV. id="c_168">168 В. Малинин. Старец Елеазарова монастыря Филофей… Киев, 1901» стр. 547. id="c_169">169 Малинин, там же, Приложение, стр. 50. id="c_170">170 Православный собеседник, 1861, ч. II, стр. 297. id="c_171">171 Отличие теории Филофея от официальной идеологии московского правительства отмечает и В. Малинин. Он пишет о Филофее: «у него с большею полнотою и определенностью выступает теория мирового призвания России, как царства не только единственно православного, но и последнего, призванного существовать до конца вселенной. Отсюда в несколько ином обосновании выступает у него и теория царской власти» (Старец Елеазарова монастыря Филофей… 1901, стр. 616). id="c_172">172 Suppl. ad Historica Russiae Monumenta, p. 102. Цитирует Е. Голубинский. История русской церкви, т. I, ч. 1, стр. 8. Предание о посещении апостола Андрея попадает в XVI в. в Степенную книгу (I, 95–97) и другие. id="c_173">173 Сочинения Максима Грека, 1889, «Слово» VII. id="c_174">174 Собрание государственных грамот и договоров (СГГиД), т. I, стр. 71, 73, 78, 81, 84, 87, 89, 92, 98, 101, 103, 108, 111, 114, 117, 120, 122, 125,128, 131, 348, 158, 161, 164, 167, 180, 184, 197, 201, 205, 229. id="c_175">175 ПСРЛ, т. VI, стр. 20 и 224; т. VIII, стр. 206; Никоновская, т. VI, стр. 112. id="c_176">176 Памятники дипломатических сношений древней Руси с державами иностранными, т. I, стр. 46, 47, 59–61, 87, 96–93, 114. id="c_177">177 Там же, стр. 12. id="c_178">178 В 1495 г. при дворе Ивана III появились новые чины: казначея, постельничьего, ясельничего, и с 1496 г. — конюшего (М. П. Шереметьев. Список старинных бояр, дворецких, окольничьих и некоторых других придворных чинов. Др. Российская Вивлиофика, т. XX, изд. 2, стр. 8). id="c_179">179 Памятники дипломатических сношений…, т. I, стр. 17. id="c_180">180 И. Н. Жданов. Русский былевой эпос. Исследования и материалы, т. I–V, СПб., 1895. id="c_181">181 Theiner. Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, т. II, № 257. Romae, an. 1861. Цитирует: В. Савва. Московские цари и византийские-василевсы, 1901, стр. 274. id="c_182">182 Сборник импер. Русского исторического общества, т. 35, стр. 80–82 и др. id="c_183">183 Там же, т. 59, стр. 309 и сл. id="c_184">184 Там же, стр. 345. id="c_185">185 Там же, стр. 451. id="c_186">186 Там же, стр. 474 и сл. id="c_187">187 Там же, стр. 504 и сл.; стр. 519 и сл. id="c_188">188 Иосиф Волоцкий. Просветитель. Печати, изд. Казанск. духовн. акад.,л. 57. id="c_189">189 Русская историческая библиотека, т. VI, столб. 723. id="c_190">190 См. «Летописец Русский», изданный А. Н. Лебедевым (Чтения в Обществе истории и древностей российских, 1895, вып. 3), — известие о построении храма Покрова в октябре 7063 г. (1553) (стр. 31) и затем под июнем 7063 г. (1554): «Того же месяца благоверный и христолюбивый царь и великий государь велел заложит церковь камену Покров Пречистыя Богородицы о девяти верхах, которой был преже древян о Казанском взятии у Фроловских ворот» (стр. 36). id="c_191">191 И. Забелин. Черты самобытности в древнерусском зодчестве. id="c_192">192 Русская историческая библиотека, т. XIII, СПб., 1892, стр. 463 и сл. id="c_193">193 Там же, стр. 479. id="c_194">194 Там же, стр. 463 и сл. id="c_195">195 Там же, стр. 465. id="c_196">196 Там же, стр. 516–517. id="c_197">197 Там же, стр. 218. id="c_198">198 Стихотворная форма «Новой повести» до сих пор не была отмечена. id="c_199">199 Русская историческая библиотека, т. ХIII, стр. 200. id="c_200">200 Там же, стр. 210. id="c_201">201 Траве. id="c_202">202 Русская историческая библиотека, т. XIII, стр. 210. id="c_203">203 Слова, заключенные в скобки, очевидно, позднейшая разъясняющая вставка. id="c_204">204 Русская историческая библиотека, т. XIII, стр. 212. id="c_205">205 Там же, стр. 213. id="c_206">206 Там же, стр. 189. id="c_207">207 Там же, стр. 202. V ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ И ПОБЕДА НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ >Образованию Русского национального государства при Иване III предшествовала широчайшая идеологическая подготовка, своеобразное культурное возрождение русского народа; оно началось еще с 80-х годов XIV в., вслед за Куликовской битвой. Именно вслед за победой на Куликовом поле, явившейся перовым этапом свержения татаро-монгольского ига, возник тот подъем народного самосознания, который еще в конце XIV в., а особенно резко в первой половине XV в. привел к серьезному подъему творческих сил русского народа. >1 Ко второй половине XIV в. относится расцвет новгородской фресковой живописи. Наблюдение природы, которое внесли в свое искусство мозаичисты и — фрескисты Византии, а вслед за ними Чимабуэ, Джотто и Дуччио в Италии, естественный ландшафт, натуральные человеческие фигуры в сильном движении, элементы перспективы и светотени, появление сложных повествовательных сюжетов и попытки изобразить человеческие переживания— все это характерно для новгородских фресок второй половины XIV в. — для фресок церкви Спаса Преображения, Федора Стратилата, Болотова, Рождества на Кладбище, Михайло-Сковородского монастыря, Ковалева, То немногое, что мы знаем об искусстве Москвы второй половины XIV в., позволяет говорить об аналогичном подъеме в живописи и в этом городе. В Москве по-настоящему созрела национальная школа живописи, высшим представителем которой на рубеже XIV–XV вв. выступает гениальный русский художник Андрей Рублев. В 1405 г. А. Рублев известен уже как вполне зрелый сорокалетний мастер, расписывающий вместе со знаменитым Феофаном Греком и старцем Прохором из Городца кремлевский Благовещенский собор.126 Работы Рублева не стояли одиноко на рубеже XIV и XV вв. Многочисленные реставрации икон той поры, произведенные после Великой Октябрьской социалистической революции, и многочисленные новые находки икон конца XIV — начала XV вв. говорят о необычайно высоком уровне русской живописи того времени. Можно с несомненностью утверждать, что эпоха объединения русского народа вокруг Москвы была одновременно и эпохой высшего расцвета древнерусской живописи. Слава русских художников той поры была настолько велика, что их приглашали работать далеко за пределы родины. Особенно много остатков фресок древнерусских мастеров сохранилось в Польше, где в эпоху королей Ягелла и Казимира русские иконописцы работали в Кракове, в Святокрестецком монастыре на Лысой горе, в Люблине и Гнезне.127 Новгородские фрески частично сохранились в г. Висби на острове Готланде. Новгородских мастеров приглашали расписывать церкви Ганзейской колонии в Новгороде. Русские мастера ездили работать в Золотую Орду. С конца XIV в. значительное движение вперед наблюдается в русской письменности. Первые признаки зарождающегося индивидуализма отличают русскую книжность так же, как живопись конца XIV — начала XV вв. В противоположность безыменности большинства литературных произведений предшествующих веков, в конце XIV — начале XV вв. впервые появляется иное отношение к авторству. Авторы житий много говорят о себе, пишут обширные предисловия, в которых рассказывают о причинах, побудивших их приняться за перо, раскрывают свои намерения, пишут о своих личных отношениях к святым, что показалось бы в предшествующие века верхом греховного самовосхваления. Изложение проникается лиризмом и субъективизмом. Индивидуалистически настроенные писатели начала XV в. (Епифаний Премудрый, Пахомий Серб) относятся с видимым интересом к внутреннему миру своих героев. Впервые, хотя еще примитивно и схематично, толкуют писатели начала XV в. о психологических переживаниях действующих лиц своих произведений, о внутреннем религиозном развитии святых. Самые картины природы, интерес к которой постепенно растет, служат образцами для изображения душевного состояния святых. Характерная для эпохи зарождающегося гуманизма любовь к слову отразилась в русских житиях этого периода обилием длинных речей, многочисленностью риторических прикрас, так называемым «плетением словес», ритмической организацией речи, введением ассонансов, внутренних рифм, свидетельствующих о высоком литературном мастерстве русских авторов. Это высокое литературное мастерство в значительной мере поддерживалось живым культурным общением Руси с Византией и южнославянскими странами, особенно интенсивным с конца XIV в. Целый поток югославянских рукописей нахлынул на Русь во второй половине XIV в. Вместе с тем русские рукописи проникают в югославянокие страны, вызывая здесь подражания. Сербский монах Доментиан подражает «Слову» митрополита русского Илариона. Общение книжное увеличивалось непосредственным общением людским. На Русь приезжают болгарские и сербские книжники (Григорий Цамблак, Киприан, Пахомий Серб), а сами русские образуют целые колонии на Афоне и в Константинополе, занятые переписыванием книг, вмешиваются во внутреннюю жизнь и оказывают влияние на культуру югославянских стран. Русский боярин Иван на службе у болгар в правление царя Михаила с 3 тысячами конницы чуть было не овладел Константинополем.128 Насколько основательным было влияние русских книжников, живших на Афоне и в Константинополе, можно заключить хотя бы из того что Константин Костенчский в своем сочинении о правописании называет русский язык «красивейшими тончайшим», ставит его в образец другим славянским языкам и сообразует с ним свои правила орфографии. Русский язык оказывает существенное влияние на болгарский язык XIV в.129 Но самым важным явлением русской культуры конца XIV — начала XV вв. был возродившийся интерес к истории Русской земли. Вся русская культура конца XIV — начала XV вв. пронизана духом историзма, духом любви к славному прошлому своей родины. Как мы увидим ниже, темами русской истории увлечены не только русские книжники: к прошлому Руси обращаются и русская живопись и русская архитектура. Центральное место в этом возродившемся интересе к родной истории, ко временам русской независимости, к домонгольскому периоду русской истории принадлежит Москве. В конце XIV — начале XV вв. работа московских летописцев стала важнейшим государственным делом. Ведя политику собирания Русской земли в единое целое, Москва нуждалась в идеологическом обосновании своих действий, в реальном возрождении исконной летописной идеи о единстве Русской земли. Московские митрополиты и великие князья свозили в Москву различные областные летописи и широко пользовались ими в своем летописании. Московская летопись из узкой, областной становилась благодаря этому общерусской, приобретала общенародный характер и невиданный ранее размах. Эта работа московских летописцев, соединивших в самом конце XIV — начале XV вв. разрозненное летописание отдельных областей, значительно опережала реальный политический рост Москвы. Характер московского летописания, по выражению крупнейшего исследователя русских летописей академика А. А. Шахматова, «свидетельствует об общерусских интересах, о единстве земли русской в такую эпоху, когда эти понятия едва только возникали в политических мечтах московских правителей».130 В самом конце XIV в. в Москве был составлен первый большой летописный свод, названный «Летописцем великим русским». По одним предположениям (А. А. Шахматов), «Летописец» этот возник в 1396 г., по другим (М. Д. Приселков) — в 1389 г.131 Попытки выйти за пределы узко московских интересов еще очень слабо ощущаются в этом своде. Однако чрезвычайно серьезным новшеством, наложившим резкий отпечаток на всё последующее московское летописание, было то, что в начало этого свода была включена «Повесть временных лет». «Повесть временных лет» была тем произведением древнерусской исторической мысли времени Владимира Мономаха, которое живо хранило идейные традиции литературы домонгольской Руси, сознание единства княжеского рода и Русской земли. Отсюда московские летописцы могли заимствовать идею служения князя народу, свободную критику действий князей, идею обороны Русской земли от кочевников соединенными усилиями русских княжеств. Именно с момента включения «Повести временных лет» в качестве составной, вступительной части в московские летописи мы видим в них не безразличное к политическому смыслу происходящего наименование татар половцами, татарской степи — половецкой, и, наоборот, половцев и печенегов — татарами; очевидно, что «Повесть временных лет» не только переписывалась в это время, но и усиленно читалась, и события, изображенные в ней, применялись в определенном смысле к событиям современности. Призывы «Повести временных лет» к борьбе с половцами воспринимались как призывы к борьбе с татарами. И летописец не без умысла менял эти названия, сопоставляя тех и других как общих врагов русской независимости. Первый общерусский свод, по-настоящему поднявшийся над узкими местными интересами — тверскими, московскими, суздальско-нижегородскими, ростовскими, рязанскими, новгородскими — и осветивший русскую историю с точки зрения единства Русской земли, был составлен в Москве в 1408 г.132 Инициатива составления этого свода принадлежала митрополиту Киприану. Он превратил Москву в религиозный центр всей Руси и фактически подчинил московской митрополии церковные организации отдельных русских областей, в том числе и тех, которые входили еще в состав Литвы. В самые последние годы своей жизни Киприан собрал с различных концов Руси местные летописи, действуя в этом отношении через подчиненную ему церковную организацию. К своду были привлечены новгородская летопись, рязанская — княжеская, суздальская, тверская, некоторые местные московские летописи (например серпуховская) и предшествовавший московский «Летописец великий русский». Кроме того, в свод Киприана впервые были включены известия по истории Литвы, так как и в Литве находились русские земли, на которые претендовала Москва. Составленная таким образом летопись (окончание работы над нею относится уже ко времени после смерти Киприана) известна под названием Троицкой. Летопись эта сгорела во время московского пожара 1812 г., выдержки из нее сохранились в приложениях к «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина. Существенным моментом в Киприановской летописи явился ее учительный, публицистико-назидательный характер по отношению к московским великим князьям. Следующий за Киприановским сводом свод Фотия не только удержал, но и развил именно эту учительную по отношению к московскому великому князю тенденцию. Критическое отношение к московскому великому князю за недостаточно решительные, по мнению летописца, действия против Орды составляло отныне одну из самых «боевых» сторон московской летописи. Она ориентировалась на «Повесть временных лет», на возрожденные традиции киевского летописания. Свод Фотия отразил в своем составе всё летописное богатство древней Руси. Он соединил в себе в обширных извлечениях летописи тверскую, новгородскую, ростовскую, ярославскую нижегородскую и т. д. Эти местные летописи не были здесь обезличены: они сохранили, иногда в неизменном виде, местные симпатии и политические устремления. Свод Фотия стремится вести историческое повествование беспристрастно и объективно. Сглаживается изложение борьбы Москвы с соперничающими центрами, опускаются некоторые узко московские известия, сведения семейно-княжеского характера и т. д. Изъятию подверглись пренебрежительные выпады против новгородцев, тверичей, суздальцев. Такая переработка летописных известий, несомненно, была вызвана тем, что в своей борьбе с областными центробежными силами Москва стремилась опереться на местное демократическое население, была заинтересована в прекращении областной вражды и ощущала себя носительницей идеи единства Руси. Решительною новостью со времени «Повести временных лет» явилось использование в своде народных эпических преданий о богатырях Владимирова цикла и о гибели богатырей на Калке. В летописи рассказывалось о богатырском подвиге Демиана Куденевича, о Рагдае Удалом, который один выходил на триста воинов, об Александре Поповиче и слуге его Торопе. Упоминались и многие другие богатыри, как, например, Добрыня Рязанич Златой Пояс, Андриан Добрянкович Храбрый, Ян Усмошвец, одержавший победу над половцами вместе с Александром Поповичем, и др.133 Москва явно стремилась придать летописанию общенародный характер. Соединение в единую летопись разрозненных летописей множества разобщенных областей свидетельствует о вполне созревшей уже мысли о единстве Руси. Мысль эта сочеталась пока с бережным использованием местной литературы, местных, иногда демократических тенденций и не диктовала еще, как позднее, сурового сокращения и цензурования местных памятников. Наоборот, московская летопись в эти годы явно начинала занимать все более и более демократическую позицию, выдвигая роль горожан в защите Руси от кочевников. Иную трактовку получила, например, в новом своде повесть о Тохтамыше.134 В предшествующем летописном своде главная роль в защите Москвы от войск Тохтамыша принадлежит внуку Ольгерда Остею,135 заменившему ушедшего в Кострому великого князя Дмитрия Ивановича. Гибель этого литовца сломила, якобы, сопротивление Москвы. В новой редакции этой повести о Тохтамыше в своде Фотия с особенным вниманием рассказывается о московских купцах-гостях — «сурожанах» суконниках и др. Они названы поборниками земли Русской; против них, главным образом, направлена ненависть татар. Литовский князь Остей не выступает уже защитником Москвы от Тохтамыша, как в своде Киприана: сами горожане оберегают город. В повествование введен новый рассказ о подвиге суконника Адама, который, заметив с Фроловских (Спасских) ворот кремля важного татарского князя, попал ему из самострела прямо «в сердце его гневливое». Взять Москву Тохтамышу удалось лишь при помощи измены в русском стане и ложными, вероломными обещаниями. Демократический характер этой переделки несомненен. Версия эта носит следы фольклорного происхождения: былины знают горького пьяницу Василия Игнатьевича, который в Киеве со стены города поражает стрелами трех знатнейших татарских вельмож. Таким образом, идея единства Руси вошла в московские летописные своды вместе с демократическими тенденциями. Действия великого князя московского обсуждаются в них с точки зрения соответствия их задачам общенародной политики. В этом последнем отношении чрезвычайно показательна неясная по своему происхождению, возможно составленная в Твери, пространная и витиеватая повесть о походе на Москву татарского хана Эдигея (1408). Повесть резко заострена против политики московского великого князя, пригласившего к себе на помощь татар и приютившего «ляха» Свидригайло. Когда пограничные отряды Эдигея пришли, чтобы помочь русским против Витовта, «сгарци же сего не похвал шла, глаголюще: „Добра ли се будеть дума юных наших бояр, иже приведоша половець на помощь?“».136 Летописец осуждает князей, которые наводят на Русь половцев-татар. Но особенному осуждению подвергся в летописи великий князь Василий Дмитриевич за то, что отдал Свидригайлу, «ляху верою», кафедральный город митрополита всея Руси — Владимир. В повесть вставлена похвальная характеристика города Владимира как стола Русской земли, «мати градом» русским, города пречистой богоматери, в котором «князи велиции Русстии первоседание и стол земли Русскыя приемлють».137 Резкому осуждению подвергнуты в повести и нерешительные действия русских войск. По поводу оставления великим князем Москвы вставлена цитата из псалма, не оставляющая никаких сомнений в цели ее применения: «добро есть уповати на Господа, нежели уповати на князя».138 Замечательно, что, желая оправдать свою резкую критику действий князя, летописец под конец повести ссылается на «начального летословца Киевского», который «временна богатства земская не обинуяся показуеть», и на великого Селивестра (одного из редакторов «Повести временных лет»), «не украшая пишущего». Ссылается летописец и на первых властодержцев русских, повелевавших без гнева «вся добрая и недобрая прилучившаяся написовати»,139 Эта небольшая приписка к повести об Эдигее, полной укоров и обличений, лучше всего показывает, какого широкого взгляда держался московский летописец на свою работу, какая острота политического обличения влагалась им в летописные своды начала XV в., и каким авторитетом пользовалась «Повесть временных лет». Со времени ее написания работа исторической мысли еще не была так интенсивна, как в этот период. Никогда еще работе летописцев и историческим концепциям не придавалось такого исключительного значения — значения государственной важности. Общенародный господствующий характер обращения после Куликовской битвы (1380) к временам независимости, к Киеву, к «Повести временных лет», к Владимиру как к городу, овеянному воспоминаниями, связанными с эпохой независимости Руси, ярко выступает не только в книжности. Сопоставление летописной работы начала XV в. с тем, что происходило в это время в области живописи и архитектуры, ярче всего демонстрирует, какого грандиозного размаха достигли в начале XV в. восстановительные тенденции. Конец XIV — начало XV вв. могут рассматриваться как эпоха возрождения, связанного с особым интересом к родной истории и к памятникам прошлого. Резкий перелом в области московского искусства наступил именно в княжение Дмитрия Донского. Архитектурные формы постепенно обнаруживали стремление к внешнему блеску, к пышности и богатству, как бы отражающим общий подъем народного самосознания после первых побед над татарами. С княжения Дмитрия Донского впервые в русской истории началась реставрация памятников, связанных с воспоминаниями об эпохе независимости Руси. Очевидно, что именно в княжение Дмитрия Донского Успенский собор во Владимире (1158) капитально ремонтировался и стал княжеским собором. Реставрационные работы особенно усилились в начале XV в. В 1403 г. обновлялся собор 1152 г. в Переяславле Залесском. В 1408 г. знаменитый русский живописец Андрей Рублев восстановил по приказанию московского великого князя древнюю домонгольскую живопись Успенского собора во Владимире.140 Реставрационные работы над памятниками домонгольской поры велись в Ростове, в Твери, в Звенигороде и т. д. Полоса этих реставраций тянулась вплоть до Ивана III, когда итальянский зодчий Аристотель Фиораванти построил центральную святыню нового русского государства — Успенский собор московского кремля, по образцу владимирского Успенского собора 1158 г. Тот же интерес к произведениям домонгольского периода характеризует и русскую книжность. Составлялись новые и вновь редактировались старые переводы произведений, известных еще с XI–XII вв.; во множестве создавались новые исторические сказания и повести, главным образом касающиеся борьбы с татарами. В течение всего XV в. мы встречаем усиленное подражание литературным произведениям эпохи независимости. Это обращение во всех областях культурной жизни Руси конца XIV — начала XV вв. ко временам независимости вызвало к жизни оригинальную историческую теорию, символически противопоставившую начало и конец татаро-монгольского ига. Читая и перечитывая «Слово о полку Игореве», как перечитывались в конце XIV в. «Повесть временных лет», «Киево-Печерский патерик», «Сказания о рязанском разорении», подвергшиеся в это время существенным переделкам, древнерусский книжник усмотрел в событиях «Слова» начало татаро-монгольского ига. Немалую роль в этом имело самое отожествление половцев и татар, типичное для московских летописных сводов.141 Такой взгляд на «Слово о полку Игореве», как на произведение о начале татаро-монгольского ига, побудил вскоре же после Куликовской победы противопоставить ему произведение о конце татаро-монгольского ига. Таким своеобразным «ответом» на «Слово о полку Игореве» явилась «Задонщина». Автор «Задонщины» имел в виду не бессознательное использование художественных сокровищ величайшего произведения древней русской литературы — «Слова о полку Игореве», не простое подражание его стилю (как это обычно считается), а вполне сознательное сопоставление событий прошлого и настоящего, событий, изображенных в «Слове о полку Игореве», с событиями современной ему действительности. И те и другие символически противопоставлены в «Задонщине». Чтобы пояснить читателю эту идею, автор «Задонщины» предпослал ей предисловие, составленное в эпически-былинных тонах. На пиру у воеводы Микулы Васильевича великий князь Дмитрий Иванович обращается к «братии милой» с предложением пойти на юг, взойти на горы киевские, посмотреть на славный Днепр «и оттоле на восточную страну, жребий [удел] «Симов», от которого родились татары: «те бо на реце на Каяле одолеша род Афетов [русских], оттоле Русская земля сидит невесела, от Калатьския [Каяльская] рати до Мамаева побоища тугою и печалию покрышася, плачущися, чады своя поминаючи». «Снидемся, братия и друзи и сынове русские, составим слово к слову, возвеселим Русскую землю, возверзем печаль на восточную страну, в Симов жребий» [т. е. на татар], — приглашает автор «Задонщины» в начале своего произведения. Дальнейшее описание событий битвы на Дону имеет в виду именно это — «возвеселить Русскую землю», «ввергнуть печаль» на страну татар. В «Слове о полку Игореве» грозные предзнаменования сопровождают поход русских войск: волки сулят грозу по оврагом, орлы клёкотом зовут зверей на кости русских, лисицы лают на щиты русских. В «Задонщине» те же зловещие знамения сопутствуют походу татарского войска: грядущая гибель татар заставляет птиц летать под облака, часто граять воронов, говорить свою речь галок, клекотать орлов, грозно выть волков ж брехать лисиц. В «Слове» — «дети бесови [половцы] кликом поля перегородиша»; в «Задонщине» — «русские же сынове широкие поля кликом огородиша». В «Слове» — «чрьна земля под копыты» была посеяна костьми русских; в «Задонщине» — «черна земля под копыты костьми татарскими» была посеяна. В «Слове» — кости и кровь русских, посеянные на поле битвы, всходят «тугою» «по Русской земли»; в «Задонщине» — «уже бо восстона земля татарская, бедами и тугою покрыся». В «Слове» — «тоска разлияся по Русской земли»; в «Задонщине» — «уже по Русской земле простреся веселие и буйство». В «Слове» — «а погании с всех стран прихождаху с победами на землю Русскую»; в «Задонщине» же сказано о татарах: «уныша бо царей их веселие и похвала на Русскую землю ходити». В «Слове» — готские красные девы звенят русским золотом; в «Задонщине» — русские жены «восплескаша татарским златом». «Туга», разошедшаяся в «Слове» после поражения Игоря по всей Русской земле, сходит с нее в «Задонщине» после победы Дмитрия. То, что началось в «Слове», кончилось в «Задонщине». То, что в «Слове» обрушилось на Русскую землю, в «Задонщине» обратилось на ее врагов. Итак, начало того исторического периода, с которого Русская земля «сидит невесела», автор «Задонщины» относит к битве на Каяле, в которой были разбиты войска Игоря Севзрского. «Задонщина» повествует, следовательно, о конце этой эпохи «туги и печали», о начале которой повествует «Слово о полку Игореве». Отсюда преднамеренное противопоставление в «Задонщине» конца — началу, битвы на Дону — битве на Каяле, победы — поражению, и преднамеренное сопоставление Каялы с Калкой, половцев с татарами. Отсюда внешнее сходство произведений, проистекающее из исторических воззрений автора «Задонщины», типичных для своего времени. Обращение к стилю «Слова о полку Игореве» входит, следовательно, в самый замысел «Задонщины», как идеологическое освещение тех событий, начало которых автор «Задонщины» видел в битве на Каяле— Калке, а конец — в битве на Дону. Таким образом, стилистическая близость «Слова о полку Игореве» и «Задонщины» не является результатом творческого бессилия автора «Задонщины» — это вполне сознательный прием: на фоне стилистического единства «Слова» и «Задонщины» ярче и острее должно была казаться самое противопоставление двух событий — прошлого и настоящего. Куликовская битва рассматривается, следовательно, в «Задонщине» как реванш за поражение, понесенное войсками Игоря Святославича на реке Каяле, сознательно отожествляемой автором «Задонщины» с рекой Калкой, поражение русских на которой в 1224 г. явилось первым этапом завоевания Руси татарами. Эта идея реванша, как и самая идея обращения ко временам независимости Руси, сказавшаяся и в письменности, и в архитектуре, и в живописи, и в политике, имела глубоко народный характер. В этом убеждает русский былевой эпос, русские былины, где эти же идеи сказались в полной мере. Есть основание полагать, что сложение русского былевого эпоса в единый киевский цикл произошло не позднее середины XV в. Хотя главные сюжеты былинных песен о князе Владимире относятся еще к домонгольским временам (например сюжеты, связанные с Добрыней, исторически засвидетельствованные «Повестью временных лет»), однако присоединение к ним сказаний рязанских, тверских, муромских, ростовских не могло совершиться до объединения этих областей в единое государство. В то же время создание этого цикла явно не могло произойти и после присоединения Новгорода к Москве, так как новгородские былины составили особый цикл, вернее они не вошли ни в какой цикл: новгородские былины остались без того объединяющего лица, которое получили былины киевские, ростовские, рязанские, московские, сгруппировавшиеся вокруг «старого Владимира» «Красного Солнышка». Следовательно, сложение киевского цикла не могло произойти и позднее 1479 г. — года воссоединения Новгорода и Москвы. Косвенное указание на время расцвета русского былевого эпоса и создания киевского цикла былин дают московские летописные своды XV в., в которые были включены отражения различных былинных сюжетов. В частности, чрезвычайно показательны отражения в московских летописных сводах сюжетов, героем которых был ростовский богатырь Александр (Алёша) Попович. Первоначально Александр Попович, поскольку это выясняет анализ летописных сюжетов с его участием, — один из «храбров» Всеволода Большое Гнездо. Александр — житель Ростова, со смертью Всеволода он переходит на службу к его сыну Константину. Боевые подвиги Александра связаны с борьбой за наследство Всеволода между его сыновьями. Он — главный герой Липецкой битвы. Сказания о нем, сложившиеся до XIV в., тесно связывают его имя с урочищами Ростова. Эти сказания, повидимому, первоначально распространялись только в Ростово-Суздальской земле. С ослаблением центробежных областнических, узко местных тенденций в конце XIV — начале XV вв., с ростом сознания общерусского единства Александр Попович теряет черты местного ростовского герой и становится героем общерусским. Параллельно реальному политическому объединению русских земель создаются произведения, объединяющие русских богатырей, начинающих служить общерусским интересам. Создается сюжет об отъезде Александра Поповича из Ростова во главе других русских храбров, отказывающихся от служения местным князьям. Александр Попович и все русские князья приезжают в Киев — мать городов русских — и служат «единому» русскому князю Мстиславу Романовичу, а затем гибнут в Калкской битве. В летописном своде Фотия (1418 или 1423), в известии о смерти в битве на Калке Александра Поповича и «инех» 70 храбрых можно видеть древнейшее отражение в средневековой письменности эпического сюжета о гибели богатырей. Это один из древнейших этапов сложения былин в единый цикл, один из основных и первоначальных сюжетов, рисующих объединение богатырей (объединение, правда, перед лицом смерти, объединение в гибели за общерусское дело). Недовольство княжеской властью в конце XIV и начале XV вв. (эпоха усобиц) нашло отражение в летописи в резко отрицательном изображении киевского князя Мстислава Романовича (см. так называемый Тверской сборник). Однако рост политического значения княжеской власти в XIV и XV вв., выдающаяся роль московских великих князей в политическом объединении Руси приводят к переосмыслению роли и личности князя в былинных сюжетах. Соответственно этому уже во второй половине XV в. в былинных сюжетах об Александре Поповиче место ничтожного князя Мстислава Романовича занимает идеализированный русской летописью, книжностью и народом в целом — Владимир Мономах, собиратель русских богатырей и официальный родоначальник московских великих князей, собирателей Русской земли. Александр Попович на службе у Владимира Мономаха удачно обороняет Киев от половцев (Никоновская летопись под 1103 г.). Последний этап создания сюжетов об Александре Поповиче, засвидетельствованный летописью для первой половины XVI в., застает Александра Поповича при главной притягательной силе Киевской Руси — Владимире I Святославиче, совместно с другими русскими богатырями защищающим Киев от печенегов. К 1550-м годам (время составления Никоновской летописи) этот цикл развития былинных сюжетов об Александре Поповиче может считаться завершенным. Таким образом, исторические предания об Александре Поповиче и по характеру своей распространенности и по характеру своих сюжетов развиваются от узко местного эпоса к общерусскому. Местные сказания, приуроченные к определенным ростовским урочищам, превращаются в общерусские героические сюжеты с весьма обобщенным содержанием. Развитие былинных сюжетов об Александре Поповиче идет параллельно развитию и росту общенародного самосознания. Это положение справедливо и для истории ряда других былинных сюжетов. История сюжетосложения былин об Александре Поповиче наглядно убеждает в том, что процесс циклизации былинных сюжетов вокруг Киева и Владимира «Красное Солнышко» отнюдь не являлся механическим процессом, подчиненным бессознательным законам народной памяти. Историческая школа в изучении былин (Вс. Миллер, М. Халанский, Н. Дашкевич, А. Лобода, А. Марков, Б. Соколов и др.) ставила себе целью связать русские былины с подлинными историческими фактами, с определенными историческими лицами. Вся последующая история былинных сюжетов, в том числе и циклизация их вокруг Киева, рассматривалась исторической школой, как постепенное обесценивание и затухание памяти об этом историческом ядре — историческом факте, легшем в основу былины. Анализ исторического развития былинных сюжетов, поскольку оно отразилось в летописи, позволяет говорить об обратном: не о ниспадающей линии развития эпоса, а о восходящей. Возникнув на основе местного исторического припоминания, сюжет героического эпоса постепенно поднимается до обобщающих представлений об исторических судьбах родины и выходит за пределы своей местности, становясь достоянием всего народа. Это объясняется в первую очередь тем, что развитие эпоса самым тесным образом связано с историческими воззрениями народа. Эта мысль была в свое время отчетливо выражена таким непревзойденным знатоком русского эпоса и древней русской письменности, как Ф. Буслаев: «… русский народный эпос служит для народа неписанною традиционной летописью, переданной из поколения в поколение в течение столетий. Это не только поэтическое воссоздание жизни, но и выражение исторического самосознания народа».142 Таким образом, историческая концепция русского эпоса отнюдь не случайна: ее создание диктовалось исторической необходимостью; она представляла собой живой отклик народа, активно воспринимавшего события своего времени, на судьбы родины. Исторический эпос — «исторический не в том смысле, что в нем выведены действительные исторические лица, а в том, что в формах прошлого он выразил народное настроение настоящего».143 История сюжетосложения былин — история постепенного вхождения их в киевский цикл. Она наглядно показывает, что в киевском цикле отразилась прежде всего идея единства Руси, идея единства русского народа. И князь Владимир и Киев, в котором собираются все местные русские богатыри, являются в нем символами русского единства и русской независимости. На службе у князя Владимира русские богатыри, Илья Муромец, Добрыня Рязанич, ростовский житель Александр Попович и др., обороняют Русскую землю от степных кочевников, стоят на пограничной заставе, зорко всматриваясь в степную даль, и неизменно одерживают победы над врагами Руси. Объединение местных областных сказаний в единый киевский цикл вокруг князя Владимира совершилось в былинах на почве того же культа Киева и его князя Владимира, который заставлял москвичей на рубеже XIV и XV вв. восстанавливать домонгольские здания, реставрировать домонгольскую живопись, подновлять и давать новые редакции произведениям Киевской Руси, возводить генеалогию московских князей к «старому Владимиру» и т. д. Объединение русских былин в киевский цикл было, следовательно, вполне аналогично объединению областных летописей в грандиозных московских летописных сводах с киевской «Повестью временных лет» во главе. Культ Киева и его князя Владимира был культом национальной независимости и в русской книжности и в фольклоре. Подобно тому как «Задонщина» была вся проникнута идеей реванша и мести за нанесенные русским поражения, русские былины, воспевавшие неизменные победы русских богатырей над татарами, жили той же идеей мести и реванша. Смешение половцев и татар, как общих врагов Руси, в книжности и фольклоре далеко не случайно: и книжность и фольклор жили в основном единой мыслью в эпоху объединения русских областей и борьбы с татаро-монгольским игом. >VI ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА С МОСКВОЮ НОВГОРОДА И ТВЕРИ >Наряду с подъемом объединительных идей в Москве, росло и идеологическое сопротивление ей отдельных русских областей. Чем круче была политика Москвы, тем ожесточеннее было это сопротивление. Но знаменательно, что, противопоставляя Москве свои политические теории, области вынуждены были считаться с достижениями исторической мысли Москвы и безоговорочно принимали некоторые из ее идей. Чем ярче разгоралась борьба Москвы с Новгородом и Тверью, тем яснее становилась победа идеи общерусского единства. Под конец борьба шла уже не между центробежными и центростремительными силами в русской жизни: боролись областные центры с Москвою за возглавление того общерусского единства, которое уже всеми считалось одинаково необходимым. В идейной борьбе Новгорода и Твери с Москвою рождались новые исторические произведения, необычайно рос интерес к родной истории. Так, в самом сопротивлении Москве рождались предпосылки для объединения с нею. >1 Объединительная политика Москвы встретила чрезвычайно сильное сопротивление новгородского боярства, опасавшегося потерять свои обширные земельные владения, и крупного новгородского купечества, боявшегося конкуренции Москвы в торговле с Западом. Новгородское государство становилось всё более и более реакционной силой в русской жизни, сопротивлявшейся объединительной политике московских великих князей. Новгородское ушкуйничество нарушало московскую торговлю севера и северо-востока; неспокойная новгородская политика грозила постоянными неожиданностями. Однако в самом Новгороде, как и в других русских областях, увеличивалось «в населении количество таких элементов, которые прежде всего желали, чтобы был положен конец бесконечным, бессмысленным войнам, чтобы прекращены были раздоры феодалов, приводившие к тому, что внутри страны шла непрерывная война даже в том случае, когда внешний враг был в стране, чтобы прекратилось это состояние непрерывного и совершенно бесцельного опустошения, которое неизменно продолжало существовать в течение всего средневековья».144 Демократические низы Новгорода явно тяготели к Москве, к сильной великокняжеской власти, в которой надеялись найти опору против боярства. В разное время сторонники подчинения Москве находили себе в Новгороде путь к власти, но в полной мере ни партия новгородских сепаратистов (так называемая литовская), ни партия сторонников Москвы не смогли возобладать на зыбкой почве новгородского «народоправства». Конец XIV в. характеризуется крайним обострением борьбы Москвы с Новгородом. Эта борьба стала особенно напряженной в 90-х годах XIV в., в связи с отказом новгородцев выезжать на суд к московскому митрополиту. По старому, испытанному еще в XII в. пути, новгородское боярство посылало послов с жалобой в Константинополь, угрожало Москве переходом в латинство, клялось на вече не судиться у митрополита. Только после того, как войска великого князя захватили Торжок и начали опустошать новгородские волости, новгородцы изъявили покорность. Новый перевес дало новгородской литовской партии замешательство в церковных делах первой половины XV в., приведшее к образованию двух враждебных митрополий: московской и киевской. Оно позволило новгородскому боярству вести двойную политику и постоянно добиваться от Москвы уступок угрозами подчиниться киевскому митрополиту. С этой поры церковный вопрос в Новгороде приобрел первостепенное политическое значение. Пользуясь смутою в церковных делах, Евфимий II Новгородский получил «поставление» в Смоленске у киевского митрополита Герасима, и это дало Новгороду независимость от московской церкви. В Новгороде приобрели значительную силу антимосковские настроения. Архиепископ Евфимий II активно способствовал западному влиянию и оказывал покровительство иностранцам. «От странных же или чуждых стран приходящих всех любовию приимаше, всех упокоиваше, всех по достоинству миловаше», — говорит о нем Пахомий Серб. Показателем новгородской политики служит то, что в Новгороде находили убежище противники московского великого князя — Дмитрий Шемяка и Василий Гребенка. Новгородское боярство обращалось к прошлому Великого Новгорода, чтобы в нем найти опору в борьбе против Москвы. Так же, как и в Москве, это обращение к прошлому сказалось в усиленном развитии летописания, в целом ряде реставрационных работ, в попытках оживить историческое предание, связанное с героическими страницами в жизни родного города. Во второй четверти XV в. началась беспокойная строительная деятельность архиепископа Евфимия II. Он обстроил новыми зданиями владычный двор Детинца, строил на Софийской и Торговой сторонах, строил в Старой Руссе, в Вяжищах, в Хутыне и т. д. Ко времени Евфимия II относятся здания светского и промышленного назначения, церкви и правительственные палаты. Особое место в строительной деятельности Евфимия II занимало возрождение новгородских архитектурных форм XII в. — века наибольшего расцвета новгородской торговли и внешнего могущества. В 1454 г. Евфимий II реставрировал церковь Ивана на Опоках (братчины Иванщины), первоначальной постройки 1127–1130 гг. В 1455 г. он строил «на старой основе» церковь Ильи на Славне, первоначальное здание которой относилось к 1198–1202 гг. В 1442 г. Евфимий II «на старой основе» 1198 г. ставил Преображенский собор в Старой Русое. На старой же основе XII в. восстанавливались церкви Бориса и Глеба (1445), Жен-мироносиц (1445), Борогодицы на Торгу (1458) и др.145 Евфимий II возродил строительные приемы монументальной архитектуры XII в., напоминавшие своими выразительными и внушительными формами о былом величии Новгорода. Разнообразной строительной деятельностью Евфимия II восхищался Пахомий Серб, в восторженных выражениях описавший выстроенные Евфимием храмы Детинца, которые «яко звезды или горы» стоят вокруг Софии. Массовое восстановление Евфимием II старых церквей XII в. связано с одновременным установлением культа «преждеотшедших» новгородских архиепископов, с возрождением летописного дела, с созданием цикла литературных произведений об архиепископе Иоанне, при котором новгородцы в 1170 г. отбили от стен Новгорода войска северо-восточных княжеств, что в XV в. служило как бы символом неприступности Новгорода для посяганий Москвы. Около 1432 г. был составлен в Новгороде обширный летописный свод «Софийского временника», который должен был дать новую историческую концепцию, поставив в центр русской истории историю Великого Новгорода. Однако, вскоре после составления свода 1432 г. «Софийского временника», в Новгороде стал ясен и его основной недостаток, не позволявший ему конкурировать с обширными московскими летописными сводами начала XV в. В то время как московское летописание было в подлинном смысле этого слова общерусским, объединяло в своем составе известия самых разнообразных областей и освещало историю всего русского народа в целом, новгородский «Софийский временник» но составу своих известий оставался все же летописью узко новгородской. Поэтому при том же Евфимии II в 1448 г. было предпринято составление нового летописного свода. Свод 1448 г. был первым новгородским сводом с ярко выраженным общерусским характером. Это далеко уже не узкая местная летопись, редко выходящая за пределы родного города, какой была новгородская летопись в предшествующие столетия. Свод 1448 г. описывает судьбу русского народа в целом, хотя преимущество попрежнему отдает Новгороду и в нем видит, очевидно, центр событий русской истории. Знаменательно, что в основном этот общерусский характер свод 1448 г. приобретает в результате заимствования общерусских известий из московского летописного свода Фотия 1418 или 1423 г. Стремясь создать историческую и политическую концепцию, противостоящую московской, Новгород все же опирался на Москву, на ее книжность, считался с достижениями ее исторической мысли и принимал общерусский характер ее трактовки предшествующего летописания. Так, идеи Москвы находят себе признание даже у ее врагов. Однако, в противоположность московским летописцам конца XIV — начала XV вв., нередко оценивавшим события с точки зрения демократических городских слоев населения, составитель свода 1448 г. во многих случаях проявил себя как представитель интересов боярской партии — владычнего двора. Он с осуждением отнесся к черному люду — к «голодникам», «ябедникам»146 и к городским волнениям. Свод 1448 г. имел обширный успех в русском летописании. В Новгороде на его основе создается еще ряд сводов. Историческая мысль работала с чрезвычайной интенсивностью. Летописные своды с настойчивой последовательностью создавались один за другим, но самостоятельной и законченной новгородской исторической концепции, подобно московской, всё же не получилось. Содержание новгородских летописей, стремившихся соединить достижения исторической мысли Москвы с антимосковскими тенденциями правящей верхушки Новгорода, осталось таким же противоречивым, как противоречива была и сама новгородская жизнь. >2 Попытки новгородского боярства опереться на прошлое Великого Новгорода, возродить старые, еще домонгольские традиции нашли себе место не только в новгородском летописании. В 1436 г. в церкви Усекновения главы в Новгородском Детинце упавший сверху камень пробил «велию скважину», в которой обнаружилось «нетленное» тело неизвестного святого. Известили Евфимия. «Убедившись» в нетленности мощей, Евфимий начал молить Бога: «да явит имя, кто есть». В ту же ночь «явился» Евфимию архиепископ Иоанн, открылся, что мощи принадлежат ему, и велел «праздновать себя» каждое 4 октября. Иоанн (1163–1186) — первый официальный новгородский архиепископ. Он был известен в Новгороде, главным образом, как лицо, при котором в 1170 г. произошло «чудесное» спасение города от подступивших к нему войск северо-восточных княжеств, отожествлявшихся в Новгороде в XV в. с Москвой. Само собой разумеется, что открытые так кстати упавшим камнем мощи Иоанна были торжественно водворены в Софийском соборе, и почитание этого новоявленного святого приобрело формы почти политической демонстрации. Вокруг архиепископа Иоанна и «чуда» спасения Новгорода от войск суздальцев возник цикл легенд, своего рода культ новгородской независимости. Основание культа новгородских святых и возвеличение новгородского прошлого подкреплены были несколько позднее и другой легендой. Под 1439 г. летопись сохранила сказание пономаря Аарона.147 В одну из ночей пономарь Аарон увидел, как в церковь Софии «прежними дверьми» (очевидно теми, которыми перестали пользоваться) вошли все «преждеотшедшие» новгородские архиепископы, молились в алтаре и пред иконою Корсунской божьей матери. Пономарь рассказал о своем видении Евфимию, и тот «бысть радостен о таковом явлении», повелел служить панихиду по всем новгородским архиепископам, а затем установил и более регулярное чествование своих предшественников. Выходило так, что не Евфимий II насаждал почитание новгородских святых и воскрешал память о забытых временах новгородского расцвета, а само прошлое напоминало о себе. «Преждеотшедшие» архиепископы молились за Новгород, объявляли свои мощи и т. д. Новгородская боярская партия настойчиво искала в новгородском прошлом опоры для своих притязаний на независимость и отъединенность от Москвы. Евфимий II пригласил с Афона знаменитого ритора Пахомия Серба и заказал ему литературное изложение легенды о чудесном спасении Новгорода при архиепископе Иоанне от войск суздальцев в 1170 г. Простую и непосредственную новгородскую легенду Пахомий «удобрил» витиеватым красноречием, придав ей пышность и назидательность, усилив элемент чудесности. Заканчивалось описание «чуда» спасения Новгорода от войск северо-восточных княжеств в изложении Пахомия молитвой, трафаретные заключительные строки которой должны были звучать особенно остро в политической обстановке половины XV в.: молитва завершалась прошением об избавлении «града нашего [Новгорода] от глада, губительства, труса [землетрясения], потопа и нашествия иноплеменников».148 В этот первый свой приезд в Новгород Пахомий написал, кроме того, службу новгородскому святому Варлааму Хутынскому, похвальное слово ему же и житие Варлаама. Культ новгородских святых обставлялся, как видим, необходимой пышностью. Таким образом, торжественное восстановление авторитета родной старины, начатое Москвою, было подхвачено ее политическим противником — Новгородом, новгородским боярством. Чем ожесточеннее была идеологическая борьба Москвы и Новгорода, тем яснее становилась победа общерусского сознания, тем ближе в конечном счете становилась и идейная победа Москвы, как наиболее последовательного носителя общенациональных традиций. >3 Но уже и в самом Новгороде идеи Москвы находили всё большее число сторонников. К концу 50-х годов XV в., в результате победы московского великого князя над новгородским ополчением и заключения невыгодного для новгородского боярства мира, перевес Москвы настолько определился, что представителям боярской партии в Новгороде приходилось думать только о политике отсрочки, по существу, неизбежного конца новгородской независимости. Росло и сочувствие демократических слоев населения Новгорода Москве. Роль заступника и постоянного ходатая за Новгород перед московским великим князем принял на себя избранный после смерти Евфимия II архиепископ Иона, искусно лавировавший между крайностями литовской боярской партии и энергичным натиском Москвы. Иона ознаменовал свое архиепископство целым рядом предприятий, клонившихся к закреплению мирных отношений с Москвой. В житии Ионы отмечено, что «московьстии князи много любяху его и со благоговением почитаху, и писания множицею посылаху к нему и от него въсписания желанно приимаху».149 Иона установил в Новгороде культ московского святого Сергия Радонежского, выстроил ему церковь (1463), ездил в Москву, где слезно заступался за новгородцев перед великим князем. При Ионе вторично прибыл в Новгород Пахомий Серб. Иона, как и Евфимий II, заказал Пахомию различные церковные службы и при этом, наряду со службами новгородским святым заботился и о службах святым, имевшим общерусское значение. Особенный интерес имеет заказанное Ионой Пахомию «Сказание о чуде преподобного Варлаама Хутынского» (1460). «Чудо это, случившееся в первый же год архиепископства Ионы, было весьма симптоматично. Во время приезда в Новгород московского великого князя Василия Васильевича умер его постельничий Григорий Тумган. Привезенный ко гробу новгородского святого Варлаама, постельничий «воскрес». Так же, как и открытие мощей архиепископа Иоанна при Евфимии II, инсценировка воскрешения постельничего московского великого князя у гроба новгородского святого не была случайной: новое «чудо» знаменовало собой временный перелом в новгородской политике и стояло в связи с новгородской дипломатией, стремившейся расположить к Новгороду великого князя Василия Васильевича. Заказывая описание этого «чуда», Иона имел в виду внушить московскому князю уважение к новгородским святыням, примирить его с Новгородом. Предназначенное для такой цели «Сказание» написано в духе московских взглядов. Оно именует Василия Васильевича «благочестивым и благоверным великим князем володимерским и московским и новгородским и всея Руси», а Новгород — вотчиной великого князя. Впоследствии, когда отношения Новгорода с Москвой вновь обострились, послушный исполнитель воли своих заказчиков Пахомий Серб переделал свое произведение согласно с требованиями момента: пышное титулование московского великого князя было замшено более простым — «благочестивый великий князь», а место, в котором говорилось о Новгороде, как о вотчине великого князя, было опущено. К эпохе усиления московских тенденций в Новгороде (в самой средине XV в.) относится житие яркого представителя московской демократической партии в Новгороде — Михаила Клопского. Москвич по происхождению, родственник московских великих князей, Михаил избрал местом своего монашеского пребывания небогатый новгородский Клопский монастырь, игумена которого Феодосия низы новгородского населения одно время даже избрали в архиепископы. Житие, демократическое по своим тенденциям, обильно эпизодами враждебного отношения монастыря к посадникам, к укрывавшемуся в Новгороде неудачному конкуренту московского великого князя Дмитрию Шемяке, и вместе с тем, в отличие от велеречивых и витийственных произведений Пахомия, выполнявшего заказы боярской партии, носит демократический, просторечный характер со следами влияния фольклора. О новгородском князе Михаиле Олельковиче, ставленике Литвы, Михаил Клопский говорит: «то у вас не князь — грязь», советует покориться московскому великому князю, «предрекает» торжество Москвы. Таким образом, еще до завоевания Новгорода Москвою в Новгороде зрели идеи общерусского единения под верховенством Москвы. Сама новгородская старина, вызванная к жизни сторонниками литовской боярской партии, восставала на новгородскую независимость. Разбуженный интерес к родной истории подсказывал идею общерусского единства. >4 В эпоху походов Ивана III ожесточение борющихся партий в Новгороде — литовской и московской — достигло крайней ступени. Новгородское летописание утратило свою организованность и систематичность. Летописи велись по инициативе представителей обеих враждующих партий, дополнявших и расширявших списки, начатые их предшественниками. В этих дополнениях нет единства между отдельными летописцами ни в политических взглядах, ни в круге отмечаемых ими событий, ни в стиле и манере изложения. Летописцы то ограничивались одними лишь новгородскими событиями, то вводили сведения общерусского значения; иногда эти известия кратки и сдержанны, но иногда же речисты и витийственны. Те части новгородской летописи, которые отличаются традиционным новгородским лаконизмом стиля, лишены, однако, чеканности летописного языка XII–XIII вв. Летописец терял присущее ему спокойствие тона, как только подходил к предметам, близко касавшимся его политических убеждений, и разражался в этих случаях многословными тирадами против своих политических врагов всюду, где находил это возможным. Летописец, дополнивший один из списков Новгородской IV летописи (Строевский), так отчитал сторонника московского великого князя Упадыша, забившего железом пять новгородских пушек при приближении к Новгороду московского войска: «како не вострепета, зло мысля на Великий Новъгород, не сытый лукавъства? не мъзды ли ради предаеши врагом Новъгород, о Упадышче, сладкого брашна вкусил в Великом Новеграде? О, колика блага не намятив, недостаточное ума достигл еси!.. Уне бы ты, Упадыше, аще не был бы во утробе матерьни: не бы был наречен предатель Новуграду…»150и т. д. Не на одного Упадыша сетует летописец. Он осуждает «владычнь стяг» (полк новгородского архиепископа), который не хотел ударить на московскую княжескую рать, ссылаясь на то, что «владыка нам не велел на великого князя руки подынути». Осуждает летописец и тех новгородцев, которые перед битвой, с москвичами «вопили» на «больших людей», не желая сражаться: «Яз человек молодыи, испротеряхся конем и доспехом».151 «И бысть в Новегороди молва велика, и мятежь мног, и многа лжа неприазнена, сторожа многа но граду и но каменным кострам [башням] на переменах день и нощь. И разделишася людие: инии хотяху за князя [московского], а инии за короля, за Литовьского»,152 так описывает летописец волнения, вызванные поражением новгородского войска на Шелони. Иной характер носили дополнения Новгородской IV летописи по списку Дубровского. Помимо обилия в них московских и общерусских известий, список включил в свой состав такие направленные против новгородской независимости произведения, как «Словеса избранна от святых писаний»153 на новгородцев, «Послание митрополичье»154 против них же, московский рассказ о присоединении Новгорода с резкими выпадами против новгородцев и характерным заключительным проклятием новгородским «смутьянам»: «И та земская их беда и вся людцкая кровь да будетъ изысканна от Бога вседержителя, по писанному: Господи! зачинающих рать погуби. И то все на тех главах на изменных и на их душах, в сем веце и в будущем, аминь».155 Военные действия против Новгорода, а затем и борьба в Новгороде с остатками боярско-литовской партии внесли ненадолго черты озлобления и полемичности в произведения обеих партий. Эта борьба по мелочам, по текущим вопросам была лишена той широкой историко-философской аргументации, которой обладала литература предшествующего периода. >5 Московские порядки были введены в Новгороде в 1478 г. после вторичного похода, которому Иван III придал характер защиты русских интересов от изменников — новгородских бояр. Этот поход Ивана III был обставлен с чрезвычайной пышностью. Ни один из московских походов ни в прошлом, ни впоследствии не сопровождался такой усиленной пропагандой, таким обилием всяческих посланий, как новгородские походы Ивана III. Идеологическое состязание Новгорода и Москвы достигло в 70-х — 80-х годах XV в. особенной напряженности. Везя в обозе своих войск летописи и книжника, умевшего «говорить по летописцам русским» (новгородца Стефана Бородатого),156 Иван III готовился к сложной идеологической борьбе с Новгородом. Наступая на Новгород, Иван III явно не опешил, принимал по дороге перебежчиков и затягивал переговоры, очевидно, выжидая, чтобы московские интересы сами взяли верх в Новгороде. К этому у него были веские основания: так называемая литовская партия, составлявшая крайнее меньшинство, орудовала в Новгороде путем подкупов и террора, которые становились недейственными при одном приближении громадного войска великого князя. Чем ближе подступала к Новгороду великая рать московская, тем больше перебегало к ней новгородцев, обещавших служить великому князю верой и правдой. Присоединение Новгорода к Москве не сопровождалось стремлением к разрушению его культурных ценностей. Уничтожая новгородскую независимость, москвичи не считали себя завоевателями, точно так же, как и представители московской партии в Новгороде не рассматривали себя как врагов родного города. Уничтожение новгородской независимости понималось не как завоевание, а как воссоединение исконных русских земель под державой «боговенчанного» монарха «всея Руси». Сознание значительности одного из старейших русских городов постоянно ощущается в отношениях Москвы к Новгороду. Москва широко использовала новгородские летописи, приглашала к себе новгородских иконников и каменщиков, подчеркивала славу и величие великого Новгорода, исконную зависимость его от московских великих князей, усматривая новгородскую измену лишь в «последних летех». Постепенно Москва обстраивала новыми стенами Новгородский Детинец (кремль), возвратила в Новгород Софийскую казну, увезенную было Иваном III, перепланировала город, расширяя улицы, упорядочила городскую жизнь, наконец всячески пользовалась книжными традициями и богатствами Новгорода. В первой половине XVI в. в Новгороде наблюдалось возрождение организованной работы над летописью. В 1520 г. при архиепископе Макарии — будущем участнике «избранной рады» Грозного — здесь была составлена особая редакция Хронографа. В 1539 г. был создан новый свод новгородской летописи.157 При Макарии же в Новгороде составлялось грандиозное собрание житий русских святых, так называемые макарьевские Четьи-Минеи в 12 обширных томах. Стремясь найти в новгородском прошлом опору для нового порядка, Москва поддерживала культ представителя московской демократической партии в Новгороде — Михаила Клопского. Политическое значение этого культа видно хотя бы из того, что впервые в истории: древнерусской книжности составление нового жития этого святого было поручено светскому лицу — московскому чиновнику, сыну боярскому и «храброму воину» Василию Тучкову, который значительно усилил московский антипосаднический дух жития. В течение всего XVI и XVII вв. в Новгороде осуществлялся целый ряд общерусских культурных предприятий. Москва поддерживала книжность Новгорода, и сам Новгород в целом придерживался общерусской позиции; однако кое-какие отголоски идей боярско-литовской партии в церковной трансформации (новгородская церковная организация менее всего пострадала при разгроме Новгорода), как, например, идея совершенной самостоятельности новгородской церкви (легенда о белом клобуке), идея превосходства «священства» над «царством» и т. д., еще долго сказывались и в новгородской книжности и в новгородской жизни на протяжении всего XVI и XVII вв. >6 Идейное движение в Твери XV в. во многом аналогично идеологической борьбе Новгорода с Москвой. Так же, как и в Новгороде, в Твери происходит возрождение местных исторических традиций. Так же, как и Новгород, Тверь стремится создать свое местное патриотическое движение, противостоящее Москве, пытается найти опору своим сепаратистским устремлениям в своем прошлом. В Твери, как и в Новгороде, усиленно восстанавливаются старые, еще домонгольские постройки и возрождаются исторические предания эпохи национальной независимости. Однако в отличие от Новгорода, ограничивавшего круг своих исторических интересов местными преданиями, Тверь вслед за Москвой возрождает общерусские исторические традиции Киева. Тверские книжники втечение всего XV в. неоднократно обращаются к литературным произведениям Киевской Руси, переделывая их, редактируя их, переписывая и заимствуя из них для собственных сочинений отдельные образы и целые отрывки. Тверская литература обращается к патриотическому воодушевлению «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона, к широте исторической мысли «Повести временных лет», к оказаниям о князьях Борисе и Глебе, чей культ на протяжении многих веков связывается с политическими идеалами общерусского единства, к произведениям Кирилла Туровского и Киево-Печерскому патерику, пересоставленному в Твери в начале XV в. в новой, так называемой Арсеньевской редакции. Вместе с тем, тверская литература усваивает московские литературные произведения конпа XIV — начала XV вв. и опирается на достижения московской исторической литературы. Вслед за Москвой, в Тверском княжестве — усиленно ведется летописная работа. В 1409 г. составляется свод, пропагандировавший идею единства «Тверской земли» и необходимости примирения тверских и кашинских князей — наследников тверского великого князя Михаила Александровича. В 1455 г. по приказанию тверского великого князя Бориса Александровича составляется «Летописец княжения тверского». Главное и преобладающее внимание уделено в нем тверским событиям и пропаганде идеи самодержавности тверского князя Михаила Александровича. Он — «от богосадного корени доброплодная отрасль», он — «храбрость показа многу и грады многы взем: покоривыися любовию, а непокоривыа мечем». В своем политическом развитии Тверь значительно опережала Новгород. Политическая борьба тверских великих князей с сепаратистскими стремлениями кашинских князей воспитала в Твери мысль о политических преимуществах сильного единодержавного правления. Тверской свод 1455 г. весь проникнут мыслью о необходимости крепкой княжеской власти, о необходимости прекращения феодальных раздоров. И в этом отношении Тверь не только следовала за Москвою, но в некоторых своих идеях опережала ее. Так, раньше чем в Москве, в Твери создается теория самодержавной власти великого князя. Пользуясь временной слабостью Москвы в годы междоусобной борьбы за московское великое княжение, Тверь стремится взять на себя роль защитницы общерусских интересов, а тверской князь пытается быть представителем в Западной Европе всей Русской земли, как ее глава. Эта идеология ярко отразилась в замечательном похвальном «Слове» инока Фомы тверскому князю Борису Александровичу. Историческую обстановку создания «Слова» отчетливо обрисовал академик Н. П. Лихачев в своем труде «Инока Фомы слово похвальное» (1908, стр. IX–X): «В половине XV столетия еще продолжалось давнее соперничество Москвы с Тверью. Идея о царстве и царском наследии коснулась и Тверской области. Был как-раз необыкновенно благоприятный момент. Москва раздирается усобицами, законный князь то в плену, то изгнан, потом ослеплен. Только помощью Твери утверждается он на прародительском столе, заключив союзный и брачный договоры. Во главе княжества Тверского стоит деятельный и талантливый человек [Борис Александрович]. Временное процветание Твери оживляет заглохшую былую славу. Даже послы великой „Шавруковой“ орды идут в Тверь и минуют Москву. Из Византии же приходят печальные вести; после морального падения на нечестивом латинском соборе распространяются слухи о постепенном утеснении Царьграда агарянами [турками. 29 мая 1453 г. Царьград пал, православная вселенская монархия кончилась. Есть у латинян цари, сильные царства, но не может благодатное наследие царя Константина перейти к впавшим в ересь. Только на одной Руси сияет православие; кому же в Русской земле принадлежит наследие царства?.. Не князь московский, а боговенчанный царь Борис Александрович тверской настоящий наследник Византийской империи и „второй Константин“, благоверный православный самодержец…». Такова главная мысль «Слова». «Слово» инока Фомы подчеркивает величие и славу «Тверской земли». Тверская земля — богоизбранная страна, «Новый Израиль»; ее князь — «второй Константин». Имя тверского князя Бориса Александровича славимо повсюду — «от Востока и до Запада и до самого царствующего града». Авторитет тверского князя стоит высоко среди европейских монархов. Иноземные цари возносят ему хвалу. Инок Фома восхваляет храбрость Бориса Александровича и «дерзость сынов Тферскых». Борис Александрович — государь и «защитник наш». Фома подчеркивает силу княжеской власти Бориса, его единодержавство и утверждает богоустановленный характер княжеской власти, что впоследствии настойчиво станут проводить московские книжники. Великий князь Борис Александрович называется в «Слове» царствующим самодержавным государем, что само по себе было решительной новостью в русской политической мысли того времени. Борис Александрович «царскым венцем увязася» и сравнивается с Августом, с Львом Премудрым, с царем Птоломеем Книголюбцем, с Константином Великим, с царем Феодосием. Фома превозносит строительную деятельность Бориса Александровича, устройство им нового Тверского кремля и называет его «новым Ярославом» (Мудрым), что уже само по себе должно было говорить о стремлении Бориса Александровича сосредоточить в своих руках объединение Руси. «Слово» Фомы недвусмысленно выражало идею единства Руси, идею необходимости сильной монархической власти, впервые по-новому названной «царской». Сами по себе эти мысли «Слова» были глубоко прогрессивны; свидетельствуя о вполне созревшей повсюду мысли о необходимости создания единого национального государства. Но Москва имела большие исторические права на возглавление этого государства. Вскоре спор о том, кому стоять во главе объединенной Руси, был решен военной рукой Москвы. Тверской князь нарушил мирный договор с великим князем московским и вступил в переговоры с Литвой. В 1485 г. Иван III осадил Тверь, тверские бояре перешли на службу к Ивану III, тверской князь бежал в Литву, а тверичи целовали крест Ивану III. >VII РОССИЯ И ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В XVI в. >С конца XV в. объединенное Русское государство становится лицом к лицу с Литвой, Польшей, Ливонией, Швецией, Турцией, Ираном. Москва завязывает непосредственные отношения с европейскими странами: Австрией, Венгрией, Венецией, Римом, Германией, Данией. Русское правительство вступает в различные союзы со странами Западной Европы; оно вызывает архитекторов, ремесленников, горноделов, оружейных мастеров, которые вместе с русскими участвуют в общем прсмышленном подъеме страны. Деятельные сношения Русского государства с другими странами вызывают рост национального чувства, чувства гордости за свою родину. Тверской купец Афанасий Никитин, на 25 лет раньше западно-европейских путешественников проникший в Индию (1466–1472) и составивший о ней обстоятельные и умные записки, повидав многие страны, писал: «Да сохранит Бог землю Русскую! боже, сохрани ее! в сем мире нет подобной ей земли. Да устроится земля Русская».158 Русских путешественников и дипломатов, ездивших в Западную Европу в конце XV и XVI вв., всегда отличала крепкая уверенность в себе, в своем достоинстве представителей России. Русские дипломаты умело пользуются своею историческою ученостью и создают сложную теорию власти московских государей, высоко поднимавшую авторитет русского монарха над остальными европейскими королями и правителями. Это была творческая политическая идеология, направлявшая политику Русского государства по пути защиты национальных интересов, национальной культуры в сложной среде европейской цивилизации. Такова ведущая линия отношений России к Западной Европе в XVI в. >1 Не только Россия была заинтересована в конце XV–XVI вв. в деятельных сношениях с европейскими странами. Сами западно-европейские государства наперерыв стремятся к союзу с могущественной страной на Востоке Европы. Необычайные военные успехи Турции во второй половине XV в. вселили ужас и смятение в среду европейских народов. В 1453 г. после двухмесячной ожесточенной осады пал Константинополь. В 1459 г. была завоевана Сербия и обращена в турецкий пашалык. В 1460 г. турки завоевали Афинское герцогство и вслед за ним всю Грецию. В 1462 г. они захватили Лесбос и Валахию, в 1463 г. — Боснию, в 1467 г. — Албанию, а затем Герцеговину. В 1476 г. турки опустошили Молдавию, а в 1479 г. заключили победоносный мир с Венецией и Неаполем. Расцвет турецкого могущества на Востоке совпал с ростом силы и международного престижа молодого Русского государства. Иван III деятельно сносится с западно-европейскими государствами, и западные властители усиленно стремятся польстить самолюбию восточного государя обещаниями королевского титула и признанием за ним прав на константинопольское наследство. Западно-европейские государства всячески стремятся вселить Ивану III мысли о владычестве на Востоке, столкнуть Москву с Турцией и тем самым сделать Русское государство послушным орудием своей политики. Одно из первых мест в этих завязавшихся сношениях Западной Европы с Москвою принадлежало папе. Маня и соблазняя Ивана III византийским наследством, римская курия стремилась вовлечь Москву в общеевропейский союз для борьбы с исламом. Именно для этого и был задуман в Риме брак Ивана III с Софией Палеолог — племянницей последнего византийского императора Константина VIII. В пути византийскую принцессу сопровождал легат папы. В Риме надеялись приобрести в супруге царевны не только нового союзника против Турции, но и, возможно, нового члена католической церкви. Вскоре после брака Ивана III и Софии Палеолог сениория Венеции, всегда точная и осторожная в своих решениях, писала Ивану III, что Византия «за прекращением императорского рода в мужском колене должна принадлежать вашему высочеству в силу вашего благополучнейшего брака».159 Но Иван III не был склонен к войне с турками. В 1495 г. в Константинополе появились московские послы, чтобы обеспечить русским купцам беспрепятственную торговлю с Турцией. Попытки соблазнить Москву константинопольским наследием и вовлечь Русское государство в войну с Турцией особенно усилились при Василии III. В 1519 г. магистр прусского ордена сообщал Василию III через своего посла Дитриха Шонберга о желании римского папы «наияснейшаго и непобедимейшаго царя всеа Русии короновать в христьянского царя»160 с тем только, чтобы Василий III принял участие в антитурецком союзе. В ходе переговоров Шонберг говорил о союзе против «християнского врага Турка, кой держит наследие царя всеа Русии».161 Однако московские бояре отвечали Шонбергу, что Василий «хочет вотчины своее земли Русские»,162 и не приняли во внимание «костянтинополскую отчину»,163 на которую указывал им Шонберг. Ни Иван III, ни Василий III, ни Иван IV не были склонны к войне с Турцией из-за византийского наследия. Властители Запада напрасно обольщали себя надеждой общего с Москвою крестового похода против ислама. В Москве иначе смотрели на константинопольское наследие и нисколько не заботились о земельных приобретениях в Турции. Грозный не дал ответа австрийскому императорскому посольству 1576 г. на предложение «цесарства греческого» и титула «всходного цесаря» (царя Востока); он не дал его, несмотря ка все свое ревнивое отношение к признанию своего царского титула на Западе. Несмотря на состоявшийся брак Ивана III с Софией Палеолог, расчеты папской курии на то, что московские государи отныне будут считать себя наследниками византийских императоров, не оправдались. Московские государи ни разу не заявили своих прав на императорский титул, несмотря на то, что германский император Максимилиан I сам называл Василия III императором, и ни разу не обнаружили притязаний наследовать права Софии Палеолог на Византию. Пересматривая многочисленные доказательства прав, которые предъявляли московские великие князья на царский титул, мы нигде не найдем ссылок на получение этих прав через брак Ивана III с Софией Палеолог. Обращаясь к восточным патриархам за утверждением царского титула, Иван IV говорит о своем родстве с византийскими императорами, но ни разу не вспоминает своей бабки Софии Палеолог. Не упоминает о родстве московских великих князей с византийскими императорами через Софию Палеолог и официальная литература Москвы XVI в. — «Сказание о князех Владимирских», повести о Мономаховых регалиях и дипломатическая переписка Москвы. Это молчание официальной литературы XVI в. о правах Московского престола, полученных через брак Ивана III с Софией, находит себе соответствие в той крайней нелюбви народа к Софии, о которой единогласно свидетельствуют летописи, Курбский, Берсень-Беклемишев и даже иностранец С. Герберштейн. В Москве склонны были видеть в Софии царственную сироту, нашедшую себе приют в могущественном государстве, а не могущественную наследницу держанных прав Империи. В Софийской II и Воскресенской летописях, после описания похода Ивана III на Угру, летописец поместил воззвание к потомкам хранить независимость своего отечества. Это воззвание заключалось явным намеком на отца Софии — Фому Палеолога и на его сыновей, один из которых (Андрей) дважды безрезультатно приезжал на Русь торговать правами византийских императоров: «О храбрии, мужественной сынове Русьстии! потщитеся сохранити свое отечество, Русьскую землю, от поганых; не пощадите своих голов, да не узрят очи ваши пленения, и грабленное святым церквем и домом вашим, и убиения чад ваших, ж поругания женам и дщерем вашим. Якоже пострадаша инии велиции славнии земли от Турков, еже Волгаре глаголю к рекомии Греци, и Трализонь, и Амория, и Арбанасы, и Хорваты, и Боша, и Манкуп, и Кафа и инии мнозии земли, иже не сташа мужественней пошбоша и отечьство свое изгубиша н землю и государьство, и скитаются по чюжим странам беднл во истинну и странни, и много плача и слез достойно, укоряема н повоошаеми и оплеваеми, яко не мужествензии… Тако ми бога видех своима очима грешнима великих государь, избегших от Турков со имением и скитающиеся яко странни и смерти у бога просящих яко мздовъздаяния от таковыя беды».164 Ясно, кажется, что «избегшие от турков» и «смерти у бога просящие» родственники византийских императоров не могли упрочить блеск русских государей и что не на родстве с ними основывалась величественная идеология Русского государства. >2 Идею «греческого наследия» внушали русскому правительству не только западные державы. Сами греки, часто приезжавшие на Русь после падения Константинополя, греческие церковные власти, обращавшиеся на Русь за материальной поддержкой, проводили в своих домогательствах ту же «греческую идею». Суть ее в общих чертах заключалась в том, что с гибелью императорской власти в Византии единственным защитником православия и греков остается московский великий князь, к которому и должны были перейти все права и обязанности императора второго Рима — Византии. Греки — турецкие послы всячески стремились расстроить мирные отношения русских с Турцией; так было при султане Селиме и Сулеймане Великолепном. Особенно известен был этой своей изменнической по отношению к Турции политикой турецкий посол, грек по происхождению, Скиндер. Русские требовали смены Скиндера, но греческая партия была сильна в Турции: Скиндер оставался на своем посту и сыграл исключительную роль в провале идеи союза, что подтвердилось после его смены в Москве в 1529 г. Максим Грек систематически проводил идею освобождения Греции военной силой Русского государства. Он побуждал великого князя тем, что «бог грекам от отеческих престол наследника покажет»,165 т. е. тою же мыслью о правах московских князей на константинопольское наследство. Не чужда была той же идеи и среда русского духовенства, издавна воспитанная в политических представлениях византинизма. Именно в этой среде, близкой к грекам, зрела с конца XV в. мистическая теория движущегося Рима. Эта теория, возникшая на почве византийской теории всемирной супрематии императора второго Рима (Византии), пыталась перенести на московских государей византийские представления об императорской власти и рассматривала великих князей московских как законных и единственных наследников императоров Вечного Рима. Суть этой теории сводилась к следующему: в мире существует только одно христианское богоизбранное государство, которое не может пасть до скончания века — Вечный Рим. Но Рим этой теории — не неподвижный Рим, связанный с определенной территорией. Первый Рим пал, уклонившись в нечестие, потеряв чистоту христианской религии; второй Рим — Византия, примкнув в Флорентийской унии к первому, был завоеван турками. Отсюда родилась мысль, что Вечный Рим живет в каком-то новом государстве, оставшемся верным православию. И его искали то в Твери,166 то в Новгороде и, наконец, в Москве, необычайно быстрый рост которой совпал по времени с гибелью Византии. Естественно, что вся всемирно-исключительная роль, которая отводилась в Византии императору второго Рима как защитнику церкви и главе всех христиан, переходила теперь, с падением второго Рима, к главе третьего Рима — великому князю московскому. Эту теорию неоднократно внушали Василию III представители церкви. Дважды ее изложил в своих посланиях к Василию III старец Елеазарова монастыря Филофей, который, соответственно обычному титулу византийских, императоров «святой», называет Василия III167 «освященная глава»168 и применяет к нему другие обычные титулы византийского императора: «браздодержатель святых божиих церквей», «святыя православныя христианскыя веры содержатель» и др. Видя в Василии III главу всех ромеев, Филофей пишет ему: «един ты во всей поднебесной христианом царь»;169 а в другом послании: «един [есть] православный русский царь во всей поднебесной». Еще резче идея всемирной власти великого князя московского выражена Максимом Греком. Василия III Максим Грек называет «благочестивейший царю не токмо Русии, но всея подсолнечный».170 Однако теория, предложенная Филофеем Василию III, была резко отлична от творческой политической теории, направлявшей меч великокняжеской власти. В противоположность наименованию московских великих князей «едиными государями во всей подсолнечной», официальная терминология точно и определенно называла их великими князьями (или царями) «всея Руси». «Блестящее марево всемирной власти», которое пытались открыть перед московскими государями в заманчивой дали сторонники теории «Москва — третий Рим», никогда не прельщало московское правительство, неуклонно стремившееся к единой близкой и конкретной цели воссоединения «всея Руси».171 Русские великие князья упорно настаивали на своих извечных правах на царство и не желали принимать свой царский авторитет из Византии, позорно утратившей свою независимость. Не по наследству, не по милости греков получили русские монархи царский титул. Русские князья «изначала государи на своей земле». Эти идеи проводятся во всех официальных документах XV–XVI вв. в дипломатической переписке, посланиях, завещаниях, официальных речах и соборных постановлениях. Не случайно Иван Грозный говорил Поссевину: «Мы верим не в греков, а в Христа; мы получили христианскую веру при начале христианской церкви, когда Андрей, брат апостола Петра, пришел в эти страны, чтобы пройти в Рим, таким образом мы на Москве приняли христианскую веру, в то же самое время как вы в Италии, и с тех пор доселе соблюдали ее ненарушимою».172 Официальная литература московского правительства осталась чужда теории третьего Рима, как осталась она чужда и идее византийского наследства через Софию Палеолог. Мечта о Москве — третьем Риме никогда не была движущей силой московской дипломатии. Недаром Максим Грек упрекал русских в том, что они только «своих си ищут, а не яже вышняго».173 Особенно резкие различия в воззрениях греков и русских на значение царской власти сказались в придворных обрядах, выражавших несходные представления о власти обеих стран. Русские великие князья не назывались «святыми», они не принимали участия в богослужении в качестве духовных лиц, они допускали, чтобы во время обряда венчания на царство рядом с ними сидел митрополит, а впоследствии патриарх. Между тем, в Византии императору троекратно возглашалось «свят» во время обряда венчания, он занимал определенное место в богослужении, как духовное лицо, и в качестве такового благословлял народ и кадил в церкви. Он считался выше патриарха, стоявшего при нем во время обряда венчания. В византийском обряде не было обмена речами между иерархом и монархом. Между тем, в русском обряде венчания митрополит (а впоследствии патриарх) и государь обменивались речами, содержание которых знаменательно: после возглашения клиром многолетия венчанному государю митрополит (или патриарх) поучали царя «о полезных» — об обязанностях царя к Богу, к церкви, к царской власти и по отношению к народу. >3 В течение всего XIV и XV вв. для всех русских людей прекращение татарской зависимости и крепкое противоборство татарам были заветным желанием. В договорных грамотах между собой и в княжеских завещаниях, начиная с Дмитрия Донского, постоянно читалось: «переменит бог Орду», или татар.174 Летописи свидетельствуют, что когда Иван III колебался в решимости бороться с Ахматом (1480), мать и дядя великого князя, митрополит и все бояре «молиша его великим молением, чтобы стоял крепко за православное христианство против бесерменству».175 Уничтожение Иваном III зависимости от татар было тем грандиозным и долгожданным событием, с которым связан рост политической теории Русского государства. Сознание собственного достоинства, независимости от какой-либо земной власти и равноправия всем великим державам мира глубоко проникает в дипломатическую практику и политическую теорию русской монархии. Именно после прекращения зависимости от Орды (1480), а не после брака с Софьей Палеолог, начинает Иван III употреблять титул царя в международных отношениях с Любеком, Нарвою, Ревелем и магистром Ливонии.176 Послу германского императора Николаю Поппелю, вторично явившемуся в Москву в 1489 г. с предложением королевского титула, Иван III велел ответить: «мы божиею милостью государи на своей земле изначала, от первых своих прародителей, а поставление имеем от бога, чтобы нам дал бог и нашим детям и до века в том быти, как есмя ныне государи на своей земле, а поставления, как есмя наперед сего не хотели ни от кого, так и ныне не хотим».177 Перед иностранными властителями предстал государь, полный сознанием достоинства своей страны. Именно с года прекращения татарской зависимости растет пышность церемониала московского, появляются новые придворные должности,178 новый посольский обряд. Растет и забота Ивана III о том, чтобы русские послы ни в чем не роняли достоинства Русского государства. Послы Ивана III Плещеев, Голохвостов, Кутузов держат себя при константинопольском дворе не по-азиатски, не становятся на колени перед султаном, и султан разрешает им вести себя так, в то время когда другие европейские послы вынуждены преклонять колена, подвергаются оскорблениям и побоям. Ревниво оберегая честь Русского государства, Иван III внимательно следит за полным равенством отношений с другими европейскими государствами и оказывает иноземным послам такой же прием, какой оказывался русским послам при дворах иноземных государей. Так создавался новый посольский обряд, основанный не на заимствованиях из Византии, а на дипломатической практике. Дипломатические отношения России с западно-европейскими государствами развивались в тесной связи с политической теорией Русского государства. Отсюда под влиянием живых потребностей государственного строительства создается теория исконного величия России и ее правящей династии. Московские дипломаты тонко учитывают ренессансный интерес Западной Европы к античности, сказавшийся не только в искусстве и литературе, но и в политике. Они создают теорию родства московских великих князей с императорами древнего Рима, теорию, подчеркнувшую древность и княжеского рода и управляемой им страны. Отсылая Юрия Грека послом к «цесарю», Иван III дал ему наказ, в случае, если от «цесаря» последует предложение выдать дочь Ивана III за племянника «цесаря», отвечать отказом, так как это не соответствовало достоинству московского государя: «во всех землях то ведомо, а надеемся, что и вам ведомо, что государь наш, великий государь, уроженый изначала от своих прародителей; а и наперед того от давних лет прародители его по изначальству были в приятельстве и любви с передними Римскими цари, которые Рим отдали папе, а сами царствовали в Византии».179 Историческая легитимация власти, долженствовавшая утвердить царское достоинство московских государей, была предпринята в весьма широких масштабах. При том же Иване III было предпринято и создание официальной родословной московских великих князей. Эта родословная, оформленная в «Сказание о князех Владимирских», представляет собою родословную роспись всех известных в истории царей и властодержцев. Она начинается с рассказа о разделе земли между потомками Ноя, продолжается перечнем великих властителей, центральное место в котором занимают сведения об императоре Августе, к которому в средние века и, в особенности, в начале эпохи Возрождения все европейские владетельные роды возводили свое происхождение. Чтобы высоко поднять авторитет московских великих князей, «Сказание» также говорит об их родстве императору Августу, через его брата Пруса, которого Август посадил управлять на побережье Вислы. По имени этого Пруса земля на Висле, как известно издревле населенная славянскими и литовскими племенами, стала называться «Прусская земля». Сюда к племени пруссов, по совету Гостомысла, пришли послы новгородцев искать себе князя. Здесь они нашли Рюрика «суще от рода римска цесаря Августа», положившего затем основу династии русских князей. Заканчивалось «Сказание» рассказом об отвоевании знаков царского достоинства Владимиром Всеволодовичем у Константина Мономаха. После победоносного похода Владимира Всеволодовича во Фракию, побежденный Константин Мономах прислал ему дары — крест «от самого животворящего древа, на нем же распятся владыка Христос», «венец царский», «крабицу сердоликову, из нее же Август кесар веселяшеся», ожерелье, «иже на плещу свою ношаше», и др. «И с того времени, — сообщало «Сказание», — князь великий Владимир Всеволодович наречеся Мономах, царь великие России. И оттоле и доныне тем царским венцом венчаются великие князи владимирские, егда ставятся на великое княжение российское».180 Итак, согласно «Сказанию», московские великие князья ведут свое происхождение от того же римского императора Августа, от которого вели свое происхождение и главнейшие европейские царствующие дома. Русские князья получили свое царское достоинство не по наследству из Византии после ее падения в 1453 г.: они — исконные «государи на своей земле», и их царское происхождение восходит еще ко временам античности. Царские регалии, всегда по праву принадлежавшие русским князьям, возвращены им Владимиром Мономахом силою оружия. Таким образом, эта теория всячески подчеркивала исконное, а не приносное со стороны право русских князей на царский титул, древнюсть и достоинство их рода. В отличие от теории «Москва — третий Рим», не вышедшей за пределы церковных кругов по преимуществу, фантастическая генеалогия русских князей и рассказ о происхождении царского достоинства великих князей от Владимира I и Владимира Мономаха имели широкое распространение в дипломатической практике XVI в. Успех этих идей развивается по мере того, как усложняются иностранные сношения России, по мере дипломатических встреч и посольств к иноземным государям, перед которыми московские великие князья никогда не хотели казаться худородными. Сведениями о родстве великих князей и о венчании Владимира Мономаха полны все официальные памятники XVI в.: Четьи-Минеи митрополита Макария (под 20 сентября), Степенная книга, Воскресенская летопись, Казанский летописец, Царственный летописец и т. д. Повесть о Мономаховых регалиях была вырезана на дверцах царского места в Успенском соборе (1551). Генеалогию русских князей переводят на латинский язык, явно предназначая ее для распространения заграницей. Ссылками на нее пестрят дипломатические памятники XVI в. >4 Были и особые причины, заставлявшие русское правительство с особенною настойчивостью возводить принятие царского титула ко временам Владимира I и Владимира Мономаха. Почти половина русских земель принадлежала в XVI в. Польско-Литовскому государству. Древнейшие русские города — Киев, Чернигов, Полоцк, Смоленск — находились вне русских пределов. Официальная правительственная теория Русского государства выросла в значительной мере из потребностей окончательного объединения Русского государства, присоединения к нему земель, когда-то принадлежавших «прародителям» московских государей — Владимиру I и Владимиру Мономаху. Согласно официальной правительственной теории XVI в., не признававшейся поляками, московские великие князья были наследниками киевских, а Москва выступала в ней наследницей Киева — «вторым Киевом». Под знаком этой борьбы за киевское наследство проходят все дипломатические отношения Русского государства с Польско-Литовским. Пропагандируя свои права на наследство Владимира Мономаха, московские великие князья требовали тем самым признания себя боговенчанными монархами «всея Руси», а следовательно, и тех исконно русских земель, которые находились еще под властью Польско-Литовского королевства. Этим объясняются настойчивость, с которой добивалась московская дипломатия признания русской правительственной теории, и упорство Польско-Литовского государства в отказе признать право московских великих князей на царский титул. Как видно из грамоты папы Сикста IV, написанной в 1484 г. польскому королю, в Польше серьезно опасались, чтобы папа не дал Ивану III титула императора или короля «всея России» («…Imperialem sive regalem dignitatem in, tota Ruthenica natione…»), что явилось бы санкцией на собирание московским государем русских земель.181 В грамоте 1493 г. к литовскому великому князю Александру Иван III впервые в своих сношениях с Литвою назвал себя государем «всея Русии» и велел своему послу Дмитрию Загряжскому титуловать себя так во всех речах к литовскому князю. В случае вопросов о том, почему Иван III титулует себя государем «всея Русии», когда ни он, ни кто-либо из его предков не именовали себя так в сношениях с Литвою, Загряжскому наказано было отвечать: «государь мой со мною так приказал, а кто хочет то ведати, и он поедь на Москву, там ему про то скажут».182 Во второй половине XVI в. уверенность московского правительства в праве на киевское наследство настолько возросла, что московским послам не приходилось более зазывать к себе на Москву иностранных дипломатов для объяснений. Отправляя в 1549 г. послов в Литву для присутствия при обряде крестного целования короля на перемирных грамотах, Иван Грозный наказал им передать королю: «милостию бога вседержителя и родитель наших благословением, на своем государстве царем есмя венчались прежде бывшим венчанием прародителя нашего царя и великого князя Владимера Мономаха».183 В следующем 1550 г., отправляя к королю посла Якова Остафьева, Иван IV дал ему подробный наказ. На вопрос короля о титуловании Остафьев должен был отвечать: «наш государь учинился на царстве по прежнему обычаю, как прародитель его великий князь Владимер Манамах венчан на царство Русское, коли ходил ратью на царя греческого Костянтина Манамаха, и царь Костянтин Манамах тогды прародителю государя нашего, великому князю Володимеру, добил челом и прислал к нему дары, венец царьский и диядиму, с митрополитом ефесским кир [господин] Неофитом, и иные дары многие царьские прислал, и на царство митрополит Неофит венчал, и от [того] времени царь и великий князь Владимер Манамах; и государя нашего ныне венчал на царство Русское тем же венцом отец его Макарей митрополит, занже ныне землею Русскою владеет государь наш один».184 В 1554 г. в наказе послам — боярину Василию Юрьевичу, казначею Федору Сукину и дьяку Ивану Бухарину — снова стояли требование признания царского титула и подробное обоснование этих требований в виде повести о Мономаховых регалиях. Еще раз в 1554 г., отправляя посольство к королю с извещением о завоевании Астраханского царства, Иван IV наказал напомнить королю, что мир между ними возможен только в случае признания его царского титула.185 Снова было наказано послу говорить, что предок царя, Владимир Мономах, венчался на царство, и царь венчался, следуя его примеру. Теория царского титула еще раз выступает в переговорах 1555 г.,186 затем в переговорах 1556 г.187 и т. д. Не было переговоров с Польско-Литовским государством, в которых не возник бы вопрос о царском титуловании, в которых русские не ссылались бы на родство своих государей с Августом кесарем и на царское венчание Владимира Мономаха. Споры по этому вопросу продолжались при Федоре Иоанновиче, Борисе Годунове, Василии Шуйском, Михаиле Федоровиче. В искусстве и литературе конца XV — начала XVI вв. мы найдем все те три составляющие элемента, которые определяли собою и творческую и политическую идеологию Русского государства: широкий учет западно-европейского окружения, подчинение целого в первую очередь общенациональным интересам и постепенное выявление народных начал русской культуры. >5 Идеология Русского государства, его внешняя и внутренняя политика отложились резким отпечатком на внешнем облике Москвы, отныне столичного города большого европейского государства. В своих заботах о внешнем благоустройстве Москвы, московские великие князья стремятся придать ей национальный облик, воплотить в ней национальные идеалы красоты. В отличие от первых строителей Киева, стремившихся соперничать с Константинополем, как в планировке, так и в устройстве отдельных зданий (София в Константинополе и в Киеве, Золотые ворота в Константинополе и в Киеве и др.), Москва организуется как русский город, его строительство учитывает по преимуществу русские традиции. Конец XV в. отмечен объединением соперничавших между собой русских архитектурных школ. Объединительной политике московских великих князей и объединительной политике московских летописцев, соединивших в грандиозных сводах областное русское летописание, соответствуют объединительные тенденции в области московского искусства. В грандиозней строительной деятельности Москвы приняли участие зодчие из Пскова, Новгорода, Твери, Владимиро-Суздальского княжества. Кроме зодчих русских строительных школ, Москва также приглашает зодчих наиболее передовой в архитектурном отношении страны тогдашней Европы — Италии. В Москву приезжает бостонский архитектор и военный инженер Аристотель Фиораванти, затем Антон Фрязин, два Алевиза, Марко Руффо, Пьетро Антонио, Солар, Вон Фрязин и др. В Москве сосредоточивается обширный круг архитекторов эпохи Возрождения. Все эти архитекторы работают по созданию Московского Кремля. Но планировка Кремля была основана не на итальянских, а на чисто русских архитектурных принципах. Ансамбль Кремля по-русски строился открыто во внешнее пространство на крутом берегу р. Москвы. Здания, построенные москвичами, итальянцами, псковичами, стояли рядом, играя контрастирующими формами, группируясь по живописному принципу, чуждому ренессансной ясности соотношений. Знаменательно, что и болонец Аристотель Фиораванти и миланец Алевиз Новый подпали в Москве под мощное влияние русского искусства и сохранили в своих постройках лишь немногие новые для Руси архитектурные приемы. Выстроенный Аристотелем Фиораванти в Московском Кремле Успенский собор (1475–1479) развивал формы предшествовавшей ему русской архитектуры. Прежде чем приступить к постройке Успенского собора, Аристотель совершил обширное путешествие, по русским городам; в Успенском кремлевском соборе сильно отразилось воздействие архитектуры Успенского собора во Владимире и Софии новгородской. Русские формы Успенского собора, связь их с формами владимирского Успенского собора и Софии новгородской не случайны. Иван III строил в Москве центральную святыню объединенного Русского государства. Успенский собор должен был символизировать собою русскую церковь вообще так же, как София константинопольская — греческую, как храм Воскресения: в Иерусалиме — иерусалимскую и т. д. Здесь в Успенском соборе хранилась главная святыня Русского государства — покровительница Москвы икона Владимирской Божьей Матери. Здесь в Успенском соборе происходило венчание на царство московских государей и хиротония епископов всех областей; здесь при гробе митрополита Петра произносилась епископская присяга, и т. д. Иосиф Волоцкий называет Успенский собор «земным небом, сияющим, как великое солнце посреди Русской земли».188 Митрополит Филипп говорит об Успенском соборе, что он, как солнце, сияет благочестием «в всех рускых землях».189 В таких же выражениях говорит об Успенском соборе старец Филофей в своем послании Василию III, и др. Построение нового Успенского собора было отмечено составлением в 1479 г. грандиозного летописного свода, как новая эра в русской истории. Свод этот подробно описывает в последних своих частях новгородский поход Ивана III и присоединение Новгорода; он заканчивался описанием торжественного открытия нового центра вселенского православия. Исходя из идеи Успенского собора как религиозного центра «всея Руси», создаются и все окружающие его постройки. Успенский собор обстраивается целым «кустом» церквей и зданий, в построении которых принимают участие различные архитектурные школы. На месте обветшалых укреплений Дмитрия Донского возводятся новые стены и башни Московского Кремля. Стены были построены по последнему слову фортификационного искусства, сделавшего в XV в. большой шаг вперед в связи с изобретением пороха и огнестрельного оружия. В XV — начале XVI вв. Московский Кремль был сильнейшей крепостью Европы, уступая лишь Миланскому замку, законченному в 1459 г. Своими неприступными укреплениями он как бы символизировал силу и мощь Русского государства. Пышное величие и церемониальная торжественность Московского Кремля находятся в неразрывной связи с идеями государственной власти времени Ивана III. Черты Московского Кремля отразились в стенах Нижегородского Кремля и в укреплениях Серпухова, Тулы, Зарайска в многих других русских городов. Москва, став политическим центром объединенных ею областей, распространяет свое влияние и на искусство периферии. Однако заботы об общем национальном русском облике Москвы этим не ограничились. Национальные задачи, которые стояли перед Русским государством, выставили перед архитектурой проблему переноса в каменное зодчество форм народного деревянного зодчества. Русская архитектура XVI в. идет по пути создания каменного шатрового храма. Простой образец такого храма заключался в деревянной церкви, в которой сплошь и рядом восьмигранный сруб увенчивался высокою кровлею с одной главой наверху. Этот новый тип каменного храма, заимствовавший свои формы из народного деревянного зодчества, постепенно усложняясь, достигает необыкновенной декоративности, отвечавшей народным вкусам. Первые опыты переноса форм деревянной архитектуры в каменную относятся еще к очень давнему времени. Их, повидимому, можно было указать и в домонгольской Руси. Они были и в старой Москве (церковь Ивана Лествичника с колоколами наверху, 1329), и в Новгороде (круглая, «яко столп», церковь в Хутыне, 1445), и в Александровской слободе и др. Однако только в XVI в. это проникновение в каменную архитектуру форм народного деревянного зодчества приобретает широкие размеры и идейную целеустремленность обращения к народным началам. Каменный шатровый храм Вознесения в селе Коломенском, относящийся к 1532 г., — в полной мере русская, народная во всех своих формах архитектура. Храм произвел на современников сильнейшее впечатление. Освящение его было отпраздновано Василием III необычайно торжественно. Летопись отметила его красоту и «величество»: «допрежь такой не было на Руси». Высшее достижение этого народного шатрового стиля XVI в. — собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве (1550–1560), выстроенный русскими зодчими Посником и Бармой, как памятник покорения Казани. Народные формы его архитектуры не были случайностью в строительной практике Русского государства. Иван IV строил собор, «сотворив совет благ» с инициатором ряда культурных начинаний XVI в. — митрополитом Макарием. Очевидно, авторитетное мнение последнего было решающим в принятии нового типа храма. Собор представляет собой группу из 9 «столпов», частью увенчанных шатрами, и рассчитан не столько на пластическое, сколько на чисто живописное впечатление, требовавшее от зодчих особенно тонкого художественного чутья. Храм Василия Блаженного — образец необыкновенной высоты русского строительного искусства, особенно если принять во внимание, что в эпоху его создания ни в России, ни на Западе не были еще известны основы математического расчета устойчивости архитектурных сооружений. Построению каменного собора Василия Блаженного предшествовала (за 9 месяцев) постройка деревянной церкви его на том же месте.190 На этой своеобразной «модели» практически проверялось, очевидно, общее художественное впечатление постройки, силуэт шатров и глав. Построение этой деревянной церкви, за 9 месяцев до заложения каменного храма, отчетливо доказывает гипотезу, выдвинутую еще И. Забелиным, о происхождении форм храма Василия Блаженного из народного деревянного зодчества.191 Итак, и в политике, и в литературе, и в искусстве XVI в. русские стремятся утвердить свое национальное содержание, свои национальные интересы. Россия снова вошла в среду европейских государств как равноправное государство. >VIII „ЗЕМЛЯ“-НАРОД И ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ НАЧАЛА XVII в. >Эпоха крестьянской войны и борьбы с польско-шведской интервенцией представляет собою одну из самых важных страниц русской истории по исключительной сложности и глубине влияния на всю последующую русскую жизнь. Борьба с самозванцами и польско-шведскими интервентами приняла общенародный характер и высоко подняла чувство гражданской ответственности каждого за судьбу родины. >1 Активное участие всего русского народа в обороне родины не раз спасало Русь перед лицом внешней опасности. В 1016 г. население Новгорода потребовало от Ярослава I Владимировича, продолжения борьбы с польским королем Болеславом и изменником Святополком. Новгородцы порубили ладьи, в которых Ярослав пытался бежать за море, и собрали деньги для организации нового войска. В 1068 г. отказ великого князя киевского Святослава раздать оружие населению для борьбы с половцами вызвал восстание киевлян. В 1382 г. покинутые своим князем жители Москвы сами организовали оборону своего города от войск Тохтамыша. Случаев, при которых народ активно брал в свои руки организацию обороны, — не мало, но только в период национальной борьбы начала XVII в. было осознано первостепенное значение народа. Значение народа и, в частности, крестьянства в общей жизни страны получило уже отчетливое отражение в публицистических сочинениях XVI в., поразительных своим широким и свободным обсуждением самых основ государственного устройства. Забота об облегчении тягот крестьянства видна в сочинениях монахов-«нестяжателей», в произведениях Максима Грека, в известной «Беседе Сергия и Германа Валаамских чудотворцев» и, в особенности, в исключительном по оригинальности взглядов сочинении середины XVI в. — «Благохотящим царем Правительница». Здесь с редкой последовательностью проводилась мысль о том, что земледельцы — основа государства, что жизнь страны, ее экономическое и военное могущество целиком зиждутся на труде мирных пахарей. Труд ратаев дает хлеб, который приносится жертвой Богу в таинстве Евхаристии и питает всех от царя и до простых людей. Автор «Правительницы» всячески подчеркивал, что именно земледелие и крестьянство являются в России основой государственного благосостояния. Поэтому следует облегчить крестьянский труд и сообразовать с интересами земледельцев государственное управление. Знаменательно, что многочисленные произведения конца XV–XVI вв. открыто высказываются против рабства, принижающего гражданские и воинские добродетели населения (Иван Пересветов), противоречащего основам христианского человеколюбия. Нередко в публицистических сочинениях XVI в. проводится мысль о естественном равенстве всех перед Богом. Широко задуманные и далеко идущие публицистические сочинения XVI в., ясно сознающие необходимость для государства свободного и граждански сознательного населения, во многих отношениях были общи западно-европейской политической философии XVI в. >2 Идеи публицистических сочинений XVI в. не были пустыми размышлениями досужих книжников: они отражали реальную силу демократических слоев народа, его возросшую гражданскую сознательность и политическую активность. Освободительная борьба начала XVII в. ясно обнаружила глубокое развитие во всех слоях населения чувства гражданского долга, сознание личной ответственности каждого за судьбу всей Русской земли в целом. Жители городов и сельское население — нижегородцы, смольняне, ярославцы, владимирцы, москвичи и т. д. — с готовностью соглашались на всякие личные жертвы ради спасения родины. В своем знаменитом приговоре нижегородцы писали: «Стоять за истину всем безызменно, к начальникам быть во всем послушными и покорливыми и не противиться им ни в чем, на жалованье ратным людям деньги давать, а денег не достанет — отбирать не только имущество, а и дворы и жен и детей закладывать, продавать, а ратным людям давать, чтобы ратным людям скудости не было». На этом нижегородцы дали Богу души свои. Поднятое в Нижнем национальное движение сплотило русских людей. В национальной борьбе начала XVII в. оформилась идея суверенных прав народа в организации своей государственности, всей политической жизни страны и в выборе монарха. В тревожных обстоятельствах борьбы с самозванщиной и польско-шведскими интервентами для врагов и своих становилось ясным, что только тот возьмет верх, кто будет иметь на своей стороне сочувствие большинства русского народа. Отсюда стремление интервентов во что бы то ни стало склонить народ на свою сторону, обмануть его ложными договорами, громкими обещаниями или самозванцами. Отсюда же исключительное значение идеологической борьбы с самозванщиной и интервенцией. Бесчисленные грамоты, послания, обращения, исторические сочинения, политические памфлеты, сказания разъясняют смысл происходящего. Речами поднимает Авраамий Палицын казаков на помощь ополчению. Речами поднимает Минин и протопоп Савва нижегородцев на общенародное дело борьбы с интервенцией. Города сносятся грамотами, призывают друг друга «стояти заодно», «ожить и умереть вместе». С призывом к восстанию обращаются к москвичам жители осажденного польскими интервентами Смоленска. Смольняне просили москвичей переписать их грамоту и послать ее в Новгород, в Вологду, в Нижний. Москвичи и сами писали всем русским городам, призывая итти на выручку столицы. Жители Устюга писали в Пермь, в Новгород, в Холмогоры, на Вычегду, в Сольвычегодск. Нижегородцы писали вологжанам, ярославцам и т. д. Грамоты патриарха Гермогена и троице-сергиевских старцев читались в церквах. Вся страна была охвачена единым патриотическим порывом. Народ ясно осознал себя главной силой в определении исторических судеб родины. В исторических произведениях первых годов XVII в., в бесчисленных грамотах, посланиях и приговорах, всё более и более утверждается мысль о том, что «хранитель» целости и независимости «Московского государства» — сам народ, а не бояре и цари. Мысль эта, встречаемая еще в летописи, только в исторических произведениях о событиях «всеконечного разорения» — «Смуты» первых лет XVII в. — получает законченное выражение. Понятие «земли» как верховной власти ясно выступает уже в «приговоре» 30 июня 1611 г., низводившем «правительство» (Трубецкого, Ляпунова и Заруцкого) в положение подчиненной исполнительной власти, ограниченной в своих действиях ратным советом «всей земли». «Правительство» получало за свой труд жалование и в его руководство были даны точные указания. Реальные разногласия и антагонизм классов, выяснившиеся в земском приговоре 30 июня и в последующих земских соборах начала XVII в., не умаляют значения самой проявившейся в них идеи «всей земли». Народ — разумная среда, через которую проявляется воля божья. «Земля» имеет право избрать не только временное управление, но и «помазанника божья» — царя. Мысль эта была решительною новостью в политической жизни Руси, где в бесчисленных династических спорах XI–XVI кв. прочно утвердилось представление о наследственной княжеской и царской власти. Всего несколько десятков лет назад Грозный жестоко издевался в своих грамотах над Стефаном Баторием, избранным на польский престол «по многомятежному человеческому хотению». В новых обстоятельствах начала XVII в. мысль об избрании царя «всею землею» уже не вызывала возражений во всех слоях общества. Значение воли народа как верховной силы в жизни «земли» ясно подчеркнуто даже в титулах новых деятелей. Пожарский носил титул «по избранию всех людей» или «по избранию всее земли Московского государства всяких чинов людей». Козьма Минин именовался «выборный человек всею землею». Вместо старой приказной власти, явилось выборное начало, явился выборный человек, действовавший от лица «всей земли». Насколько необходимым казалось одобрение «земли», показывает хотя бы то, что нижегородское ополчение еще на походе собирало выборных по городам, заботилось о соблюдении гласности и добивалось единодушия всей земли в своих общерусских начинаниях. Апрельская грамота Пожарского, отправленная по городам, приглашала поскорее прислать в Ярославль «изо всяких чинов людей человека по два». >3 Идея «всей земли» и сознание значения народа, демократических слоев населения в жизни государства резко отразились в общих концепциях московской историографии. Сознание исторической активности народа перерабатывало средневековые представления о силах, движущих историю. В исторические произведения начала XVII в. постепенно входит представление, что историческими судьбами Русской земли руководит не божественное предопределение, а сам народ. Это было огромным шагом вперед в исторических воззрениях начала XVII в. По обычным представлениям средневековья, скорая небесная кара постигала всякий грех. Исторические сочинения XI–XVI в. и русская летопись твердо держались той мысли, что всякое народное несчастье — нашествие врагов, голод, моровое поветрие и т. д. — было божественным наказанием за грехи людей, за их отступление от заветов религии. «Всеконечное разорение» первых лет XVII в. также рассматривалось авторами исторических сочинений о «Смуте», как казнь за грехи. Однако в определении этих грехов авторы начала XVII в. резко расходились со своими предшественниками, выражали новую точку зрения на исторический процесс. «Грехи» русских людей, вызвавшие самозванщину и интервенцию, с точки зрения авторов исторических работ начала XVII в., не были личными грехами отдельных людей, обычными нарушениями христианской нравственности. Внимание авторов привлекают грехи общественные, недостатки гражданственности и общественного самосознания. Благодаря этому, понятие «греха» как основной причины исторических несчастий переносилось из сферы идеальной в сферу реальную. «Грехи» становились реальными причинами общественных бедствий, и в этом авторы сочинений о «Смуте» приближались к новому историческому восприятию причинно-следственной связи событий. Большинство авторов, писавших о «Смуте», подробно останавливалось на тех общественных «грехах» русского общества, которые привели в начале XVII в. к установлению самозванщины и вторжению иноземцев, В описаниях этих «црехов» сказались те новые и повышенные требования, которые предъявило новое народное самосознание к гражданским добродетелям населения. В летописях XI–XVI вв. неоднократно выражались требования соблюдения национальных интересов. Но требования эти обычно были обращены к князьям, к духовенству, к боярам, к дружине. «Смута» впервые предъявила суровые требования к каждому члену общества без исключения. Сами по себе эти требования говорят о новом общественном идеале, воспитанном в годы жесточайшей национальной борьбы. Изобличая общественные пороки, приведшие к «всеконечному разорению», первые писатели о «Смуте» имели в виду повысить чувство гражданской ответственности населения. Дьяк Иван Тимофеев, составивший свой «Временник» около 1619 г., видит начало всех зол в нарушении коренных начал русской жизни и в усилившемся влиянии иноземцев. Правители преклоняли уши свои к «ложным шепотам», придавали значение доносам, вследствие чего люди были «страховиты», «изменчивы», «нестоятельны», «словопревратны», «по всему вертяхуся, яко коло [колесо]». Враги Руси воспользовались этой «превратностью» русских, чтобы наслать к ним «лжецарей». Один из главных общественных грехов русских заключался в том, что в наиболее важные исторические моменты они были безгласны, как рыбы. При всеобщем молчании и попустительстве Борис Годунов преступлением добился престола: «онемеша бо языки их и уста затвориша ото мзды; вся же чувства каша паче страхом ослабеша». Тимофеев особенно выделяет именно этот недостаток «мужественные крепости» — пассивное и раболепное «бессловесное молчание» перед сильными мира сего.192 Еще резче об этом недостатке гражданской смелости говорил в своем «Сказании» Авраамий Палицын. Он называет его — «всего мира безумным молчанием» и в этом «безумном молчании» видит основной общественный порок, повлекший за собой ослабление государства.193 Авторы единодушно говорят о недостатке согласия у русских. Из-за своего «несогласия» и гражданского «немужества», — пишет Тимофеев, — русские не только допустили убийство царевича Дмитрия, но затем «бессловесно» сносили мерзости и тгечестие ииославных. «Разность» эта придала крепость врагам Руси. Враги разорили ее и надругались над ее святынями.194 «Не чуждии земли нашей разорители, но мы сами ее потребители».195 В руках народа — его судьба. Как причину «Смуты», авторы выдвигают и социальную несправедливость, разорение бедных богатыми, взяточничество и неправосудие. Неправедно собранными богатствами не искупить греха: излишни заботы богатых о красоте церквей, если она создалась из граблений и посулов. Бог не принял этой жертвы, и неправедная церковная красота подверглась разграблению иноверных. Настоящий храм божий — сам народ: «Писано бо есть, яко „вы есте храм бога жива“… храм — не стены камяны и древяны, но народ верных…»,196 — говорит Авраамий Палщын, выражая характерную для своего времени мысль о единственной и абсолютной ценности народа. В самом народе — источник его бедствий и его освобождения от иноземного ига. В этом осознании значения народа в исторической жизни страны — пафос эпохи. Авраамий Палицын приводит многочисленные случаи мужественной борьбы русских с иноземными захватчиками. Живо и талантливо рассказывает он об освобождении Москвы и о героической защите Троице-Сергиевой лавры, давая в своем изложении многочисленные примеры народного героизма. Так, например, Авраамий Палицын рассказывает о том, как возмущенный изменой брата простой воин Даниил Селев заменил его собой в рядах бойцов и пал в бою. Таким образом, писатели первой четверти XVII в., изобличая общественные пороки, а с другой стороны, показывая героизм простых и малозаметных людей, создавали новые идеалы гражданского служения родине. Итак, эпоха национальной борьбы с самозванщиной и интервенцией отчетливо выдвинула значение народа («земли») в исторической жизни страны. Это значение народа сказалось непосредственно в ходе событий и было осознано исторически. >4 Насколько глубоко проникли в народ новые исторические представления, показывает «Новая повесть о преславном Российском государстве», написание которой отноштся либо к концу 1610 г., либо к самому началу 1611 г. Она сохранилась в единственном списке; ее автор — какой-то приказный — безвестен; название ее — позднейшее, приписанное чужою рукою сверху. Это прокламация, «подметное письмо», брошенное на улицах Москвы с призывом восстать и изгнать из Москвы гарнизон польских интервентов. «А сему бы есте письму верили без всякого су мнения», — обращается автор к москвичам. Он просит не «таить» его письмо, а распространять среди верных людей: «И кто сие письмо возмет и прочтет, и он бы его не таил, давал бы рассмотряючи и ведаючи своей братии православным христианом прочитати вкратце, который за православную веру умрети хотят, чтобы было ведомо, а не тайно». Изменникам, которые «со враги соединилися», — тем бы «есте отнюдь не сказывали и не давали прочитати».197 Письмо написано со страстной убежденностью, ясным, простым и народным языком, частью прозой, частью стихами.198 «Приидите, приидите православни. Сами видите, — обращается автор письма к москвичам, — какое гонение и утеснение воздвигалось на русских: «Всегда многим смертное посечение, Описав злодеяния польских интервентов, автор восклицает: «То ли вам не весть, Автор не жалеет слов для изобличения бояр-изменников и среди них боярина Салтыкова и думного дьяка Андронова. Но письмо — не простой призыв к восстанию. Оно подробно и разумно освещает создавшуюся в стране обстановку. Автор ставит в пример москвичам граждан осажденного Смоленска, мужеством своим прославивших себя не только в России, но и в Литве, и в Польше, и до самого Рима. «И хотят славне умрети, нежели бесчестне и горько жити».206 На краю государства смольняне храбро отбиваются от врагов, которые под Смоленском, как и здесь в Москве, «на сердцах наших стоят». Если бы не Смоленск, войско Сигизмунда давно было бы в Москве. Русские в Смоленске держат короля не за голову, не за руку, не за ногу, а за самое сердце его злонравное и жестокое. Как русские в Смоленске, так в Москве один против всех отбивается патриарх Гермоген. Как эпический герой, патриарх, «исполин безоружный», поражает врагов словом своим и движет народом, сам оставаясь непоколебимым и неодолимым препятствием для врагов. Если он умрет и народ сам не встанет на свою защиту, то погибнут государство и православие. Автор «письма» приводит своеобразную политическую философию. Восстание на врагов — это «подвиг» и «радение». Только вооруженное восстание может искупить грехи русских людей, за которые Вог покарал русских испытанием иноземного ига. Эта точка зрения исключительна по религиозной смелости. Автор говорит о том, что польские интервенты боятся восстания русских. Они действуют осторожно, стремясь прельстить русских ложным уважением к их святыням. Они стоят с мечом над головою русских людей, постепенно стягивая подкрепления; закрыли кремлевские ворота, оставив для русских только узкие двери, в которых стоит шум и визг, как будто бы давят мышей. Польские интервенты хотят властвовать в Москве, но не имеют достаточных сил. Между тем народ могуществен и велик, как море. В этом «великом и недержанном мори» боятся потонуть интервенты. Поэтому хитростью и лестью они сдерживают его возмущение: «Видя зде в мире колебание «Новая повесть о преславном Российском государстве» — одно из первых в русской литературе выступлений средних классов населения. Ее содержание знаменательно. Ни одно из литературных произведений, вышедших из посадской и приказной среды во второй половине XVII в., не заявляет с такой определенностью о силе и могуществе народного «моря». «Смута» произвела глубокие изменения в политических представлениях русского общества. В момент наибольшей опасности для Руси, когда, казалось, иноземцы прочно укрепились в Москве, когда от Русского государства сохранились лишь кое-какие «останки», когда, наконец, русские сознавали, что не было еще в мировой истории «таково наказания ни на едину монаршию, ниже на царства и княжения, еже случися над превысочайшею Россиею», — в этот момент «последние люди» поднялись на защиту родины. В политических потрясениях «великой разрухи» родилась твердая уверенность в силе народа, родились мысли о «земском деле», о «всей земле»; сознание верховного значения народа и его интересов в государственной жизни страны. Это новое политическое сознание, выросшее в ужасах «последнего разорения», когда низшие и средние классы сделали отчаянное усилие для спасения Руси, — явилось предвестием нового времени. >Комментарии id="c_1">1 Доклад на Съезде советских писателей 17 августа 1934 г. id="c_2">2 Изд. 3, Л., 1939, стр. 5. id="c_3">3 А. А. Шахматов. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908, стр. 226 и др. id="c_4">4 См. об этом: Д. И. Прозоровский. Новые разыскания о новгородских посадниках. СПб., 1892, стр. 3. id="c_5">5 Лаврентьевская летопись под 985 г. id="c_6">6 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 377. id="c_7">7 Там же, стр. 378. id="c_8">8 Всев. Миллер. Очерки русской народной словесности, т. II. 1910, стр. 1–31. id="c_9">9 Марков. Беломорские былины. М., 1901, №№ 50 и 80. id="c_10">10 Астахова. Былины Севера, т. I. М.-Л., 1938, № 15. id="c_11">11 А. В. Марков. Из истории русского былевого эпоса, вып. 1. 1905, стр. 30–66. id="c_12">12 Повесть временных лет под 1061 г. Мотив загадывания загадки с последующим убийством неудачного отгадчика и др. id="c_13">13 Здесь и далее, слова в цитатах, взятые в прямых скобках, принадлежат автору настоящей работы Д. С. Лихачеву. id="c_14">14 Провар — то количество меда, которое можно сварить за один раз, — очевидно несколько ведер. id="c_15">15 Ипатьевская летопись под 964 г. id="c_16">16 Шелковые ткани. id="c_17">17 Ипатьевская летопись под 970 г. id="c_18">18 Там же под 971 г. id="c_19">19 Там же под 1201 г. id="c_20">20 Лаврентьевская летопись под 945 г. id="c_21">21 Там же. id="c_22">22 См. его Historia V, 7. Migne SGr. 133 col., 569–581. id="c_23">23 Пл. Соколов. Русский архиерей из Византии. Киев, 1913, стр. 12–13. id="c_24">24 В. Г. Васильевский, Труды, т. I, стр. 304. id="c_25">25 Аналогично смотрел на болгар Василий Болгаробойца, отказавшийся видеть в них воюющую сторону и тысячами ослеплявший пленных болгар, как бунтовщиков. id="c_26">26 Мы не останавливаемся на спорной проблеме Охридского архиепископата, в данном случае для нас несущественной. См. об этом: М. Д. Приселков. Очерки по церковно-долитической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 1913, стр. 33 и сл. id="c_27">25 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 539 и сл. Мы пользуемся гипотетическим восстановлением свода у Шахматова. Однако к какому времени ни относить составление свода Ярослава и в каком объеме его ни восстанавливать, — общий характер свода от этого не меняется. id="c_28">28 М. Д. Приселков. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 1913, стр. 82. id="c_29">29 Там же, стр. 84. id="c_30">30 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940. стр. 26. id="c_31">31 М. Д. Приселков. Очерки…, стр. 82. id="c_32">32 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 553. id="c_33">33 Там же, стр. 556–557. id="c_34">34 Там же, стр. 562. id="c_35">35 Там же, стр. 577. id="c_36">36 Там же, стр. 546–547. id="c_37">37 Там же, стр. 578. id="c_38">38 Там же, стр. 542. id="c_39">39 Там же, стр. 550. id="c_40">40 Там же, стр. 547. id="c_41">41 Там же, стр. 563. id="c_42">42 Там же, стр. 564. id="c_43">43 Там же, стр. 583–584. id="c_44">44 Там же, стр. 583. id="c_45">45 Акад. Б. Д. Греков. Развитие исторических наук в СССР за 25 лет. Под знаменем марксизма, 1942, № 11–12. id="c_46">46 Памятники древне-русской церковно-учительной литературы, под ред. А. И. Пономарева, вып. I. СПб., 1894, стр. 59. id="c_47">47 Там же, стр. 59. id="c_48">48 С. П. Шевырев. История русской словесности, ч. 2. Изд. 2, М., 1860, стр. 26. id="c_49">49 Памятники…, стр. 63. id="c_50">50 Там же, стр. 62. id="c_51">51 И. Н. Жданов, Соч., т. I, стр. 80. id="c_52">52 Памятники. стр. 66. id="c_53">53 Общее оптимистическое жизнерадостное содержание «Слова», настроение торжества, повидимому, свидетельствуют о том, что «Слово» возникло до похода Владимира Ярославича 1043 г. id="c_54">54 М. Д. Приселков. Очерки…, стр. 66 и сл. id="c_55">55 А. А. Шахматов. Сборник статей в честь В. И. Ламанского, Ч. II. СПб., 1906, и рец. Шестакова, Журнал Мин. нар. просв., нов. серия, ч. XIII, 1908, январь. id="c_56">56 И. Н. Жданов, Соч., т. I, стр. 19. id="c_57">57 Памятники…, стр. 67. id="c_58">58 Там же. id="c_59">59 Там же, стр. 68 (исправляю в тексте опечатки издания. — Д. Л.). id="c_60">60 Там же, стр. 69. id="c_61">61 Там же, стр. 69. id="c_62">62 Там же, стр. 69–70. id="c_63">63 Там же, стр. 70. id="c_64">64 Там же. id="c_65">65 Там же, стр. 70. id="c_66">66 Там же. id="c_67">67 Там же, стр. 70. id="c_68">68 Там же. id="c_69">69 Там же, стр. 72. id="c_70">70 Там же, стр. 73. id="c_71">71 Там же, стр. 75. id="c_72">72 Там же, стр. 78. id="c_73">73 Первоначально считали, что «Слово» было направлено против иудейского учения. Мнение это опроверг акад. И. Н. Жданов (Соч., т. I, 1872; стр. 1–80). id="c_74">74 В. М. Истрин. Очерк истории древнерусской литературы; т. II. 1922, стр. 131. id="c_75">75 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 398 и сл. id="c_76">76 М. Д. Приселков. Очерки…, стр. 98. id="c_77">77 Памятники…, стр. 74. id="c_78">78 Там же. id="c_79">79 Д. В. Айналов и Е. Редин. Древние памятники искусства Киева, т. X. 1899, стр. 5. id="c_80">80 Памятники…, стр. 60. id="c_81">81 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 583. id="c_82">82 Памятники…, стр. 74. id="c_83">83 Д. В. Айналов и Е. Редин. Древние памятники…, т. X. 1899, стр. 39–40. id="c_84">84 Памятники…, стр. 65. id="c_85">85 Там же…, стр. 75. id="c_86">86 Памятники древней письменности, т. 81, стр. 25. См. об этом: Пл. Соколов. Русский архиерей из Византии. Киев, 1913, стр. 51. id="c_87">87 Акты и стар., I, № 78, стр. 128. id="c_88">88 См. выше в послании митрополита Феодосия 1464 г. id="c_89">89 Прибавления к творениям св. отец, т. II, стр. 255. id="c_90">90 Разыскания…, стр. 582. id="c_91">91 Акад. Н. К. Никольский. О древнерусском христианстве. Русская мысль, 1913, кн. 6, стр. 12. id="c_92">92 М. Д. Приселков. Борьба двух мировоззрений. Сб. «Россия и Запад», под ред. А. И. Заозерского. II, 1923. id="c_93">93 М. П. Петровский. Иларион, митрополит Киевский, и Доментиан, иеромонах хнландарский. Известия ОРЯС, 1908, кн. 4. id="c_94">94 История русской литературы, т. I. Изд. Инст. литер. Акад. Наук СССР, М.—Л., 1940, стр. 271 (гипотеза покойного В. Л. Комаровича). id="c_95">95 Лаврентьевская летопись под 1054 г. id="c_96">96 Ср. в «Слове о полку Игореве» — «земля незнаема» — половецкая степь. id="c_97">97 Лаврентьевская летопись под 1093 г. id="c_98">98 Там же, введение. id="c_99">99 Т. е. наваром из кислой травы, которым мылись в бане. id="c_100">100 Лаврентьевская летопись, введение. id="c_101">101 Там же под 992 г. id="c_102">102 Там же под 1097 г. id="c_103">103 Там же. id="c_104">104 Там же. id="c_105">105 Ипатьевская летопись под 1097 г. id="c_106">106 Лаврентьевекая летопись под 1097 г id="c_107">107 Там же. id="c_108">108 Там же. id="c_109">109 Там же под 1096 г. id="c_110">110 Там же под 1095 г. id="c_111">111 Акад. Б. Д. Греков. Киевская Русь. Изд. 3, M.-Л., 1939, стр. 277. id="c_112">112 Н. И. Брунов. К вопросу о самостоятельных чертах русской архитектуры X — ХII вв. Сб. «Русская архитектура», 1940. id="c_113">113 История русской литературы, т. I. Изд. Инст. литер. Акад. Наук СССР, М. — Л., 1941, стр. 212 и сл. id="c_114">114 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 44. id="c_115">115 Новгородская летопись по Синод. сп., изд. 1888 г., стр. 145. id="c_116">116 Там же, стр. 160. id="c_117">117 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 40. id="c_118">118 А. Е. Пресняков. Лекции по русской истории, т. I. 1938, стр. 239. id="c_119">119 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 64. id="c_120">120 А. А. Шахматов. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв., Л., 1938, стр. 131. id="c_121">121 Предлагаемая ниже характеристика черниговского летописца несколько расходится с построением истории русского летописания XII в. в работах А. А. Шахматова и М. Д. Приселкова. id="c_122">122 Ипатьевская летопись под 1185 г. id="c_123">123 Акад. А. С. Орлов. Слово о полку Игореве. Л., 1938, стр. 48. id="c_124">124 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXII, М.—Л., 1931, стр. 48. id="c_125">125 «Кощей» (от тюркского «кошчи») — конюх, обозный, раб, пленник. «Чага» (от арабского asaha) — невольница. «Ногата» и «резань» — древнерусские единицы. id="c_126">126 А. Рублев умер в 1427 или 1430 г., в возрасте около 60–70 лет. Следовательно, надо считать, что он родился в 60-х — 70-х годах XIV в. id="c_127">127 Н. Каринский. Русская надпись в люблинском тюремном костеле. Известия Археологической комиссии, вып. 55, Пгр., 1914; акад. А. Соболевский. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. Спб., 1910; он же. Русские фрески в старой Польше. М., 1916; F. Kopera. O malarstwie bizantyskiem w Polsce. Polski Muzeum, Z. VIII, Krakow. id="c_128">128 К. Иречек. История болгар. Одесса, 1878, стр. 984–986. id="c_129">129 И. Ягич. Исследования но русскому языку, т. I, стр. 396 и др. id="c_130">130 А. А. Шахматов. Общерусские летописные своды XIV и XV веков. Журнал Мин. нар. просв., 1900, т. IX, стр. 91. id="c_131">131 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 113 и сл. id="c_132">132 Датировка М. Д. Приселкова (там же, стр. 128 и сл.). id="c_133">133 См. об этом подробно: А. А. Шахматов. Общерусские летописные своды XIV и XV веков. Журнал Мин. нар. проев., 1901, т. XI, стр. 73–77. id="c_134">134 Характер этой перемены вскрыт В. Л. Комаровичем в главе «Московские летописи» II тома академической «Истории русской литературы». М.—Л., 1945. id="c_135">135 См.: Летописец Рогожский. Полное Собрание русских летописей [ПСРЛ], т. XV, изд. 2, вып. 1, 1922, стр. 144 и сл.; Симеоновская летопись. ПСРЛ, т. XVIII, 1913, стр. 131 и сл. id="c_136">136 Симеоновская летопись. ПСРЛ, т. XVIII, СПб., 1913, стр. 156. id="c_137">137 Там же, стр. 157. id="c_138">138 Там же, стр. 158. id="c_139">139 Там же, стр. 159. id="c_140">140 Проф. Н. Н. Воронин. Владимиро-суздальское наследие в русском зодчестве. Архитектура СССР, 1940, № 2; И. Грабарь. Андрей Рублев. Вопросы реставрации, вып. 1, стр. 65 и сл.; 0 росписях Успенского собора во Владимире, там же, стр. 22–33. id="c_141">141 Ср., например, в Симеоновской летописи, где татары названы половцами под 1378 г., а татарская степь — половецкой под 1380 г. и т. д. Ср. также Летописец Переяславля Суздальского, где печенеги и половцы неоднократно называются татарами. Очевидно, «Повесть временных лет» воспринималась современниками Донской битвы в сопоставлении с событиями этой современности. История Руси представлялась историей непрекращающихся войн со степными народами, войн за независимость. id="c_142">142 Ф. Буслаев. Рецензия на работу О. Миллера «Илья Муромец и богатырство Киевское». Журнал Мин. нар. просв., 1871, 4, стр. 217. id="c_143">143 А. Н. Веселовский. Из введения в историческую поэтику. Собр. соч., т. I, стр. 36–37. id="c_144">144 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 443. id="c_145">145 Ю. Н. Дмитриев. К истории новгородской архитектуры. Новгородский исторический сборник, вып. 2, Л., 1937. id="c_146">146 Новгородская IV летопись. ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, Л., 1925, стр. 444. id="c_147">147 Новгородская III летопись. Новгородские летописи, СПб., 1879, стр. 271. id="c_148">148 В. Яблонский. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб.1908, стр. 100. id="c_149">149 Памятники старинной русской литературы, издававшиеся Кушелевым-Безбородко, вып. 4, 1862, стр. 30. id="c_150">150 ПСРЛ, Т. IV, Ч. 1, вып. 2, Л., 1925 стр. 448. id="c_151">151 Там же, стр. 446. id="c_152">152 Там же, стр. 447. id="c_153">153 Там же, стр. 498. id="c_154">154 Там же, стр. 504. id="c_155">155 Там же, стр. 513. id="c_156">156 Софийская II летопись под 1471 г. id="c_157">157 См. подробнее: А. А. Шахматов. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв. Л., 1938, стр. 371 и др. id="c_158">158 Софийская II летопись под 1475 г. id="c_159">159 Проф. Успенский. Брак царя Ивана III. Исторический Вестник, 1887, № 12, стр. 689. Ср. также: О. Пирлинг. Россия и Восток, стр. 103, 166. id="c_160">160 Сборник импер. Русского исторического общества, т. 53, стр. 85 и сл. id="c_161">161 Там же, стр. 91. id="c_162">162 Там же, стр. 92. id="c_163">163 Там же, стр. 86. id="c_164">164 Софийская II летопись под 1481 г. id="c_165">165 Сочинения Максима Грека, 1889, «Слово» VII. id="c_166">166 Н. П. Лихачев. Инока Фомы слово похвальное о князе Борисе Александровиче! СПб., 1906. id="c_167">167 По мнению некоторых исследователей — Ивана IV. id="c_168">168 В. Малинин. Старец Елеазарова монастыря Филофей… Киев, 1901» стр. 547. id="c_169">169 Малинин, там же, Приложение, стр. 50. id="c_170">170 Православный собеседник, 1861, ч. II, стр. 297. id="c_171">171 Отличие теории Филофея от официальной идеологии московского правительства отмечает и В. Малинин. Он пишет о Филофее: «у него с большею полнотою и определенностью выступает теория мирового призвания России, как царства не только единственно православного, но и последнего, призванного существовать до конца вселенной. Отсюда в несколько ином обосновании выступает у него и теория царской власти» (Старец Елеазарова монастыря Филофей… 1901, стр. 616). id="c_172">172 Suppl. ad Historica Russiae Monumenta, p. 102. Цитирует Е. Голубинский. История русской церкви, т. I, ч. 1, стр. 8. Предание о посещении апостола Андрея попадает в XVI в. в Степенную книгу (I, 95–97) и другие. id="c_173">173 Сочинения Максима Грека, 1889, «Слово» VII. id="c_174">174 Собрание государственных грамот и договоров (СГГиД), т. I, стр. 71, 73, 78, 81, 84, 87, 89, 92, 98, 101, 103, 108, 111, 114, 117, 120, 122, 125,128, 131, 348, 158, 161, 164, 167, 180, 184, 197, 201, 205, 229. id="c_175">175 ПСРЛ, т. VI, стр. 20 и 224; т. VIII, стр. 206; Никоновская, т. VI, стр. 112. id="c_176">176 Памятники дипломатических сношений древней Руси с державами иностранными, т. I, стр. 46, 47, 59–61, 87, 96–93, 114. id="c_177">177 Там же, стр. 12. id="c_178">178 В 1495 г. при дворе Ивана III появились новые чины: казначея, постельничьего, ясельничего, и с 1496 г. — конюшего (М. П. Шереметьев. Список старинных бояр, дворецких, окольничьих и некоторых других придворных чинов. Др. Российская Вивлиофика, т. XX, изд. 2, стр. 8). id="c_179">179 Памятники дипломатических сношений…, т. I, стр. 17. id="c_180">180 И. Н. Жданов. Русский былевой эпос. Исследования и материалы, т. I–V, СПб., 1895. id="c_181">181 Theiner. Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, т. II, № 257. Romae, an. 1861. Цитирует: В. Савва. Московские цари и византийские-василевсы, 1901, стр. 274. id="c_182">182 Сборник импер. Русского исторического общества, т. 35, стр. 80–82 и др. id="c_183">183 Там же, т. 59, стр. 309 и сл. id="c_184">184 Там же, стр. 345. id="c_185">185 Там же, стр. 451. id="c_186">186 Там же, стр. 474 и сл. id="c_187">187 Там же, стр. 504 и сл.; стр. 519 и сл. id="c_188">188 Иосиф Волоцкий. Просветитель. Печати, изд. Казанск. духовн. акад.,л. 57. id="c_189">189 Русская историческая библиотека, т. VI, столб. 723. id="c_190">190 См. «Летописец Русский», изданный А. Н. Лебедевым (Чтения в Обществе истории и древностей российских, 1895, вып. 3), — известие о построении храма Покрова в октябре 7063 г. (1553) (стр. 31) и затем под июнем 7063 г. (1554): «Того же месяца благоверный и христолюбивый царь и великий государь велел заложит церковь камену Покров Пречистыя Богородицы о девяти верхах, которой был преже древян о Казанском взятии у Фроловских ворот» (стр. 36). id="c_191">191 И. Забелин. Черты самобытности в древнерусском зодчестве. id="c_192">192 Русская историческая библиотека, т. XIII, СПб., 1892, стр. 463 и сл. id="c_193">193 Там же, стр. 479. id="c_194">194 Там же, стр. 463 и сл. id="c_195">195 Там же, стр. 465. id="c_196">196 Там же, стр. 516–517. id="c_197">197 Там же, стр. 218. id="c_198">198 Стихотворная форма «Новой повести» до сих пор не была отмечена. id="c_199">199 Русская историческая библиотека, т. ХIII, стр. 200. id="c_200">200 Там же, стр. 210. id="c_201">201 Траве. id="c_202">202 Русская историческая библиотека, т. XIII, стр. 210. id="c_203">203 Слова, заключенные в скобки, очевидно, позднейшая разъясняющая вставка. id="c_204">204 Русская историческая библиотека, т. XIII, стр. 212. id="c_205">205 Там же, стр. 213. id="c_206">206 Там же, стр. 189. id="c_207">207 Там же, стр. 202. VI ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА С МОСКВОЮ НОВГОРОДА И ТВЕРИ >Наряду с подъемом объединительных идей в Москве, росло и идеологическое сопротивление ей отдельных русских областей. Чем круче была политика Москвы, тем ожесточеннее было это сопротивление. Но знаменательно, что, противопоставляя Москве свои политические теории, области вынуждены были считаться с достижениями исторической мысли Москвы и безоговорочно принимали некоторые из ее идей. Чем ярче разгоралась борьба Москвы с Новгородом и Тверью, тем яснее становилась победа идеи общерусского единства. Под конец борьба шла уже не между центробежными и центростремительными силами в русской жизни: боролись областные центры с Москвою за возглавление того общерусского единства, которое уже всеми считалось одинаково необходимым. В идейной борьбе Новгорода и Твери с Москвою рождались новые исторические произведения, необычайно рос интерес к родной истории. Так, в самом сопротивлении Москве рождались предпосылки для объединения с нею. >1 Объединительная политика Москвы встретила чрезвычайно сильное сопротивление новгородского боярства, опасавшегося потерять свои обширные земельные владения, и крупного новгородского купечества, боявшегося конкуренции Москвы в торговле с Западом. Новгородское государство становилось всё более и более реакционной силой в русской жизни, сопротивлявшейся объединительной политике московских великих князей. Новгородское ушкуйничество нарушало московскую торговлю севера и северо-востока; неспокойная новгородская политика грозила постоянными неожиданностями. Однако в самом Новгороде, как и в других русских областях, увеличивалось «в населении количество таких элементов, которые прежде всего желали, чтобы был положен конец бесконечным, бессмысленным войнам, чтобы прекращены были раздоры феодалов, приводившие к тому, что внутри страны шла непрерывная война даже в том случае, когда внешний враг был в стране, чтобы прекратилось это состояние непрерывного и совершенно бесцельного опустошения, которое неизменно продолжало существовать в течение всего средневековья».144 Демократические низы Новгорода явно тяготели к Москве, к сильной великокняжеской власти, в которой надеялись найти опору против боярства. В разное время сторонники подчинения Москве находили себе в Новгороде путь к власти, но в полной мере ни партия новгородских сепаратистов (так называемая литовская), ни партия сторонников Москвы не смогли возобладать на зыбкой почве новгородского «народоправства». Конец XIV в. характеризуется крайним обострением борьбы Москвы с Новгородом. Эта борьба стала особенно напряженной в 90-х годах XIV в., в связи с отказом новгородцев выезжать на суд к московскому митрополиту. По старому, испытанному еще в XII в. пути, новгородское боярство посылало послов с жалобой в Константинополь, угрожало Москве переходом в латинство, клялось на вече не судиться у митрополита. Только после того, как войска великого князя захватили Торжок и начали опустошать новгородские волости, новгородцы изъявили покорность. Новый перевес дало новгородской литовской партии замешательство в церковных делах первой половины XV в., приведшее к образованию двух враждебных митрополий: московской и киевской. Оно позволило новгородскому боярству вести двойную политику и постоянно добиваться от Москвы уступок угрозами подчиниться киевскому митрополиту. С этой поры церковный вопрос в Новгороде приобрел первостепенное политическое значение. Пользуясь смутою в церковных делах, Евфимий II Новгородский получил «поставление» в Смоленске у киевского митрополита Герасима, и это дало Новгороду независимость от московской церкви. В Новгороде приобрели значительную силу антимосковские настроения. Архиепископ Евфимий II активно способствовал западному влиянию и оказывал покровительство иностранцам. «От странных же или чуждых стран приходящих всех любовию приимаше, всех упокоиваше, всех по достоинству миловаше», — говорит о нем Пахомий Серб. Показателем новгородской политики служит то, что в Новгороде находили убежище противники московского великого князя — Дмитрий Шемяка и Василий Гребенка. Новгородское боярство обращалось к прошлому Великого Новгорода, чтобы в нем найти опору в борьбе против Москвы. Так же, как и в Москве, это обращение к прошлому сказалось в усиленном развитии летописания, в целом ряде реставрационных работ, в попытках оживить историческое предание, связанное с героическими страницами в жизни родного города. Во второй четверти XV в. началась беспокойная строительная деятельность архиепископа Евфимия II. Он обстроил новыми зданиями владычный двор Детинца, строил на Софийской и Торговой сторонах, строил в Старой Руссе, в Вяжищах, в Хутыне и т. д. Ко времени Евфимия II относятся здания светского и промышленного назначения, церкви и правительственные палаты. Особое место в строительной деятельности Евфимия II занимало возрождение новгородских архитектурных форм XII в. — века наибольшего расцвета новгородской торговли и внешнего могущества. В 1454 г. Евфимий II реставрировал церковь Ивана на Опоках (братчины Иванщины), первоначальной постройки 1127–1130 гг. В 1455 г. он строил «на старой основе» церковь Ильи на Славне, первоначальное здание которой относилось к 1198–1202 гг. В 1442 г. Евфимий II «на старой основе» 1198 г. ставил Преображенский собор в Старой Русое. На старой же основе XII в. восстанавливались церкви Бориса и Глеба (1445), Жен-мироносиц (1445), Борогодицы на Торгу (1458) и др.145 Евфимий II возродил строительные приемы монументальной архитектуры XII в., напоминавшие своими выразительными и внушительными формами о былом величии Новгорода. Разнообразной строительной деятельностью Евфимия II восхищался Пахомий Серб, в восторженных выражениях описавший выстроенные Евфимием храмы Детинца, которые «яко звезды или горы» стоят вокруг Софии. Массовое восстановление Евфимием II старых церквей XII в. связано с одновременным установлением культа «преждеотшедших» новгородских архиепископов, с возрождением летописного дела, с созданием цикла литературных произведений об архиепископе Иоанне, при котором новгородцы в 1170 г. отбили от стен Новгорода войска северо-восточных княжеств, что в XV в. служило как бы символом неприступности Новгорода для посяганий Москвы. Около 1432 г. был составлен в Новгороде обширный летописный свод «Софийского временника», который должен был дать новую историческую концепцию, поставив в центр русской истории историю Великого Новгорода. Однако, вскоре после составления свода 1432 г. «Софийского временника», в Новгороде стал ясен и его основной недостаток, не позволявший ему конкурировать с обширными московскими летописными сводами начала XV в. В то время как московское летописание было в подлинном смысле этого слова общерусским, объединяло в своем составе известия самых разнообразных областей и освещало историю всего русского народа в целом, новгородский «Софийский временник» но составу своих известий оставался все же летописью узко новгородской. Поэтому при том же Евфимии II в 1448 г. было предпринято составление нового летописного свода. Свод 1448 г. был первым новгородским сводом с ярко выраженным общерусским характером. Это далеко уже не узкая местная летопись, редко выходящая за пределы родного города, какой была новгородская летопись в предшествующие столетия. Свод 1448 г. описывает судьбу русского народа в целом, хотя преимущество попрежнему отдает Новгороду и в нем видит, очевидно, центр событий русской истории. Знаменательно, что в основном этот общерусский характер свод 1448 г. приобретает в результате заимствования общерусских известий из московского летописного свода Фотия 1418 или 1423 г. Стремясь создать историческую и политическую концепцию, противостоящую московской, Новгород все же опирался на Москву, на ее книжность, считался с достижениями ее исторической мысли и принимал общерусский характер ее трактовки предшествующего летописания. Так, идеи Москвы находят себе признание даже у ее врагов. Однако, в противоположность московским летописцам конца XIV — начала XV вв., нередко оценивавшим события с точки зрения демократических городских слоев населения, составитель свода 1448 г. во многих случаях проявил себя как представитель интересов боярской партии — владычнего двора. Он с осуждением отнесся к черному люду — к «голодникам», «ябедникам»146 и к городским волнениям. Свод 1448 г. имел обширный успех в русском летописании. В Новгороде на его основе создается еще ряд сводов. Историческая мысль работала с чрезвычайной интенсивностью. Летописные своды с настойчивой последовательностью создавались один за другим, но самостоятельной и законченной новгородской исторической концепции, подобно московской, всё же не получилось. Содержание новгородских летописей, стремившихся соединить достижения исторической мысли Москвы с антимосковскими тенденциями правящей верхушки Новгорода, осталось таким же противоречивым, как противоречива была и сама новгородская жизнь. >2 Попытки новгородского боярства опереться на прошлое Великого Новгорода, возродить старые, еще домонгольские традиции нашли себе место не только в новгородском летописании. В 1436 г. в церкви Усекновения главы в Новгородском Детинце упавший сверху камень пробил «велию скважину», в которой обнаружилось «нетленное» тело неизвестного святого. Известили Евфимия. «Убедившись» в нетленности мощей, Евфимий начал молить Бога: «да явит имя, кто есть». В ту же ночь «явился» Евфимию архиепископ Иоанн, открылся, что мощи принадлежат ему, и велел «праздновать себя» каждое 4 октября. Иоанн (1163–1186) — первый официальный новгородский архиепископ. Он был известен в Новгороде, главным образом, как лицо, при котором в 1170 г. произошло «чудесное» спасение города от подступивших к нему войск северо-восточных княжеств, отожествлявшихся в Новгороде в XV в. с Москвой. Само собой разумеется, что открытые так кстати упавшим камнем мощи Иоанна были торжественно водворены в Софийском соборе, и почитание этого новоявленного святого приобрело формы почти политической демонстрации. Вокруг архиепископа Иоанна и «чуда» спасения Новгорода от войск суздальцев возник цикл легенд, своего рода культ новгородской независимости. Основание культа новгородских святых и возвеличение новгородского прошлого подкреплены были несколько позднее и другой легендой. Под 1439 г. летопись сохранила сказание пономаря Аарона.147 В одну из ночей пономарь Аарон увидел, как в церковь Софии «прежними дверьми» (очевидно теми, которыми перестали пользоваться) вошли все «преждеотшедшие» новгородские архиепископы, молились в алтаре и пред иконою Корсунской божьей матери. Пономарь рассказал о своем видении Евфимию, и тот «бысть радостен о таковом явлении», повелел служить панихиду по всем новгородским архиепископам, а затем установил и более регулярное чествование своих предшественников. Выходило так, что не Евфимий II насаждал почитание новгородских святых и воскрешал память о забытых временах новгородского расцвета, а само прошлое напоминало о себе. «Преждеотшедшие» архиепископы молились за Новгород, объявляли свои мощи и т. д. Новгородская боярская партия настойчиво искала в новгородском прошлом опоры для своих притязаний на независимость и отъединенность от Москвы. Евфимий II пригласил с Афона знаменитого ритора Пахомия Серба и заказал ему литературное изложение легенды о чудесном спасении Новгорода при архиепископе Иоанне от войск суздальцев в 1170 г. Простую и непосредственную новгородскую легенду Пахомий «удобрил» витиеватым красноречием, придав ей пышность и назидательность, усилив элемент чудесности. Заканчивалось описание «чуда» спасения Новгорода от войск северо-восточных княжеств в изложении Пахомия молитвой, трафаретные заключительные строки которой должны были звучать особенно остро в политической обстановке половины XV в.: молитва завершалась прошением об избавлении «града нашего [Новгорода] от глада, губительства, труса [землетрясения], потопа и нашествия иноплеменников».148 В этот первый свой приезд в Новгород Пахомий написал, кроме того, службу новгородскому святому Варлааму Хутынскому, похвальное слово ему же и житие Варлаама. Культ новгородских святых обставлялся, как видим, необходимой пышностью. Таким образом, торжественное восстановление авторитета родной старины, начатое Москвою, было подхвачено ее политическим противником — Новгородом, новгородским боярством. Чем ожесточеннее была идеологическая борьба Москвы и Новгорода, тем яснее становилась победа общерусского сознания, тем ближе в конечном счете становилась и идейная победа Москвы, как наиболее последовательного носителя общенациональных традиций. >3 Но уже и в самом Новгороде идеи Москвы находили всё большее число сторонников. К концу 50-х годов XV в., в результате победы московского великого князя над новгородским ополчением и заключения невыгодного для новгородского боярства мира, перевес Москвы настолько определился, что представителям боярской партии в Новгороде приходилось думать только о политике отсрочки, по существу, неизбежного конца новгородской независимости. Росло и сочувствие демократических слоев населения Новгорода Москве. Роль заступника и постоянного ходатая за Новгород перед московским великим князем принял на себя избранный после смерти Евфимия II архиепископ Иона, искусно лавировавший между крайностями литовской боярской партии и энергичным натиском Москвы. Иона ознаменовал свое архиепископство целым рядом предприятий, клонившихся к закреплению мирных отношений с Москвой. В житии Ионы отмечено, что «московьстии князи много любяху его и со благоговением почитаху, и писания множицею посылаху к нему и от него въсписания желанно приимаху».149 Иона установил в Новгороде культ московского святого Сергия Радонежского, выстроил ему церковь (1463), ездил в Москву, где слезно заступался за новгородцев перед великим князем. При Ионе вторично прибыл в Новгород Пахомий Серб. Иона, как и Евфимий II, заказал Пахомию различные церковные службы и при этом, наряду со службами новгородским святым заботился и о службах святым, имевшим общерусское значение. Особенный интерес имеет заказанное Ионой Пахомию «Сказание о чуде преподобного Варлаама Хутынского» (1460). «Чудо это, случившееся в первый же год архиепископства Ионы, было весьма симптоматично. Во время приезда в Новгород московского великого князя Василия Васильевича умер его постельничий Григорий Тумган. Привезенный ко гробу новгородского святого Варлаама, постельничий «воскрес». Так же, как и открытие мощей архиепископа Иоанна при Евфимии II, инсценировка воскрешения постельничего московского великого князя у гроба новгородского святого не была случайной: новое «чудо» знаменовало собой временный перелом в новгородской политике и стояло в связи с новгородской дипломатией, стремившейся расположить к Новгороду великого князя Василия Васильевича. Заказывая описание этого «чуда», Иона имел в виду внушить московскому князю уважение к новгородским святыням, примирить его с Новгородом. Предназначенное для такой цели «Сказание» написано в духе московских взглядов. Оно именует Василия Васильевича «благочестивым и благоверным великим князем володимерским и московским и новгородским и всея Руси», а Новгород — вотчиной великого князя. Впоследствии, когда отношения Новгорода с Москвой вновь обострились, послушный исполнитель воли своих заказчиков Пахомий Серб переделал свое произведение согласно с требованиями момента: пышное титулование московского великого князя было замшено более простым — «благочестивый великий князь», а место, в котором говорилось о Новгороде, как о вотчине великого князя, было опущено. К эпохе усиления московских тенденций в Новгороде (в самой средине XV в.) относится житие яркого представителя московской демократической партии в Новгороде — Михаила Клопского. Москвич по происхождению, родственник московских великих князей, Михаил избрал местом своего монашеского пребывания небогатый новгородский Клопский монастырь, игумена которого Феодосия низы новгородского населения одно время даже избрали в архиепископы. Житие, демократическое по своим тенденциям, обильно эпизодами враждебного отношения монастыря к посадникам, к укрывавшемуся в Новгороде неудачному конкуренту московского великого князя Дмитрию Шемяке, и вместе с тем, в отличие от велеречивых и витийственных произведений Пахомия, выполнявшего заказы боярской партии, носит демократический, просторечный характер со следами влияния фольклора. О новгородском князе Михаиле Олельковиче, ставленике Литвы, Михаил Клопский говорит: «то у вас не князь — грязь», советует покориться московскому великому князю, «предрекает» торжество Москвы. Таким образом, еще до завоевания Новгорода Москвою в Новгороде зрели идеи общерусского единения под верховенством Москвы. Сама новгородская старина, вызванная к жизни сторонниками литовской боярской партии, восставала на новгородскую независимость. Разбуженный интерес к родной истории подсказывал идею общерусского единства. >4 В эпоху походов Ивана III ожесточение борющихся партий в Новгороде — литовской и московской — достигло крайней ступени. Новгородское летописание утратило свою организованность и систематичность. Летописи велись по инициативе представителей обеих враждующих партий, дополнявших и расширявших списки, начатые их предшественниками. В этих дополнениях нет единства между отдельными летописцами ни в политических взглядах, ни в круге отмечаемых ими событий, ни в стиле и манере изложения. Летописцы то ограничивались одними лишь новгородскими событиями, то вводили сведения общерусского значения; иногда эти известия кратки и сдержанны, но иногда же речисты и витийственны. Те части новгородской летописи, которые отличаются традиционным новгородским лаконизмом стиля, лишены, однако, чеканности летописного языка XII–XIII вв. Летописец терял присущее ему спокойствие тона, как только подходил к предметам, близко касавшимся его политических убеждений, и разражался в этих случаях многословными тирадами против своих политических врагов всюду, где находил это возможным. Летописец, дополнивший один из списков Новгородской IV летописи (Строевский), так отчитал сторонника московского великого князя Упадыша, забившего железом пять новгородских пушек при приближении к Новгороду московского войска: «како не вострепета, зло мысля на Великий Новъгород, не сытый лукавъства? не мъзды ли ради предаеши врагом Новъгород, о Упадышче, сладкого брашна вкусил в Великом Новеграде? О, колика блага не намятив, недостаточное ума достигл еси!.. Уне бы ты, Упадыше, аще не был бы во утробе матерьни: не бы был наречен предатель Новуграду…»150и т. д. Не на одного Упадыша сетует летописец. Он осуждает «владычнь стяг» (полк новгородского архиепископа), который не хотел ударить на московскую княжескую рать, ссылаясь на то, что «владыка нам не велел на великого князя руки подынути». Осуждает летописец и тех новгородцев, которые перед битвой, с москвичами «вопили» на «больших людей», не желая сражаться: «Яз человек молодыи, испротеряхся конем и доспехом».151 «И бысть в Новегороди молва велика, и мятежь мног, и многа лжа неприазнена, сторожа многа но граду и но каменным кострам [башням] на переменах день и нощь. И разделишася людие: инии хотяху за князя [московского], а инии за короля, за Литовьского»,152 так описывает летописец волнения, вызванные поражением новгородского войска на Шелони. Иной характер носили дополнения Новгородской IV летописи по списку Дубровского. Помимо обилия в них московских и общерусских известий, список включил в свой состав такие направленные против новгородской независимости произведения, как «Словеса избранна от святых писаний»153 на новгородцев, «Послание митрополичье»154 против них же, московский рассказ о присоединении Новгорода с резкими выпадами против новгородцев и характерным заключительным проклятием новгородским «смутьянам»: «И та земская их беда и вся людцкая кровь да будетъ изысканна от Бога вседержителя, по писанному: Господи! зачинающих рать погуби. И то все на тех главах на изменных и на их душах, в сем веце и в будущем, аминь».155 Военные действия против Новгорода, а затем и борьба в Новгороде с остатками боярско-литовской партии внесли ненадолго черты озлобления и полемичности в произведения обеих партий. Эта борьба по мелочам, по текущим вопросам была лишена той широкой историко-философской аргументации, которой обладала литература предшествующего периода. >5 Московские порядки были введены в Новгороде в 1478 г. после вторичного похода, которому Иван III придал характер защиты русских интересов от изменников — новгородских бояр. Этот поход Ивана III был обставлен с чрезвычайной пышностью. Ни один из московских походов ни в прошлом, ни впоследствии не сопровождался такой усиленной пропагандой, таким обилием всяческих посланий, как новгородские походы Ивана III. Идеологическое состязание Новгорода и Москвы достигло в 70-х — 80-х годах XV в. особенной напряженности. Везя в обозе своих войск летописи и книжника, умевшего «говорить по летописцам русским» (новгородца Стефана Бородатого),156 Иван III готовился к сложной идеологической борьбе с Новгородом. Наступая на Новгород, Иван III явно не опешил, принимал по дороге перебежчиков и затягивал переговоры, очевидно, выжидая, чтобы московские интересы сами взяли верх в Новгороде. К этому у него были веские основания: так называемая литовская партия, составлявшая крайнее меньшинство, орудовала в Новгороде путем подкупов и террора, которые становились недейственными при одном приближении громадного войска великого князя. Чем ближе подступала к Новгороду великая рать московская, тем больше перебегало к ней новгородцев, обещавших служить великому князю верой и правдой. Присоединение Новгорода к Москве не сопровождалось стремлением к разрушению его культурных ценностей. Уничтожая новгородскую независимость, москвичи не считали себя завоевателями, точно так же, как и представители московской партии в Новгороде не рассматривали себя как врагов родного города. Уничтожение новгородской независимости понималось не как завоевание, а как воссоединение исконных русских земель под державой «боговенчанного» монарха «всея Руси». Сознание значительности одного из старейших русских городов постоянно ощущается в отношениях Москвы к Новгороду. Москва широко использовала новгородские летописи, приглашала к себе новгородских иконников и каменщиков, подчеркивала славу и величие великого Новгорода, исконную зависимость его от московских великих князей, усматривая новгородскую измену лишь в «последних летех». Постепенно Москва обстраивала новыми стенами Новгородский Детинец (кремль), возвратила в Новгород Софийскую казну, увезенную было Иваном III, перепланировала город, расширяя улицы, упорядочила городскую жизнь, наконец всячески пользовалась книжными традициями и богатствами Новгорода. В первой половине XVI в. в Новгороде наблюдалось возрождение организованной работы над летописью. В 1520 г. при архиепископе Макарии — будущем участнике «избранной рады» Грозного — здесь была составлена особая редакция Хронографа. В 1539 г. был создан новый свод новгородской летописи.157 При Макарии же в Новгороде составлялось грандиозное собрание житий русских святых, так называемые макарьевские Четьи-Минеи в 12 обширных томах. Стремясь найти в новгородском прошлом опору для нового порядка, Москва поддерживала культ представителя московской демократической партии в Новгороде — Михаила Клопского. Политическое значение этого культа видно хотя бы из того, что впервые в истории: древнерусской книжности составление нового жития этого святого было поручено светскому лицу — московскому чиновнику, сыну боярскому и «храброму воину» Василию Тучкову, который значительно усилил московский антипосаднический дух жития. В течение всего XVI и XVII вв. в Новгороде осуществлялся целый ряд общерусских культурных предприятий. Москва поддерживала книжность Новгорода, и сам Новгород в целом придерживался общерусской позиции; однако кое-какие отголоски идей боярско-литовской партии в церковной трансформации (новгородская церковная организация менее всего пострадала при разгроме Новгорода), как, например, идея совершенной самостоятельности новгородской церкви (легенда о белом клобуке), идея превосходства «священства» над «царством» и т. д., еще долго сказывались и в новгородской книжности и в новгородской жизни на протяжении всего XVI и XVII вв. >6 Идейное движение в Твери XV в. во многом аналогично идеологической борьбе Новгорода с Москвой. Так же, как и в Новгороде, в Твери происходит возрождение местных исторических традиций. Так же, как и Новгород, Тверь стремится создать свое местное патриотическое движение, противостоящее Москве, пытается найти опору своим сепаратистским устремлениям в своем прошлом. В Твери, как и в Новгороде, усиленно восстанавливаются старые, еще домонгольские постройки и возрождаются исторические предания эпохи национальной независимости. Однако в отличие от Новгорода, ограничивавшего круг своих исторических интересов местными преданиями, Тверь вслед за Москвой возрождает общерусские исторические традиции Киева. Тверские книжники втечение всего XV в. неоднократно обращаются к литературным произведениям Киевской Руси, переделывая их, редактируя их, переписывая и заимствуя из них для собственных сочинений отдельные образы и целые отрывки. Тверская литература обращается к патриотическому воодушевлению «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона, к широте исторической мысли «Повести временных лет», к оказаниям о князьях Борисе и Глебе, чей культ на протяжении многих веков связывается с политическими идеалами общерусского единства, к произведениям Кирилла Туровского и Киево-Печерскому патерику, пересоставленному в Твери в начале XV в. в новой, так называемой Арсеньевской редакции. Вместе с тем, тверская литература усваивает московские литературные произведения конпа XIV — начала XV вв. и опирается на достижения московской исторической литературы. Вслед за Москвой, в Тверском княжестве — усиленно ведется летописная работа. В 1409 г. составляется свод, пропагандировавший идею единства «Тверской земли» и необходимости примирения тверских и кашинских князей — наследников тверского великого князя Михаила Александровича. В 1455 г. по приказанию тверского великого князя Бориса Александровича составляется «Летописец княжения тверского». Главное и преобладающее внимание уделено в нем тверским событиям и пропаганде идеи самодержавности тверского князя Михаила Александровича. Он — «от богосадного корени доброплодная отрасль», он — «храбрость показа многу и грады многы взем: покоривыися любовию, а непокоривыа мечем». В своем политическом развитии Тверь значительно опережала Новгород. Политическая борьба тверских великих князей с сепаратистскими стремлениями кашинских князей воспитала в Твери мысль о политических преимуществах сильного единодержавного правления. Тверской свод 1455 г. весь проникнут мыслью о необходимости крепкой княжеской власти, о необходимости прекращения феодальных раздоров. И в этом отношении Тверь не только следовала за Москвою, но в некоторых своих идеях опережала ее. Так, раньше чем в Москве, в Твери создается теория самодержавной власти великого князя. Пользуясь временной слабостью Москвы в годы междоусобной борьбы за московское великое княжение, Тверь стремится взять на себя роль защитницы общерусских интересов, а тверской князь пытается быть представителем в Западной Европе всей Русской земли, как ее глава. Эта идеология ярко отразилась в замечательном похвальном «Слове» инока Фомы тверскому князю Борису Александровичу. Историческую обстановку создания «Слова» отчетливо обрисовал академик Н. П. Лихачев в своем труде «Инока Фомы слово похвальное» (1908, стр. IX–X): «В половине XV столетия еще продолжалось давнее соперничество Москвы с Тверью. Идея о царстве и царском наследии коснулась и Тверской области. Был как-раз необыкновенно благоприятный момент. Москва раздирается усобицами, законный князь то в плену, то изгнан, потом ослеплен. Только помощью Твери утверждается он на прародительском столе, заключив союзный и брачный договоры. Во главе княжества Тверского стоит деятельный и талантливый человек [Борис Александрович]. Временное процветание Твери оживляет заглохшую былую славу. Даже послы великой „Шавруковой“ орды идут в Тверь и минуют Москву. Из Византии же приходят печальные вести; после морального падения на нечестивом латинском соборе распространяются слухи о постепенном утеснении Царьграда агарянами [турками. 29 мая 1453 г. Царьград пал, православная вселенская монархия кончилась. Есть у латинян цари, сильные царства, но не может благодатное наследие царя Константина перейти к впавшим в ересь. Только на одной Руси сияет православие; кому же в Русской земле принадлежит наследие царства?.. Не князь московский, а боговенчанный царь Борис Александрович тверской настоящий наследник Византийской империи и „второй Константин“, благоверный православный самодержец…». Такова главная мысль «Слова». «Слово» инока Фомы подчеркивает величие и славу «Тверской земли». Тверская земля — богоизбранная страна, «Новый Израиль»; ее князь — «второй Константин». Имя тверского князя Бориса Александровича славимо повсюду — «от Востока и до Запада и до самого царствующего града». Авторитет тверского князя стоит высоко среди европейских монархов. Иноземные цари возносят ему хвалу. Инок Фома восхваляет храбрость Бориса Александровича и «дерзость сынов Тферскых». Борис Александрович — государь и «защитник наш». Фома подчеркивает силу княжеской власти Бориса, его единодержавство и утверждает богоустановленный характер княжеской власти, что впоследствии настойчиво станут проводить московские книжники. Великий князь Борис Александрович называется в «Слове» царствующим самодержавным государем, что само по себе было решительной новостью в русской политической мысли того времени. Борис Александрович «царскым венцем увязася» и сравнивается с Августом, с Львом Премудрым, с царем Птоломеем Книголюбцем, с Константином Великим, с царем Феодосием. Фома превозносит строительную деятельность Бориса Александровича, устройство им нового Тверского кремля и называет его «новым Ярославом» (Мудрым), что уже само по себе должно было говорить о стремлении Бориса Александровича сосредоточить в своих руках объединение Руси. «Слово» Фомы недвусмысленно выражало идею единства Руси, идею необходимости сильной монархической власти, впервые по-новому названной «царской». Сами по себе эти мысли «Слова» были глубоко прогрессивны; свидетельствуя о вполне созревшей повсюду мысли о необходимости создания единого национального государства. Но Москва имела большие исторические права на возглавление этого государства. Вскоре спор о том, кому стоять во главе объединенной Руси, был решен военной рукой Москвы. Тверской князь нарушил мирный договор с великим князем московским и вступил в переговоры с Литвой. В 1485 г. Иван III осадил Тверь, тверские бояре перешли на службу к Ивану III, тверской князь бежал в Литву, а тверичи целовали крест Ивану III. >VII РОССИЯ И ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В XVI в. >С конца XV в. объединенное Русское государство становится лицом к лицу с Литвой, Польшей, Ливонией, Швецией, Турцией, Ираном. Москва завязывает непосредственные отношения с европейскими странами: Австрией, Венгрией, Венецией, Римом, Германией, Данией. Русское правительство вступает в различные союзы со странами Западной Европы; оно вызывает архитекторов, ремесленников, горноделов, оружейных мастеров, которые вместе с русскими участвуют в общем прсмышленном подъеме страны. Деятельные сношения Русского государства с другими странами вызывают рост национального чувства, чувства гордости за свою родину. Тверской купец Афанасий Никитин, на 25 лет раньше западно-европейских путешественников проникший в Индию (1466–1472) и составивший о ней обстоятельные и умные записки, повидав многие страны, писал: «Да сохранит Бог землю Русскую! боже, сохрани ее! в сем мире нет подобной ей земли. Да устроится земля Русская».158 Русских путешественников и дипломатов, ездивших в Западную Европу в конце XV и XVI вв., всегда отличала крепкая уверенность в себе, в своем достоинстве представителей России. Русские дипломаты умело пользуются своею историческою ученостью и создают сложную теорию власти московских государей, высоко поднимавшую авторитет русского монарха над остальными европейскими королями и правителями. Это была творческая политическая идеология, направлявшая политику Русского государства по пути защиты национальных интересов, национальной культуры в сложной среде европейской цивилизации. Такова ведущая линия отношений России к Западной Европе в XVI в. >1 Не только Россия была заинтересована в конце XV–XVI вв. в деятельных сношениях с европейскими странами. Сами западно-европейские государства наперерыв стремятся к союзу с могущественной страной на Востоке Европы. Необычайные военные успехи Турции во второй половине XV в. вселили ужас и смятение в среду европейских народов. В 1453 г. после двухмесячной ожесточенной осады пал Константинополь. В 1459 г. была завоевана Сербия и обращена в турецкий пашалык. В 1460 г. турки завоевали Афинское герцогство и вслед за ним всю Грецию. В 1462 г. они захватили Лесбос и Валахию, в 1463 г. — Боснию, в 1467 г. — Албанию, а затем Герцеговину. В 1476 г. турки опустошили Молдавию, а в 1479 г. заключили победоносный мир с Венецией и Неаполем. Расцвет турецкого могущества на Востоке совпал с ростом силы и международного престижа молодого Русского государства. Иван III деятельно сносится с западно-европейскими государствами, и западные властители усиленно стремятся польстить самолюбию восточного государя обещаниями королевского титула и признанием за ним прав на константинопольское наследство. Западно-европейские государства всячески стремятся вселить Ивану III мысли о владычестве на Востоке, столкнуть Москву с Турцией и тем самым сделать Русское государство послушным орудием своей политики. Одно из первых мест в этих завязавшихся сношениях Западной Европы с Москвою принадлежало папе. Маня и соблазняя Ивана III византийским наследством, римская курия стремилась вовлечь Москву в общеевропейский союз для борьбы с исламом. Именно для этого и был задуман в Риме брак Ивана III с Софией Палеолог — племянницей последнего византийского императора Константина VIII. В пути византийскую принцессу сопровождал легат папы. В Риме надеялись приобрести в супруге царевны не только нового союзника против Турции, но и, возможно, нового члена католической церкви. Вскоре после брака Ивана III и Софии Палеолог сениория Венеции, всегда точная и осторожная в своих решениях, писала Ивану III, что Византия «за прекращением императорского рода в мужском колене должна принадлежать вашему высочеству в силу вашего благополучнейшего брака».159 Но Иван III не был склонен к войне с турками. В 1495 г. в Константинополе появились московские послы, чтобы обеспечить русским купцам беспрепятственную торговлю с Турцией. Попытки соблазнить Москву константинопольским наследием и вовлечь Русское государство в войну с Турцией особенно усилились при Василии III. В 1519 г. магистр прусского ордена сообщал Василию III через своего посла Дитриха Шонберга о желании римского папы «наияснейшаго и непобедимейшаго царя всеа Русии короновать в христьянского царя»160 с тем только, чтобы Василий III принял участие в антитурецком союзе. В ходе переговоров Шонберг говорил о союзе против «християнского врага Турка, кой держит наследие царя всеа Русии».161 Однако московские бояре отвечали Шонбергу, что Василий «хочет вотчины своее земли Русские»,162 и не приняли во внимание «костянтинополскую отчину»,163 на которую указывал им Шонберг. Ни Иван III, ни Василий III, ни Иван IV не были склонны к войне с Турцией из-за византийского наследия. Властители Запада напрасно обольщали себя надеждой общего с Москвою крестового похода против ислама. В Москве иначе смотрели на константинопольское наследие и нисколько не заботились о земельных приобретениях в Турции. Грозный не дал ответа австрийскому императорскому посольству 1576 г. на предложение «цесарства греческого» и титула «всходного цесаря» (царя Востока); он не дал его, несмотря ка все свое ревнивое отношение к признанию своего царского титула на Западе. Несмотря на состоявшийся брак Ивана III с Софией Палеолог, расчеты папской курии на то, что московские государи отныне будут считать себя наследниками византийских императоров, не оправдались. Московские государи ни разу не заявили своих прав на императорский титул, несмотря на то, что германский император Максимилиан I сам называл Василия III императором, и ни разу не обнаружили притязаний наследовать права Софии Палеолог на Византию. Пересматривая многочисленные доказательства прав, которые предъявляли московские великие князья на царский титул, мы нигде не найдем ссылок на получение этих прав через брак Ивана III с Софией Палеолог. Обращаясь к восточным патриархам за утверждением царского титула, Иван IV говорит о своем родстве с византийскими императорами, но ни разу не вспоминает своей бабки Софии Палеолог. Не упоминает о родстве московских великих князей с византийскими императорами через Софию Палеолог и официальная литература Москвы XVI в. — «Сказание о князех Владимирских», повести о Мономаховых регалиях и дипломатическая переписка Москвы. Это молчание официальной литературы XVI в. о правах Московского престола, полученных через брак Ивана III с Софией, находит себе соответствие в той крайней нелюбви народа к Софии, о которой единогласно свидетельствуют летописи, Курбский, Берсень-Беклемишев и даже иностранец С. Герберштейн. В Москве склонны были видеть в Софии царственную сироту, нашедшую себе приют в могущественном государстве, а не могущественную наследницу держанных прав Империи. В Софийской II и Воскресенской летописях, после описания похода Ивана III на Угру, летописец поместил воззвание к потомкам хранить независимость своего отечества. Это воззвание заключалось явным намеком на отца Софии — Фому Палеолога и на его сыновей, один из которых (Андрей) дважды безрезультатно приезжал на Русь торговать правами византийских императоров: «О храбрии, мужественной сынове Русьстии! потщитеся сохранити свое отечество, Русьскую землю, от поганых; не пощадите своих голов, да не узрят очи ваши пленения, и грабленное святым церквем и домом вашим, и убиения чад ваших, ж поругания женам и дщерем вашим. Якоже пострадаша инии велиции славнии земли от Турков, еже Волгаре глаголю к рекомии Греци, и Трализонь, и Амория, и Арбанасы, и Хорваты, и Боша, и Манкуп, и Кафа и инии мнозии земли, иже не сташа мужественней пошбоша и отечьство свое изгубиша н землю и государьство, и скитаются по чюжим странам беднл во истинну и странни, и много плача и слез достойно, укоряема н повоошаеми и оплеваеми, яко не мужествензии… Тако ми бога видех своима очима грешнима великих государь, избегших от Турков со имением и скитающиеся яко странни и смерти у бога просящих яко мздовъздаяния от таковыя беды».164 Ясно, кажется, что «избегшие от турков» и «смерти у бога просящие» родственники византийских императоров не могли упрочить блеск русских государей и что не на родстве с ними основывалась величественная идеология Русского государства. >2 Идею «греческого наследия» внушали русскому правительству не только западные державы. Сами греки, часто приезжавшие на Русь после падения Константинополя, греческие церковные власти, обращавшиеся на Русь за материальной поддержкой, проводили в своих домогательствах ту же «греческую идею». Суть ее в общих чертах заключалась в том, что с гибелью императорской власти в Византии единственным защитником православия и греков остается московский великий князь, к которому и должны были перейти все права и обязанности императора второго Рима — Византии. Греки — турецкие послы всячески стремились расстроить мирные отношения русских с Турцией; так было при султане Селиме и Сулеймане Великолепном. Особенно известен был этой своей изменнической по отношению к Турции политикой турецкий посол, грек по происхождению, Скиндер. Русские требовали смены Скиндера, но греческая партия была сильна в Турции: Скиндер оставался на своем посту и сыграл исключительную роль в провале идеи союза, что подтвердилось после его смены в Москве в 1529 г. Максим Грек систематически проводил идею освобождения Греции военной силой Русского государства. Он побуждал великого князя тем, что «бог грекам от отеческих престол наследника покажет»,165 т. е. тою же мыслью о правах московских князей на константинопольское наследство. Не чужда была той же идеи и среда русского духовенства, издавна воспитанная в политических представлениях византинизма. Именно в этой среде, близкой к грекам, зрела с конца XV в. мистическая теория движущегося Рима. Эта теория, возникшая на почве византийской теории всемирной супрематии императора второго Рима (Византии), пыталась перенести на московских государей византийские представления об императорской власти и рассматривала великих князей московских как законных и единственных наследников императоров Вечного Рима. Суть этой теории сводилась к следующему: в мире существует только одно христианское богоизбранное государство, которое не может пасть до скончания века — Вечный Рим. Но Рим этой теории — не неподвижный Рим, связанный с определенной территорией. Первый Рим пал, уклонившись в нечестие, потеряв чистоту христианской религии; второй Рим — Византия, примкнув в Флорентийской унии к первому, был завоеван турками. Отсюда родилась мысль, что Вечный Рим живет в каком-то новом государстве, оставшемся верным православию. И его искали то в Твери,166 то в Новгороде и, наконец, в Москве, необычайно быстрый рост которой совпал по времени с гибелью Византии. Естественно, что вся всемирно-исключительная роль, которая отводилась в Византии императору второго Рима как защитнику церкви и главе всех христиан, переходила теперь, с падением второго Рима, к главе третьего Рима — великому князю московскому. Эту теорию неоднократно внушали Василию III представители церкви. Дважды ее изложил в своих посланиях к Василию III старец Елеазарова монастыря Филофей, который, соответственно обычному титулу византийских, императоров «святой», называет Василия III167 «освященная глава»168 и применяет к нему другие обычные титулы византийского императора: «браздодержатель святых божиих церквей», «святыя православныя христианскыя веры содержатель» и др. Видя в Василии III главу всех ромеев, Филофей пишет ему: «един ты во всей поднебесной христианом царь»;169 а в другом послании: «един [есть] православный русский царь во всей поднебесной». Еще резче идея всемирной власти великого князя московского выражена Максимом Греком. Василия III Максим Грек называет «благочестивейший царю не токмо Русии, но всея подсолнечный».170 Однако теория, предложенная Филофеем Василию III, была резко отлична от творческой политической теории, направлявшей меч великокняжеской власти. В противоположность наименованию московских великих князей «едиными государями во всей подсолнечной», официальная терминология точно и определенно называла их великими князьями (или царями) «всея Руси». «Блестящее марево всемирной власти», которое пытались открыть перед московскими государями в заманчивой дали сторонники теории «Москва — третий Рим», никогда не прельщало московское правительство, неуклонно стремившееся к единой близкой и конкретной цели воссоединения «всея Руси».171 Русские великие князья упорно настаивали на своих извечных правах на царство и не желали принимать свой царский авторитет из Византии, позорно утратившей свою независимость. Не по наследству, не по милости греков получили русские монархи царский титул. Русские князья «изначала государи на своей земле». Эти идеи проводятся во всех официальных документах XV–XVI вв. в дипломатической переписке, посланиях, завещаниях, официальных речах и соборных постановлениях. Не случайно Иван Грозный говорил Поссевину: «Мы верим не в греков, а в Христа; мы получили христианскую веру при начале христианской церкви, когда Андрей, брат апостола Петра, пришел в эти страны, чтобы пройти в Рим, таким образом мы на Москве приняли христианскую веру, в то же самое время как вы в Италии, и с тех пор доселе соблюдали ее ненарушимою».172 Официальная литература московского правительства осталась чужда теории третьего Рима, как осталась она чужда и идее византийского наследства через Софию Палеолог. Мечта о Москве — третьем Риме никогда не была движущей силой московской дипломатии. Недаром Максим Грек упрекал русских в том, что они только «своих си ищут, а не яже вышняго».173 Особенно резкие различия в воззрениях греков и русских на значение царской власти сказались в придворных обрядах, выражавших несходные представления о власти обеих стран. Русские великие князья не назывались «святыми», они не принимали участия в богослужении в качестве духовных лиц, они допускали, чтобы во время обряда венчания на царство рядом с ними сидел митрополит, а впоследствии патриарх. Между тем, в Византии императору троекратно возглашалось «свят» во время обряда венчания, он занимал определенное место в богослужении, как духовное лицо, и в качестве такового благословлял народ и кадил в церкви. Он считался выше патриарха, стоявшего при нем во время обряда венчания. В византийском обряде не было обмена речами между иерархом и монархом. Между тем, в русском обряде венчания митрополит (а впоследствии патриарх) и государь обменивались речами, содержание которых знаменательно: после возглашения клиром многолетия венчанному государю митрополит (или патриарх) поучали царя «о полезных» — об обязанностях царя к Богу, к церкви, к царской власти и по отношению к народу. >3 В течение всего XIV и XV вв. для всех русских людей прекращение татарской зависимости и крепкое противоборство татарам были заветным желанием. В договорных грамотах между собой и в княжеских завещаниях, начиная с Дмитрия Донского, постоянно читалось: «переменит бог Орду», или татар.174 Летописи свидетельствуют, что когда Иван III колебался в решимости бороться с Ахматом (1480), мать и дядя великого князя, митрополит и все бояре «молиша его великим молением, чтобы стоял крепко за православное христианство против бесерменству».175 Уничтожение Иваном III зависимости от татар было тем грандиозным и долгожданным событием, с которым связан рост политической теории Русского государства. Сознание собственного достоинства, независимости от какой-либо земной власти и равноправия всем великим державам мира глубоко проникает в дипломатическую практику и политическую теорию русской монархии. Именно после прекращения зависимости от Орды (1480), а не после брака с Софьей Палеолог, начинает Иван III употреблять титул царя в международных отношениях с Любеком, Нарвою, Ревелем и магистром Ливонии.176 Послу германского императора Николаю Поппелю, вторично явившемуся в Москву в 1489 г. с предложением королевского титула, Иван III велел ответить: «мы божиею милостью государи на своей земле изначала, от первых своих прародителей, а поставление имеем от бога, чтобы нам дал бог и нашим детям и до века в том быти, как есмя ныне государи на своей земле, а поставления, как есмя наперед сего не хотели ни от кого, так и ныне не хотим».177 Перед иностранными властителями предстал государь, полный сознанием достоинства своей страны. Именно с года прекращения татарской зависимости растет пышность церемониала московского, появляются новые придворные должности,178 новый посольский обряд. Растет и забота Ивана III о том, чтобы русские послы ни в чем не роняли достоинства Русского государства. Послы Ивана III Плещеев, Голохвостов, Кутузов держат себя при константинопольском дворе не по-азиатски, не становятся на колени перед султаном, и султан разрешает им вести себя так, в то время когда другие европейские послы вынуждены преклонять колена, подвергаются оскорблениям и побоям. Ревниво оберегая честь Русского государства, Иван III внимательно следит за полным равенством отношений с другими европейскими государствами и оказывает иноземным послам такой же прием, какой оказывался русским послам при дворах иноземных государей. Так создавался новый посольский обряд, основанный не на заимствованиях из Византии, а на дипломатической практике. Дипломатические отношения России с западно-европейскими государствами развивались в тесной связи с политической теорией Русского государства. Отсюда под влиянием живых потребностей государственного строительства создается теория исконного величия России и ее правящей династии. Московские дипломаты тонко учитывают ренессансный интерес Западной Европы к античности, сказавшийся не только в искусстве и литературе, но и в политике. Они создают теорию родства московских великих князей с императорами древнего Рима, теорию, подчеркнувшую древность и княжеского рода и управляемой им страны. Отсылая Юрия Грека послом к «цесарю», Иван III дал ему наказ, в случае, если от «цесаря» последует предложение выдать дочь Ивана III за племянника «цесаря», отвечать отказом, так как это не соответствовало достоинству московского государя: «во всех землях то ведомо, а надеемся, что и вам ведомо, что государь наш, великий государь, уроженый изначала от своих прародителей; а и наперед того от давних лет прародители его по изначальству были в приятельстве и любви с передними Римскими цари, которые Рим отдали папе, а сами царствовали в Византии».179 Историческая легитимация власти, долженствовавшая утвердить царское достоинство московских государей, была предпринята в весьма широких масштабах. При том же Иване III было предпринято и создание официальной родословной московских великих князей. Эта родословная, оформленная в «Сказание о князех Владимирских», представляет собою родословную роспись всех известных в истории царей и властодержцев. Она начинается с рассказа о разделе земли между потомками Ноя, продолжается перечнем великих властителей, центральное место в котором занимают сведения об императоре Августе, к которому в средние века и, в особенности, в начале эпохи Возрождения все европейские владетельные роды возводили свое происхождение. Чтобы высоко поднять авторитет московских великих князей, «Сказание» также говорит об их родстве императору Августу, через его брата Пруса, которого Август посадил управлять на побережье Вислы. По имени этого Пруса земля на Висле, как известно издревле населенная славянскими и литовскими племенами, стала называться «Прусская земля». Сюда к племени пруссов, по совету Гостомысла, пришли послы новгородцев искать себе князя. Здесь они нашли Рюрика «суще от рода римска цесаря Августа», положившего затем основу династии русских князей. Заканчивалось «Сказание» рассказом об отвоевании знаков царского достоинства Владимиром Всеволодовичем у Константина Мономаха. После победоносного похода Владимира Всеволодовича во Фракию, побежденный Константин Мономах прислал ему дары — крест «от самого животворящего древа, на нем же распятся владыка Христос», «венец царский», «крабицу сердоликову, из нее же Август кесар веселяшеся», ожерелье, «иже на плещу свою ношаше», и др. «И с того времени, — сообщало «Сказание», — князь великий Владимир Всеволодович наречеся Мономах, царь великие России. И оттоле и доныне тем царским венцом венчаются великие князи владимирские, егда ставятся на великое княжение российское».180 Итак, согласно «Сказанию», московские великие князья ведут свое происхождение от того же римского императора Августа, от которого вели свое происхождение и главнейшие европейские царствующие дома. Русские князья получили свое царское достоинство не по наследству из Византии после ее падения в 1453 г.: они — исконные «государи на своей земле», и их царское происхождение восходит еще ко временам античности. Царские регалии, всегда по праву принадлежавшие русским князьям, возвращены им Владимиром Мономахом силою оружия. Таким образом, эта теория всячески подчеркивала исконное, а не приносное со стороны право русских князей на царский титул, древнюсть и достоинство их рода. В отличие от теории «Москва — третий Рим», не вышедшей за пределы церковных кругов по преимуществу, фантастическая генеалогия русских князей и рассказ о происхождении царского достоинства великих князей от Владимира I и Владимира Мономаха имели широкое распространение в дипломатической практике XVI в. Успех этих идей развивается по мере того, как усложняются иностранные сношения России, по мере дипломатических встреч и посольств к иноземным государям, перед которыми московские великие князья никогда не хотели казаться худородными. Сведениями о родстве великих князей и о венчании Владимира Мономаха полны все официальные памятники XVI в.: Четьи-Минеи митрополита Макария (под 20 сентября), Степенная книга, Воскресенская летопись, Казанский летописец, Царственный летописец и т. д. Повесть о Мономаховых регалиях была вырезана на дверцах царского места в Успенском соборе (1551). Генеалогию русских князей переводят на латинский язык, явно предназначая ее для распространения заграницей. Ссылками на нее пестрят дипломатические памятники XVI в. >4 Были и особые причины, заставлявшие русское правительство с особенною настойчивостью возводить принятие царского титула ко временам Владимира I и Владимира Мономаха. Почти половина русских земель принадлежала в XVI в. Польско-Литовскому государству. Древнейшие русские города — Киев, Чернигов, Полоцк, Смоленск — находились вне русских пределов. Официальная правительственная теория Русского государства выросла в значительной мере из потребностей окончательного объединения Русского государства, присоединения к нему земель, когда-то принадлежавших «прародителям» московских государей — Владимиру I и Владимиру Мономаху. Согласно официальной правительственной теории XVI в., не признававшейся поляками, московские великие князья были наследниками киевских, а Москва выступала в ней наследницей Киева — «вторым Киевом». Под знаком этой борьбы за киевское наследство проходят все дипломатические отношения Русского государства с Польско-Литовским. Пропагандируя свои права на наследство Владимира Мономаха, московские великие князья требовали тем самым признания себя боговенчанными монархами «всея Руси», а следовательно, и тех исконно русских земель, которые находились еще под властью Польско-Литовского королевства. Этим объясняются настойчивость, с которой добивалась московская дипломатия признания русской правительственной теории, и упорство Польско-Литовского государства в отказе признать право московских великих князей на царский титул. Как видно из грамоты папы Сикста IV, написанной в 1484 г. польскому королю, в Польше серьезно опасались, чтобы папа не дал Ивану III титула императора или короля «всея России» («…Imperialem sive regalem dignitatem in, tota Ruthenica natione…»), что явилось бы санкцией на собирание московским государем русских земель.181 В грамоте 1493 г. к литовскому великому князю Александру Иван III впервые в своих сношениях с Литвою назвал себя государем «всея Русии» и велел своему послу Дмитрию Загряжскому титуловать себя так во всех речах к литовскому князю. В случае вопросов о том, почему Иван III титулует себя государем «всея Русии», когда ни он, ни кто-либо из его предков не именовали себя так в сношениях с Литвою, Загряжскому наказано было отвечать: «государь мой со мною так приказал, а кто хочет то ведати, и он поедь на Москву, там ему про то скажут».182 Во второй половине XVI в. уверенность московского правительства в праве на киевское наследство настолько возросла, что московским послам не приходилось более зазывать к себе на Москву иностранных дипломатов для объяснений. Отправляя в 1549 г. послов в Литву для присутствия при обряде крестного целования короля на перемирных грамотах, Иван Грозный наказал им передать королю: «милостию бога вседержителя и родитель наших благословением, на своем государстве царем есмя венчались прежде бывшим венчанием прародителя нашего царя и великого князя Владимера Мономаха».183 В следующем 1550 г., отправляя к королю посла Якова Остафьева, Иван IV дал ему подробный наказ. На вопрос короля о титуловании Остафьев должен был отвечать: «наш государь учинился на царстве по прежнему обычаю, как прародитель его великий князь Владимер Манамах венчан на царство Русское, коли ходил ратью на царя греческого Костянтина Манамаха, и царь Костянтин Манамах тогды прародителю государя нашего, великому князю Володимеру, добил челом и прислал к нему дары, венец царьский и диядиму, с митрополитом ефесским кир [господин] Неофитом, и иные дары многие царьские прислал, и на царство митрополит Неофит венчал, и от [того] времени царь и великий князь Владимер Манамах; и государя нашего ныне венчал на царство Русское тем же венцом отец его Макарей митрополит, занже ныне землею Русскою владеет государь наш один».184 В 1554 г. в наказе послам — боярину Василию Юрьевичу, казначею Федору Сукину и дьяку Ивану Бухарину — снова стояли требование признания царского титула и подробное обоснование этих требований в виде повести о Мономаховых регалиях. Еще раз в 1554 г., отправляя посольство к королю с извещением о завоевании Астраханского царства, Иван IV наказал напомнить королю, что мир между ними возможен только в случае признания его царского титула.185 Снова было наказано послу говорить, что предок царя, Владимир Мономах, венчался на царство, и царь венчался, следуя его примеру. Теория царского титула еще раз выступает в переговорах 1555 г.,186 затем в переговорах 1556 г.187 и т. д. Не было переговоров с Польско-Литовским государством, в которых не возник бы вопрос о царском титуловании, в которых русские не ссылались бы на родство своих государей с Августом кесарем и на царское венчание Владимира Мономаха. Споры по этому вопросу продолжались при Федоре Иоанновиче, Борисе Годунове, Василии Шуйском, Михаиле Федоровиче. В искусстве и литературе конца XV — начала XVI вв. мы найдем все те три составляющие элемента, которые определяли собою и творческую и политическую идеологию Русского государства: широкий учет западно-европейского окружения, подчинение целого в первую очередь общенациональным интересам и постепенное выявление народных начал русской культуры. >5 Идеология Русского государства, его внешняя и внутренняя политика отложились резким отпечатком на внешнем облике Москвы, отныне столичного города большого европейского государства. В своих заботах о внешнем благоустройстве Москвы, московские великие князья стремятся придать ей национальный облик, воплотить в ней национальные идеалы красоты. В отличие от первых строителей Киева, стремившихся соперничать с Константинополем, как в планировке, так и в устройстве отдельных зданий (София в Константинополе и в Киеве, Золотые ворота в Константинополе и в Киеве и др.), Москва организуется как русский город, его строительство учитывает по преимуществу русские традиции. Конец XV в. отмечен объединением соперничавших между собой русских архитектурных школ. Объединительной политике московских великих князей и объединительной политике московских летописцев, соединивших в грандиозных сводах областное русское летописание, соответствуют объединительные тенденции в области московского искусства. В грандиозней строительной деятельности Москвы приняли участие зодчие из Пскова, Новгорода, Твери, Владимиро-Суздальского княжества. Кроме зодчих русских строительных школ, Москва также приглашает зодчих наиболее передовой в архитектурном отношении страны тогдашней Европы — Италии. В Москву приезжает бостонский архитектор и военный инженер Аристотель Фиораванти, затем Антон Фрязин, два Алевиза, Марко Руффо, Пьетро Антонио, Солар, Вон Фрязин и др. В Москве сосредоточивается обширный круг архитекторов эпохи Возрождения. Все эти архитекторы работают по созданию Московского Кремля. Но планировка Кремля была основана не на итальянских, а на чисто русских архитектурных принципах. Ансамбль Кремля по-русски строился открыто во внешнее пространство на крутом берегу р. Москвы. Здания, построенные москвичами, итальянцами, псковичами, стояли рядом, играя контрастирующими формами, группируясь по живописному принципу, чуждому ренессансной ясности соотношений. Знаменательно, что и болонец Аристотель Фиораванти и миланец Алевиз Новый подпали в Москве под мощное влияние русского искусства и сохранили в своих постройках лишь немногие новые для Руси архитектурные приемы. Выстроенный Аристотелем Фиораванти в Московском Кремле Успенский собор (1475–1479) развивал формы предшествовавшей ему русской архитектуры. Прежде чем приступить к постройке Успенского собора, Аристотель совершил обширное путешествие, по русским городам; в Успенском кремлевском соборе сильно отразилось воздействие архитектуры Успенского собора во Владимире и Софии новгородской. Русские формы Успенского собора, связь их с формами владимирского Успенского собора и Софии новгородской не случайны. Иван III строил в Москве центральную святыню объединенного Русского государства. Успенский собор должен был символизировать собою русскую церковь вообще так же, как София константинопольская — греческую, как храм Воскресения: в Иерусалиме — иерусалимскую и т. д. Здесь в Успенском соборе хранилась главная святыня Русского государства — покровительница Москвы икона Владимирской Божьей Матери. Здесь в Успенском соборе происходило венчание на царство московских государей и хиротония епископов всех областей; здесь при гробе митрополита Петра произносилась епископская присяга, и т. д. Иосиф Волоцкий называет Успенский собор «земным небом, сияющим, как великое солнце посреди Русской земли».188 Митрополит Филипп говорит об Успенском соборе, что он, как солнце, сияет благочестием «в всех рускых землях».189 В таких же выражениях говорит об Успенском соборе старец Филофей в своем послании Василию III, и др. Построение нового Успенского собора было отмечено составлением в 1479 г. грандиозного летописного свода, как новая эра в русской истории. Свод этот подробно описывает в последних своих частях новгородский поход Ивана III и присоединение Новгорода; он заканчивался описанием торжественного открытия нового центра вселенского православия. Исходя из идеи Успенского собора как религиозного центра «всея Руси», создаются и все окружающие его постройки. Успенский собор обстраивается целым «кустом» церквей и зданий, в построении которых принимают участие различные архитектурные школы. На месте обветшалых укреплений Дмитрия Донского возводятся новые стены и башни Московского Кремля. Стены были построены по последнему слову фортификационного искусства, сделавшего в XV в. большой шаг вперед в связи с изобретением пороха и огнестрельного оружия. В XV — начале XVI вв. Московский Кремль был сильнейшей крепостью Европы, уступая лишь Миланскому замку, законченному в 1459 г. Своими неприступными укреплениями он как бы символизировал силу и мощь Русского государства. Пышное величие и церемониальная торжественность Московского Кремля находятся в неразрывной связи с идеями государственной власти времени Ивана III. Черты Московского Кремля отразились в стенах Нижегородского Кремля и в укреплениях Серпухова, Тулы, Зарайска в многих других русских городов. Москва, став политическим центром объединенных ею областей, распространяет свое влияние и на искусство периферии. Однако заботы об общем национальном русском облике Москвы этим не ограничились. Национальные задачи, которые стояли перед Русским государством, выставили перед архитектурой проблему переноса в каменное зодчество форм народного деревянного зодчества. Русская архитектура XVI в. идет по пути создания каменного шатрового храма. Простой образец такого храма заключался в деревянной церкви, в которой сплошь и рядом восьмигранный сруб увенчивался высокою кровлею с одной главой наверху. Этот новый тип каменного храма, заимствовавший свои формы из народного деревянного зодчества, постепенно усложняясь, достигает необыкновенной декоративности, отвечавшей народным вкусам. Первые опыты переноса форм деревянной архитектуры в каменную относятся еще к очень давнему времени. Их, повидимому, можно было указать и в домонгольской Руси. Они были и в старой Москве (церковь Ивана Лествичника с колоколами наверху, 1329), и в Новгороде (круглая, «яко столп», церковь в Хутыне, 1445), и в Александровской слободе и др. Однако только в XVI в. это проникновение в каменную архитектуру форм народного деревянного зодчества приобретает широкие размеры и идейную целеустремленность обращения к народным началам. Каменный шатровый храм Вознесения в селе Коломенском, относящийся к 1532 г., — в полной мере русская, народная во всех своих формах архитектура. Храм произвел на современников сильнейшее впечатление. Освящение его было отпраздновано Василием III необычайно торжественно. Летопись отметила его красоту и «величество»: «допрежь такой не было на Руси». Высшее достижение этого народного шатрового стиля XVI в. — собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве (1550–1560), выстроенный русскими зодчими Посником и Бармой, как памятник покорения Казани. Народные формы его архитектуры не были случайностью в строительной практике Русского государства. Иван IV строил собор, «сотворив совет благ» с инициатором ряда культурных начинаний XVI в. — митрополитом Макарием. Очевидно, авторитетное мнение последнего было решающим в принятии нового типа храма. Собор представляет собой группу из 9 «столпов», частью увенчанных шатрами, и рассчитан не столько на пластическое, сколько на чисто живописное впечатление, требовавшее от зодчих особенно тонкого художественного чутья. Храм Василия Блаженного — образец необыкновенной высоты русского строительного искусства, особенно если принять во внимание, что в эпоху его создания ни в России, ни на Западе не были еще известны основы математического расчета устойчивости архитектурных сооружений. Построению каменного собора Василия Блаженного предшествовала (за 9 месяцев) постройка деревянной церкви его на том же месте.190 На этой своеобразной «модели» практически проверялось, очевидно, общее художественное впечатление постройки, силуэт шатров и глав. Построение этой деревянной церкви, за 9 месяцев до заложения каменного храма, отчетливо доказывает гипотезу, выдвинутую еще И. Забелиным, о происхождении форм храма Василия Блаженного из народного деревянного зодчества.191 Итак, и в политике, и в литературе, и в искусстве XVI в. русские стремятся утвердить свое национальное содержание, свои национальные интересы. Россия снова вошла в среду европейских государств как равноправное государство. >VIII „ЗЕМЛЯ“-НАРОД И ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ НАЧАЛА XVII в. >Эпоха крестьянской войны и борьбы с польско-шведской интервенцией представляет собою одну из самых важных страниц русской истории по исключительной сложности и глубине влияния на всю последующую русскую жизнь. Борьба с самозванцами и польско-шведскими интервентами приняла общенародный характер и высоко подняла чувство гражданской ответственности каждого за судьбу родины. >1 Активное участие всего русского народа в обороне родины не раз спасало Русь перед лицом внешней опасности. В 1016 г. население Новгорода потребовало от Ярослава I Владимировича, продолжения борьбы с польским королем Болеславом и изменником Святополком. Новгородцы порубили ладьи, в которых Ярослав пытался бежать за море, и собрали деньги для организации нового войска. В 1068 г. отказ великого князя киевского Святослава раздать оружие населению для борьбы с половцами вызвал восстание киевлян. В 1382 г. покинутые своим князем жители Москвы сами организовали оборону своего города от войск Тохтамыша. Случаев, при которых народ активно брал в свои руки организацию обороны, — не мало, но только в период национальной борьбы начала XVII в. было осознано первостепенное значение народа. Значение народа и, в частности, крестьянства в общей жизни страны получило уже отчетливое отражение в публицистических сочинениях XVI в., поразительных своим широким и свободным обсуждением самых основ государственного устройства. Забота об облегчении тягот крестьянства видна в сочинениях монахов-«нестяжателей», в произведениях Максима Грека, в известной «Беседе Сергия и Германа Валаамских чудотворцев» и, в особенности, в исключительном по оригинальности взглядов сочинении середины XVI в. — «Благохотящим царем Правительница». Здесь с редкой последовательностью проводилась мысль о том, что земледельцы — основа государства, что жизнь страны, ее экономическое и военное могущество целиком зиждутся на труде мирных пахарей. Труд ратаев дает хлеб, который приносится жертвой Богу в таинстве Евхаристии и питает всех от царя и до простых людей. Автор «Правительницы» всячески подчеркивал, что именно земледелие и крестьянство являются в России основой государственного благосостояния. Поэтому следует облегчить крестьянский труд и сообразовать с интересами земледельцев государственное управление. Знаменательно, что многочисленные произведения конца XV–XVI вв. открыто высказываются против рабства, принижающего гражданские и воинские добродетели населения (Иван Пересветов), противоречащего основам христианского человеколюбия. Нередко в публицистических сочинениях XVI в. проводится мысль о естественном равенстве всех перед Богом. Широко задуманные и далеко идущие публицистические сочинения XVI в., ясно сознающие необходимость для государства свободного и граждански сознательного населения, во многих отношениях были общи западно-европейской политической философии XVI в. >2 Идеи публицистических сочинений XVI в. не были пустыми размышлениями досужих книжников: они отражали реальную силу демократических слоев народа, его возросшую гражданскую сознательность и политическую активность. Освободительная борьба начала XVII в. ясно обнаружила глубокое развитие во всех слоях населения чувства гражданского долга, сознание личной ответственности каждого за судьбу всей Русской земли в целом. Жители городов и сельское население — нижегородцы, смольняне, ярославцы, владимирцы, москвичи и т. д. — с готовностью соглашались на всякие личные жертвы ради спасения родины. В своем знаменитом приговоре нижегородцы писали: «Стоять за истину всем безызменно, к начальникам быть во всем послушными и покорливыми и не противиться им ни в чем, на жалованье ратным людям деньги давать, а денег не достанет — отбирать не только имущество, а и дворы и жен и детей закладывать, продавать, а ратным людям давать, чтобы ратным людям скудости не было». На этом нижегородцы дали Богу души свои. Поднятое в Нижнем национальное движение сплотило русских людей. В национальной борьбе начала XVII в. оформилась идея суверенных прав народа в организации своей государственности, всей политической жизни страны и в выборе монарха. В тревожных обстоятельствах борьбы с самозванщиной и польско-шведскими интервентами для врагов и своих становилось ясным, что только тот возьмет верх, кто будет иметь на своей стороне сочувствие большинства русского народа. Отсюда стремление интервентов во что бы то ни стало склонить народ на свою сторону, обмануть его ложными договорами, громкими обещаниями или самозванцами. Отсюда же исключительное значение идеологической борьбы с самозванщиной и интервенцией. Бесчисленные грамоты, послания, обращения, исторические сочинения, политические памфлеты, сказания разъясняют смысл происходящего. Речами поднимает Авраамий Палицын казаков на помощь ополчению. Речами поднимает Минин и протопоп Савва нижегородцев на общенародное дело борьбы с интервенцией. Города сносятся грамотами, призывают друг друга «стояти заодно», «ожить и умереть вместе». С призывом к восстанию обращаются к москвичам жители осажденного польскими интервентами Смоленска. Смольняне просили москвичей переписать их грамоту и послать ее в Новгород, в Вологду, в Нижний. Москвичи и сами писали всем русским городам, призывая итти на выручку столицы. Жители Устюга писали в Пермь, в Новгород, в Холмогоры, на Вычегду, в Сольвычегодск. Нижегородцы писали вологжанам, ярославцам и т. д. Грамоты патриарха Гермогена и троице-сергиевских старцев читались в церквах. Вся страна была охвачена единым патриотическим порывом. Народ ясно осознал себя главной силой в определении исторических судеб родины. В исторических произведениях первых годов XVII в., в бесчисленных грамотах, посланиях и приговорах, всё более и более утверждается мысль о том, что «хранитель» целости и независимости «Московского государства» — сам народ, а не бояре и цари. Мысль эта, встречаемая еще в летописи, только в исторических произведениях о событиях «всеконечного разорения» — «Смуты» первых лет XVII в. — получает законченное выражение. Понятие «земли» как верховной власти ясно выступает уже в «приговоре» 30 июня 1611 г., низводившем «правительство» (Трубецкого, Ляпунова и Заруцкого) в положение подчиненной исполнительной власти, ограниченной в своих действиях ратным советом «всей земли». «Правительство» получало за свой труд жалование и в его руководство были даны точные указания. Реальные разногласия и антагонизм классов, выяснившиеся в земском приговоре 30 июня и в последующих земских соборах начала XVII в., не умаляют значения самой проявившейся в них идеи «всей земли». Народ — разумная среда, через которую проявляется воля божья. «Земля» имеет право избрать не только временное управление, но и «помазанника божья» — царя. Мысль эта была решительною новостью в политической жизни Руси, где в бесчисленных династических спорах XI–XVI кв. прочно утвердилось представление о наследственной княжеской и царской власти. Всего несколько десятков лет назад Грозный жестоко издевался в своих грамотах над Стефаном Баторием, избранным на польский престол «по многомятежному человеческому хотению». В новых обстоятельствах начала XVII в. мысль об избрании царя «всею землею» уже не вызывала возражений во всех слоях общества. Значение воли народа как верховной силы в жизни «земли» ясно подчеркнуто даже в титулах новых деятелей. Пожарский носил титул «по избранию всех людей» или «по избранию всее земли Московского государства всяких чинов людей». Козьма Минин именовался «выборный человек всею землею». Вместо старой приказной власти, явилось выборное начало, явился выборный человек, действовавший от лица «всей земли». Насколько необходимым казалось одобрение «земли», показывает хотя бы то, что нижегородское ополчение еще на походе собирало выборных по городам, заботилось о соблюдении гласности и добивалось единодушия всей земли в своих общерусских начинаниях. Апрельская грамота Пожарского, отправленная по городам, приглашала поскорее прислать в Ярославль «изо всяких чинов людей человека по два». >3 Идея «всей земли» и сознание значения народа, демократических слоев населения в жизни государства резко отразились в общих концепциях московской историографии. Сознание исторической активности народа перерабатывало средневековые представления о силах, движущих историю. В исторические произведения начала XVII в. постепенно входит представление, что историческими судьбами Русской земли руководит не божественное предопределение, а сам народ. Это было огромным шагом вперед в исторических воззрениях начала XVII в. По обычным представлениям средневековья, скорая небесная кара постигала всякий грех. Исторические сочинения XI–XVI в. и русская летопись твердо держались той мысли, что всякое народное несчастье — нашествие врагов, голод, моровое поветрие и т. д. — было божественным наказанием за грехи людей, за их отступление от заветов религии. «Всеконечное разорение» первых лет XVII в. также рассматривалось авторами исторических сочинений о «Смуте», как казнь за грехи. Однако в определении этих грехов авторы начала XVII в. резко расходились со своими предшественниками, выражали новую точку зрения на исторический процесс. «Грехи» русских людей, вызвавшие самозванщину и интервенцию, с точки зрения авторов исторических работ начала XVII в., не были личными грехами отдельных людей, обычными нарушениями христианской нравственности. Внимание авторов привлекают грехи общественные, недостатки гражданственности и общественного самосознания. Благодаря этому, понятие «греха» как основной причины исторических несчастий переносилось из сферы идеальной в сферу реальную. «Грехи» становились реальными причинами общественных бедствий, и в этом авторы сочинений о «Смуте» приближались к новому историческому восприятию причинно-следственной связи событий. Большинство авторов, писавших о «Смуте», подробно останавливалось на тех общественных «грехах» русского общества, которые привели в начале XVII в. к установлению самозванщины и вторжению иноземцев, В описаниях этих «црехов» сказались те новые и повышенные требования, которые предъявило новое народное самосознание к гражданским добродетелям населения. В летописях XI–XVI вв. неоднократно выражались требования соблюдения национальных интересов. Но требования эти обычно были обращены к князьям, к духовенству, к боярам, к дружине. «Смута» впервые предъявила суровые требования к каждому члену общества без исключения. Сами по себе эти требования говорят о новом общественном идеале, воспитанном в годы жесточайшей национальной борьбы. Изобличая общественные пороки, приведшие к «всеконечному разорению», первые писатели о «Смуте» имели в виду повысить чувство гражданской ответственности населения. Дьяк Иван Тимофеев, составивший свой «Временник» около 1619 г., видит начало всех зол в нарушении коренных начал русской жизни и в усилившемся влиянии иноземцев. Правители преклоняли уши свои к «ложным шепотам», придавали значение доносам, вследствие чего люди были «страховиты», «изменчивы», «нестоятельны», «словопревратны», «по всему вертяхуся, яко коло [колесо]». Враги Руси воспользовались этой «превратностью» русских, чтобы наслать к ним «лжецарей». Один из главных общественных грехов русских заключался в том, что в наиболее важные исторические моменты они были безгласны, как рыбы. При всеобщем молчании и попустительстве Борис Годунов преступлением добился престола: «онемеша бо языки их и уста затвориша ото мзды; вся же чувства каша паче страхом ослабеша». Тимофеев особенно выделяет именно этот недостаток «мужественные крепости» — пассивное и раболепное «бессловесное молчание» перед сильными мира сего.192 Еще резче об этом недостатке гражданской смелости говорил в своем «Сказании» Авраамий Палицын. Он называет его — «всего мира безумным молчанием» и в этом «безумном молчании» видит основной общественный порок, повлекший за собой ослабление государства.193 Авторы единодушно говорят о недостатке согласия у русских. Из-за своего «несогласия» и гражданского «немужества», — пишет Тимофеев, — русские не только допустили убийство царевича Дмитрия, но затем «бессловесно» сносили мерзости и тгечестие ииославных. «Разность» эта придала крепость врагам Руси. Враги разорили ее и надругались над ее святынями.194 «Не чуждии земли нашей разорители, но мы сами ее потребители».195 В руках народа — его судьба. Как причину «Смуты», авторы выдвигают и социальную несправедливость, разорение бедных богатыми, взяточничество и неправосудие. Неправедно собранными богатствами не искупить греха: излишни заботы богатых о красоте церквей, если она создалась из граблений и посулов. Бог не принял этой жертвы, и неправедная церковная красота подверглась разграблению иноверных. Настоящий храм божий — сам народ: «Писано бо есть, яко „вы есте храм бога жива“… храм — не стены камяны и древяны, но народ верных…»,196 — говорит Авраамий Палщын, выражая характерную для своего времени мысль о единственной и абсолютной ценности народа. В самом народе — источник его бедствий и его освобождения от иноземного ига. В этом осознании значения народа в исторической жизни страны — пафос эпохи. Авраамий Палицын приводит многочисленные случаи мужественной борьбы русских с иноземными захватчиками. Живо и талантливо рассказывает он об освобождении Москвы и о героической защите Троице-Сергиевой лавры, давая в своем изложении многочисленные примеры народного героизма. Так, например, Авраамий Палицын рассказывает о том, как возмущенный изменой брата простой воин Даниил Селев заменил его собой в рядах бойцов и пал в бою. Таким образом, писатели первой четверти XVII в., изобличая общественные пороки, а с другой стороны, показывая героизм простых и малозаметных людей, создавали новые идеалы гражданского служения родине. Итак, эпоха национальной борьбы с самозванщиной и интервенцией отчетливо выдвинула значение народа («земли») в исторической жизни страны. Это значение народа сказалось непосредственно в ходе событий и было осознано исторически. >4 Насколько глубоко проникли в народ новые исторические представления, показывает «Новая повесть о преславном Российском государстве», написание которой отноштся либо к концу 1610 г., либо к самому началу 1611 г. Она сохранилась в единственном списке; ее автор — какой-то приказный — безвестен; название ее — позднейшее, приписанное чужою рукою сверху. Это прокламация, «подметное письмо», брошенное на улицах Москвы с призывом восстать и изгнать из Москвы гарнизон польских интервентов. «А сему бы есте письму верили без всякого су мнения», — обращается автор к москвичам. Он просит не «таить» его письмо, а распространять среди верных людей: «И кто сие письмо возмет и прочтет, и он бы его не таил, давал бы рассмотряючи и ведаючи своей братии православным христианом прочитати вкратце, который за православную веру умрети хотят, чтобы было ведомо, а не тайно». Изменникам, которые «со враги соединилися», — тем бы «есте отнюдь не сказывали и не давали прочитати».197 Письмо написано со страстной убежденностью, ясным, простым и народным языком, частью прозой, частью стихами.198 «Приидите, приидите православни. Сами видите, — обращается автор письма к москвичам, — какое гонение и утеснение воздвигалось на русских: «Всегда многим смертное посечение, Описав злодеяния польских интервентов, автор восклицает: «То ли вам не весть, Автор не жалеет слов для изобличения бояр-изменников и среди них боярина Салтыкова и думного дьяка Андронова. Но письмо — не простой призыв к восстанию. Оно подробно и разумно освещает создавшуюся в стране обстановку. Автор ставит в пример москвичам граждан осажденного Смоленска, мужеством своим прославивших себя не только в России, но и в Литве, и в Польше, и до самого Рима. «И хотят славне умрети, нежели бесчестне и горько жити».206 На краю государства смольняне храбро отбиваются от врагов, которые под Смоленском, как и здесь в Москве, «на сердцах наших стоят». Если бы не Смоленск, войско Сигизмунда давно было бы в Москве. Русские в Смоленске держат короля не за голову, не за руку, не за ногу, а за самое сердце его злонравное и жестокое. Как русские в Смоленске, так в Москве один против всех отбивается патриарх Гермоген. Как эпический герой, патриарх, «исполин безоружный», поражает врагов словом своим и движет народом, сам оставаясь непоколебимым и неодолимым препятствием для врагов. Если он умрет и народ сам не встанет на свою защиту, то погибнут государство и православие. Автор «письма» приводит своеобразную политическую философию. Восстание на врагов — это «подвиг» и «радение». Только вооруженное восстание может искупить грехи русских людей, за которые Вог покарал русских испытанием иноземного ига. Эта точка зрения исключительна по религиозной смелости. Автор говорит о том, что польские интервенты боятся восстания русских. Они действуют осторожно, стремясь прельстить русских ложным уважением к их святыням. Они стоят с мечом над головою русских людей, постепенно стягивая подкрепления; закрыли кремлевские ворота, оставив для русских только узкие двери, в которых стоит шум и визг, как будто бы давят мышей. Польские интервенты хотят властвовать в Москве, но не имеют достаточных сил. Между тем народ могуществен и велик, как море. В этом «великом и недержанном мори» боятся потонуть интервенты. Поэтому хитростью и лестью они сдерживают его возмущение: «Видя зде в мире колебание «Новая повесть о преславном Российском государстве» — одно из первых в русской литературе выступлений средних классов населения. Ее содержание знаменательно. Ни одно из литературных произведений, вышедших из посадской и приказной среды во второй половине XVII в., не заявляет с такой определенностью о силе и могуществе народного «моря». «Смута» произвела глубокие изменения в политических представлениях русского общества. В момент наибольшей опасности для Руси, когда, казалось, иноземцы прочно укрепились в Москве, когда от Русского государства сохранились лишь кое-какие «останки», когда, наконец, русские сознавали, что не было еще в мировой истории «таково наказания ни на едину монаршию, ниже на царства и княжения, еже случися над превысочайшею Россиею», — в этот момент «последние люди» поднялись на защиту родины. В политических потрясениях «великой разрухи» родилась твердая уверенность в силе народа, родились мысли о «земском деле», о «всей земле»; сознание верховного значения народа и его интересов в государственной жизни страны. Это новое политическое сознание, выросшее в ужасах «последнего разорения», когда низшие и средние классы сделали отчаянное усилие для спасения Руси, — явилось предвестием нового времени. >Комментарии id="c_1">1 Доклад на Съезде советских писателей 17 августа 1934 г. id="c_2">2 Изд. 3, Л., 1939, стр. 5. id="c_3">3 А. А. Шахматов. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908, стр. 226 и др. id="c_4">4 См. об этом: Д. И. Прозоровский. Новые разыскания о новгородских посадниках. СПб., 1892, стр. 3. id="c_5">5 Лаврентьевская летопись под 985 г. id="c_6">6 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 377. id="c_7">7 Там же, стр. 378. id="c_8">8 Всев. Миллер. Очерки русской народной словесности, т. II. 1910, стр. 1–31. id="c_9">9 Марков. Беломорские былины. М., 1901, №№ 50 и 80. id="c_10">10 Астахова. Былины Севера, т. I. М.-Л., 1938, № 15. id="c_11">11 А. В. Марков. Из истории русского былевого эпоса, вып. 1. 1905, стр. 30–66. id="c_12">12 Повесть временных лет под 1061 г. Мотив загадывания загадки с последующим убийством неудачного отгадчика и др. id="c_13">13 Здесь и далее, слова в цитатах, взятые в прямых скобках, принадлежат автору настоящей работы Д. С. Лихачеву. id="c_14">14 Провар — то количество меда, которое можно сварить за один раз, — очевидно несколько ведер. id="c_15">15 Ипатьевская летопись под 964 г. id="c_16">16 Шелковые ткани. id="c_17">17 Ипатьевская летопись под 970 г. id="c_18">18 Там же под 971 г. id="c_19">19 Там же под 1201 г. id="c_20">20 Лаврентьевская летопись под 945 г. id="c_21">21 Там же. id="c_22">22 См. его Historia V, 7. Migne SGr. 133 col., 569–581. id="c_23">23 Пл. Соколов. Русский архиерей из Византии. Киев, 1913, стр. 12–13. id="c_24">24 В. Г. Васильевский, Труды, т. I, стр. 304. id="c_25">25 Аналогично смотрел на болгар Василий Болгаробойца, отказавшийся видеть в них воюющую сторону и тысячами ослеплявший пленных болгар, как бунтовщиков. id="c_26">26 Мы не останавливаемся на спорной проблеме Охридского архиепископата, в данном случае для нас несущественной. См. об этом: М. Д. Приселков. Очерки по церковно-долитической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 1913, стр. 33 и сл. id="c_27">25 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 539 и сл. Мы пользуемся гипотетическим восстановлением свода у Шахматова. Однако к какому времени ни относить составление свода Ярослава и в каком объеме его ни восстанавливать, — общий характер свода от этого не меняется. id="c_28">28 М. Д. Приселков. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 1913, стр. 82. id="c_29">29 Там же, стр. 84. id="c_30">30 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940. стр. 26. id="c_31">31 М. Д. Приселков. Очерки…, стр. 82. id="c_32">32 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 553. id="c_33">33 Там же, стр. 556–557. id="c_34">34 Там же, стр. 562. id="c_35">35 Там же, стр. 577. id="c_36">36 Там же, стр. 546–547. id="c_37">37 Там же, стр. 578. id="c_38">38 Там же, стр. 542. id="c_39">39 Там же, стр. 550. id="c_40">40 Там же, стр. 547. id="c_41">41 Там же, стр. 563. id="c_42">42 Там же, стр. 564. id="c_43">43 Там же, стр. 583–584. id="c_44">44 Там же, стр. 583. id="c_45">45 Акад. Б. Д. Греков. Развитие исторических наук в СССР за 25 лет. Под знаменем марксизма, 1942, № 11–12. id="c_46">46 Памятники древне-русской церковно-учительной литературы, под ред. А. И. Пономарева, вып. I. СПб., 1894, стр. 59. id="c_47">47 Там же, стр. 59. id="c_48">48 С. П. Шевырев. История русской словесности, ч. 2. Изд. 2, М., 1860, стр. 26. id="c_49">49 Памятники…, стр. 63. id="c_50">50 Там же, стр. 62. id="c_51">51 И. Н. Жданов, Соч., т. I, стр. 80. id="c_52">52 Памятники. стр. 66. id="c_53">53 Общее оптимистическое жизнерадостное содержание «Слова», настроение торжества, повидимому, свидетельствуют о том, что «Слово» возникло до похода Владимира Ярославича 1043 г. id="c_54">54 М. Д. Приселков. Очерки…, стр. 66 и сл. id="c_55">55 А. А. Шахматов. Сборник статей в честь В. И. Ламанского, Ч. II. СПб., 1906, и рец. Шестакова, Журнал Мин. нар. просв., нов. серия, ч. XIII, 1908, январь. id="c_56">56 И. Н. Жданов, Соч., т. I, стр. 19. id="c_57">57 Памятники…, стр. 67. id="c_58">58 Там же. id="c_59">59 Там же, стр. 68 (исправляю в тексте опечатки издания. — Д. Л.). id="c_60">60 Там же, стр. 69. id="c_61">61 Там же, стр. 69. id="c_62">62 Там же, стр. 69–70. id="c_63">63 Там же, стр. 70. id="c_64">64 Там же. id="c_65">65 Там же, стр. 70. id="c_66">66 Там же. id="c_67">67 Там же, стр. 70. id="c_68">68 Там же. id="c_69">69 Там же, стр. 72. id="c_70">70 Там же, стр. 73. id="c_71">71 Там же, стр. 75. id="c_72">72 Там же, стр. 78. id="c_73">73 Первоначально считали, что «Слово» было направлено против иудейского учения. Мнение это опроверг акад. И. Н. Жданов (Соч., т. I, 1872; стр. 1–80). id="c_74">74 В. М. Истрин. Очерк истории древнерусской литературы; т. II. 1922, стр. 131. id="c_75">75 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 398 и сл. id="c_76">76 М. Д. Приселков. Очерки…, стр. 98. id="c_77">77 Памятники…, стр. 74. id="c_78">78 Там же. id="c_79">79 Д. В. Айналов и Е. Редин. Древние памятники искусства Киева, т. X. 1899, стр. 5. id="c_80">80 Памятники…, стр. 60. id="c_81">81 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 583. id="c_82">82 Памятники…, стр. 74. id="c_83">83 Д. В. Айналов и Е. Редин. Древние памятники…, т. X. 1899, стр. 39–40. id="c_84">84 Памятники…, стр. 65. id="c_85">85 Там же…, стр. 75. id="c_86">86 Памятники древней письменности, т. 81, стр. 25. См. об этом: Пл. Соколов. Русский архиерей из Византии. Киев, 1913, стр. 51. id="c_87">87 Акты и стар., I, № 78, стр. 128. id="c_88">88 См. выше в послании митрополита Феодосия 1464 г. id="c_89">89 Прибавления к творениям св. отец, т. II, стр. 255. id="c_90">90 Разыскания…, стр. 582. id="c_91">91 Акад. Н. К. Никольский. О древнерусском христианстве. Русская мысль, 1913, кн. 6, стр. 12. id="c_92">92 М. Д. Приселков. Борьба двух мировоззрений. Сб. «Россия и Запад», под ред. А. И. Заозерского. II, 1923. id="c_93">93 М. П. Петровский. Иларион, митрополит Киевский, и Доментиан, иеромонах хнландарский. Известия ОРЯС, 1908, кн. 4. id="c_94">94 История русской литературы, т. I. Изд. Инст. литер. Акад. Наук СССР, М.—Л., 1940, стр. 271 (гипотеза покойного В. Л. Комаровича). id="c_95">95 Лаврентьевская летопись под 1054 г. id="c_96">96 Ср. в «Слове о полку Игореве» — «земля незнаема» — половецкая степь. id="c_97">97 Лаврентьевская летопись под 1093 г. id="c_98">98 Там же, введение. id="c_99">99 Т. е. наваром из кислой травы, которым мылись в бане. id="c_100">100 Лаврентьевская летопись, введение. id="c_101">101 Там же под 992 г. id="c_102">102 Там же под 1097 г. id="c_103">103 Там же. id="c_104">104 Там же. id="c_105">105 Ипатьевская летопись под 1097 г. id="c_106">106 Лаврентьевекая летопись под 1097 г id="c_107">107 Там же. id="c_108">108 Там же. id="c_109">109 Там же под 1096 г. id="c_110">110 Там же под 1095 г. id="c_111">111 Акад. Б. Д. Греков. Киевская Русь. Изд. 3, M.-Л., 1939, стр. 277. id="c_112">112 Н. И. Брунов. К вопросу о самостоятельных чертах русской архитектуры X — ХII вв. Сб. «Русская архитектура», 1940. id="c_113">113 История русской литературы, т. I. Изд. Инст. литер. Акад. Наук СССР, М. — Л., 1941, стр. 212 и сл. id="c_114">114 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 44. id="c_115">115 Новгородская летопись по Синод. сп., изд. 1888 г., стр. 145. id="c_116">116 Там же, стр. 160. id="c_117">117 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 40. id="c_118">118 А. Е. Пресняков. Лекции по русской истории, т. I. 1938, стр. 239. id="c_119">119 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 64. id="c_120">120 А. А. Шахматов. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв., Л., 1938, стр. 131. id="c_121">121 Предлагаемая ниже характеристика черниговского летописца несколько расходится с построением истории русского летописания XII в. в работах А. А. Шахматова и М. Д. Приселкова. id="c_122">122 Ипатьевская летопись под 1185 г. id="c_123">123 Акад. А. С. Орлов. Слово о полку Игореве. Л., 1938, стр. 48. id="c_124">124 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXII, М.—Л., 1931, стр. 48. id="c_125">125 «Кощей» (от тюркского «кошчи») — конюх, обозный, раб, пленник. «Чага» (от арабского asaha) — невольница. «Ногата» и «резань» — древнерусские единицы. id="c_126">126 А. Рублев умер в 1427 или 1430 г., в возрасте около 60–70 лет. Следовательно, надо считать, что он родился в 60-х — 70-х годах XIV в. id="c_127">127 Н. Каринский. Русская надпись в люблинском тюремном костеле. Известия Археологической комиссии, вып. 55, Пгр., 1914; акад. А. Соболевский. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. Спб., 1910; он же. Русские фрески в старой Польше. М., 1916; F. Kopera. O malarstwie bizantyskiem w Polsce. Polski Muzeum, Z. VIII, Krakow. id="c_128">128 К. Иречек. История болгар. Одесса, 1878, стр. 984–986. id="c_129">129 И. Ягич. Исследования но русскому языку, т. I, стр. 396 и др. id="c_130">130 А. А. Шахматов. Общерусские летописные своды XIV и XV веков. Журнал Мин. нар. просв., 1900, т. IX, стр. 91. id="c_131">131 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 113 и сл. id="c_132">132 Датировка М. Д. Приселкова (там же, стр. 128 и сл.). id="c_133">133 См. об этом подробно: А. А. Шахматов. Общерусские летописные своды XIV и XV веков. Журнал Мин. нар. проев., 1901, т. XI, стр. 73–77. id="c_134">134 Характер этой перемены вскрыт В. Л. Комаровичем в главе «Московские летописи» II тома академической «Истории русской литературы». М.—Л., 1945. id="c_135">135 См.: Летописец Рогожский. Полное Собрание русских летописей [ПСРЛ], т. XV, изд. 2, вып. 1, 1922, стр. 144 и сл.; Симеоновская летопись. ПСРЛ, т. XVIII, 1913, стр. 131 и сл. id="c_136">136 Симеоновская летопись. ПСРЛ, т. XVIII, СПб., 1913, стр. 156. id="c_137">137 Там же, стр. 157. id="c_138">138 Там же, стр. 158. id="c_139">139 Там же, стр. 159. id="c_140">140 Проф. Н. Н. Воронин. Владимиро-суздальское наследие в русском зодчестве. Архитектура СССР, 1940, № 2; И. Грабарь. Андрей Рублев. Вопросы реставрации, вып. 1, стр. 65 и сл.; 0 росписях Успенского собора во Владимире, там же, стр. 22–33. id="c_141">141 Ср., например, в Симеоновской летописи, где татары названы половцами под 1378 г., а татарская степь — половецкой под 1380 г. и т. д. Ср. также Летописец Переяславля Суздальского, где печенеги и половцы неоднократно называются татарами. Очевидно, «Повесть временных лет» воспринималась современниками Донской битвы в сопоставлении с событиями этой современности. История Руси представлялась историей непрекращающихся войн со степными народами, войн за независимость. id="c_142">142 Ф. Буслаев. Рецензия на работу О. Миллера «Илья Муромец и богатырство Киевское». Журнал Мин. нар. просв., 1871, 4, стр. 217. id="c_143">143 А. Н. Веселовский. Из введения в историческую поэтику. Собр. соч., т. I, стр. 36–37. id="c_144">144 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 443. id="c_145">145 Ю. Н. Дмитриев. К истории новгородской архитектуры. Новгородский исторический сборник, вып. 2, Л., 1937. id="c_146">146 Новгородская IV летопись. ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, Л., 1925, стр. 444. id="c_147">147 Новгородская III летопись. Новгородские летописи, СПб., 1879, стр. 271. id="c_148">148 В. Яблонский. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб.1908, стр. 100. id="c_149">149 Памятники старинной русской литературы, издававшиеся Кушелевым-Безбородко, вып. 4, 1862, стр. 30. id="c_150">150 ПСРЛ, Т. IV, Ч. 1, вып. 2, Л., 1925 стр. 448. id="c_151">151 Там же, стр. 446. id="c_152">152 Там же, стр. 447. id="c_153">153 Там же, стр. 498. id="c_154">154 Там же, стр. 504. id="c_155">155 Там же, стр. 513. id="c_156">156 Софийская II летопись под 1471 г. id="c_157">157 См. подробнее: А. А. Шахматов. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв. Л., 1938, стр. 371 и др. id="c_158">158 Софийская II летопись под 1475 г. id="c_159">159 Проф. Успенский. Брак царя Ивана III. Исторический Вестник, 1887, № 12, стр. 689. Ср. также: О. Пирлинг. Россия и Восток, стр. 103, 166. id="c_160">160 Сборник импер. Русского исторического общества, т. 53, стр. 85 и сл. id="c_161">161 Там же, стр. 91. id="c_162">162 Там же, стр. 92. id="c_163">163 Там же, стр. 86. id="c_164">164 Софийская II летопись под 1481 г. id="c_165">165 Сочинения Максима Грека, 1889, «Слово» VII. id="c_166">166 Н. П. Лихачев. Инока Фомы слово похвальное о князе Борисе Александровиче! СПб., 1906. id="c_167">167 По мнению некоторых исследователей — Ивана IV. id="c_168">168 В. Малинин. Старец Елеазарова монастыря Филофей… Киев, 1901» стр. 547. id="c_169">169 Малинин, там же, Приложение, стр. 50. id="c_170">170 Православный собеседник, 1861, ч. II, стр. 297. id="c_171">171 Отличие теории Филофея от официальной идеологии московского правительства отмечает и В. Малинин. Он пишет о Филофее: «у него с большею полнотою и определенностью выступает теория мирового призвания России, как царства не только единственно православного, но и последнего, призванного существовать до конца вселенной. Отсюда в несколько ином обосновании выступает у него и теория царской власти» (Старец Елеазарова монастыря Филофей… 1901, стр. 616). id="c_172">172 Suppl. ad Historica Russiae Monumenta, p. 102. Цитирует Е. Голубинский. История русской церкви, т. I, ч. 1, стр. 8. Предание о посещении апостола Андрея попадает в XVI в. в Степенную книгу (I, 95–97) и другие. id="c_173">173 Сочинения Максима Грека, 1889, «Слово» VII. id="c_174">174 Собрание государственных грамот и договоров (СГГиД), т. I, стр. 71, 73, 78, 81, 84, 87, 89, 92, 98, 101, 103, 108, 111, 114, 117, 120, 122, 125,128, 131, 348, 158, 161, 164, 167, 180, 184, 197, 201, 205, 229. id="c_175">175 ПСРЛ, т. VI, стр. 20 и 224; т. VIII, стр. 206; Никоновская, т. VI, стр. 112. id="c_176">176 Памятники дипломатических сношений древней Руси с державами иностранными, т. I, стр. 46, 47, 59–61, 87, 96–93, 114. id="c_177">177 Там же, стр. 12. id="c_178">178 В 1495 г. при дворе Ивана III появились новые чины: казначея, постельничьего, ясельничего, и с 1496 г. — конюшего (М. П. Шереметьев. Список старинных бояр, дворецких, окольничьих и некоторых других придворных чинов. Др. Российская Вивлиофика, т. XX, изд. 2, стр. 8). id="c_179">179 Памятники дипломатических сношений…, т. I, стр. 17. id="c_180">180 И. Н. Жданов. Русский былевой эпос. Исследования и материалы, т. I–V, СПб., 1895. id="c_181">181 Theiner. Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, т. II, № 257. Romae, an. 1861. Цитирует: В. Савва. Московские цари и византийские-василевсы, 1901, стр. 274. id="c_182">182 Сборник импер. Русского исторического общества, т. 35, стр. 80–82 и др. id="c_183">183 Там же, т. 59, стр. 309 и сл. id="c_184">184 Там же, стр. 345. id="c_185">185 Там же, стр. 451. id="c_186">186 Там же, стр. 474 и сл. id="c_187">187 Там же, стр. 504 и сл.; стр. 519 и сл. id="c_188">188 Иосиф Волоцкий. Просветитель. Печати, изд. Казанск. духовн. акад.,л. 57. id="c_189">189 Русская историческая библиотека, т. VI, столб. 723. id="c_190">190 См. «Летописец Русский», изданный А. Н. Лебедевым (Чтения в Обществе истории и древностей российских, 1895, вып. 3), — известие о построении храма Покрова в октябре 7063 г. (1553) (стр. 31) и затем под июнем 7063 г. (1554): «Того же месяца благоверный и христолюбивый царь и великий государь велел заложит церковь камену Покров Пречистыя Богородицы о девяти верхах, которой был преже древян о Казанском взятии у Фроловских ворот» (стр. 36). id="c_191">191 И. Забелин. Черты самобытности в древнерусском зодчестве. id="c_192">192 Русская историческая библиотека, т. XIII, СПб., 1892, стр. 463 и сл. id="c_193">193 Там же, стр. 479. id="c_194">194 Там же, стр. 463 и сл. id="c_195">195 Там же, стр. 465. id="c_196">196 Там же, стр. 516–517. id="c_197">197 Там же, стр. 218. id="c_198">198 Стихотворная форма «Новой повести» до сих пор не была отмечена. id="c_199">199 Русская историческая библиотека, т. ХIII, стр. 200. id="c_200">200 Там же, стр. 210. id="c_201">201 Траве. id="c_202">202 Русская историческая библиотека, т. XIII, стр. 210. id="c_203">203 Слова, заключенные в скобки, очевидно, позднейшая разъясняющая вставка. id="c_204">204 Русская историческая библиотека, т. XIII, стр. 212. id="c_205">205 Там же, стр. 213. id="c_206">206 Там же, стр. 189. id="c_207">207 Там же, стр. 202. VII РОССИЯ И ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В XVI в. >С конца XV в. объединенное Русское государство становится лицом к лицу с Литвой, Польшей, Ливонией, Швецией, Турцией, Ираном. Москва завязывает непосредственные отношения с европейскими странами: Австрией, Венгрией, Венецией, Римом, Германией, Данией. Русское правительство вступает в различные союзы со странами Западной Европы; оно вызывает архитекторов, ремесленников, горноделов, оружейных мастеров, которые вместе с русскими участвуют в общем прсмышленном подъеме страны. Деятельные сношения Русского государства с другими странами вызывают рост национального чувства, чувства гордости за свою родину. Тверской купец Афанасий Никитин, на 25 лет раньше западно-европейских путешественников проникший в Индию (1466–1472) и составивший о ней обстоятельные и умные записки, повидав многие страны, писал: «Да сохранит Бог землю Русскую! боже, сохрани ее! в сем мире нет подобной ей земли. Да устроится земля Русская».158 Русских путешественников и дипломатов, ездивших в Западную Европу в конце XV и XVI вв., всегда отличала крепкая уверенность в себе, в своем достоинстве представителей России. Русские дипломаты умело пользуются своею историческою ученостью и создают сложную теорию власти московских государей, высоко поднимавшую авторитет русского монарха над остальными европейскими королями и правителями. Это была творческая политическая идеология, направлявшая политику Русского государства по пути защиты национальных интересов, национальной культуры в сложной среде европейской цивилизации. Такова ведущая линия отношений России к Западной Европе в XVI в. >1 Не только Россия была заинтересована в конце XV–XVI вв. в деятельных сношениях с европейскими странами. Сами западно-европейские государства наперерыв стремятся к союзу с могущественной страной на Востоке Европы. Необычайные военные успехи Турции во второй половине XV в. вселили ужас и смятение в среду европейских народов. В 1453 г. после двухмесячной ожесточенной осады пал Константинополь. В 1459 г. была завоевана Сербия и обращена в турецкий пашалык. В 1460 г. турки завоевали Афинское герцогство и вслед за ним всю Грецию. В 1462 г. они захватили Лесбос и Валахию, в 1463 г. — Боснию, в 1467 г. — Албанию, а затем Герцеговину. В 1476 г. турки опустошили Молдавию, а в 1479 г. заключили победоносный мир с Венецией и Неаполем. Расцвет турецкого могущества на Востоке совпал с ростом силы и международного престижа молодого Русского государства. Иван III деятельно сносится с западно-европейскими государствами, и западные властители усиленно стремятся польстить самолюбию восточного государя обещаниями королевского титула и признанием за ним прав на константинопольское наследство. Западно-европейские государства всячески стремятся вселить Ивану III мысли о владычестве на Востоке, столкнуть Москву с Турцией и тем самым сделать Русское государство послушным орудием своей политики. Одно из первых мест в этих завязавшихся сношениях Западной Европы с Москвою принадлежало папе. Маня и соблазняя Ивана III византийским наследством, римская курия стремилась вовлечь Москву в общеевропейский союз для борьбы с исламом. Именно для этого и был задуман в Риме брак Ивана III с Софией Палеолог — племянницей последнего византийского императора Константина VIII. В пути византийскую принцессу сопровождал легат папы. В Риме надеялись приобрести в супруге царевны не только нового союзника против Турции, но и, возможно, нового члена католической церкви. Вскоре после брака Ивана III и Софии Палеолог сениория Венеции, всегда точная и осторожная в своих решениях, писала Ивану III, что Византия «за прекращением императорского рода в мужском колене должна принадлежать вашему высочеству в силу вашего благополучнейшего брака».159 Но Иван III не был склонен к войне с турками. В 1495 г. в Константинополе появились московские послы, чтобы обеспечить русским купцам беспрепятственную торговлю с Турцией. Попытки соблазнить Москву константинопольским наследием и вовлечь Русское государство в войну с Турцией особенно усилились при Василии III. В 1519 г. магистр прусского ордена сообщал Василию III через своего посла Дитриха Шонберга о желании римского папы «наияснейшаго и непобедимейшаго царя всеа Русии короновать в христьянского царя»160 с тем только, чтобы Василий III принял участие в антитурецком союзе. В ходе переговоров Шонберг говорил о союзе против «християнского врага Турка, кой держит наследие царя всеа Русии».161 Однако московские бояре отвечали Шонбергу, что Василий «хочет вотчины своее земли Русские»,162 и не приняли во внимание «костянтинополскую отчину»,163 на которую указывал им Шонберг. Ни Иван III, ни Василий III, ни Иван IV не были склонны к войне с Турцией из-за византийского наследия. Властители Запада напрасно обольщали себя надеждой общего с Москвою крестового похода против ислама. В Москве иначе смотрели на константинопольское наследие и нисколько не заботились о земельных приобретениях в Турции. Грозный не дал ответа австрийскому императорскому посольству 1576 г. на предложение «цесарства греческого» и титула «всходного цесаря» (царя Востока); он не дал его, несмотря ка все свое ревнивое отношение к признанию своего царского титула на Западе. Несмотря на состоявшийся брак Ивана III с Софией Палеолог, расчеты папской курии на то, что московские государи отныне будут считать себя наследниками византийских императоров, не оправдались. Московские государи ни разу не заявили своих прав на императорский титул, несмотря на то, что германский император Максимилиан I сам называл Василия III императором, и ни разу не обнаружили притязаний наследовать права Софии Палеолог на Византию. Пересматривая многочисленные доказательства прав, которые предъявляли московские великие князья на царский титул, мы нигде не найдем ссылок на получение этих прав через брак Ивана III с Софией Палеолог. Обращаясь к восточным патриархам за утверждением царского титула, Иван IV говорит о своем родстве с византийскими императорами, но ни разу не вспоминает своей бабки Софии Палеолог. Не упоминает о родстве московских великих князей с византийскими императорами через Софию Палеолог и официальная литература Москвы XVI в. — «Сказание о князех Владимирских», повести о Мономаховых регалиях и дипломатическая переписка Москвы. Это молчание официальной литературы XVI в. о правах Московского престола, полученных через брак Ивана III с Софией, находит себе соответствие в той крайней нелюбви народа к Софии, о которой единогласно свидетельствуют летописи, Курбский, Берсень-Беклемишев и даже иностранец С. Герберштейн. В Москве склонны были видеть в Софии царственную сироту, нашедшую себе приют в могущественном государстве, а не могущественную наследницу держанных прав Империи. В Софийской II и Воскресенской летописях, после описания похода Ивана III на Угру, летописец поместил воззвание к потомкам хранить независимость своего отечества. Это воззвание заключалось явным намеком на отца Софии — Фому Палеолога и на его сыновей, один из которых (Андрей) дважды безрезультатно приезжал на Русь торговать правами византийских императоров: «О храбрии, мужественной сынове Русьстии! потщитеся сохранити свое отечество, Русьскую землю, от поганых; не пощадите своих голов, да не узрят очи ваши пленения, и грабленное святым церквем и домом вашим, и убиения чад ваших, ж поругания женам и дщерем вашим. Якоже пострадаша инии велиции славнии земли от Турков, еже Волгаре глаголю к рекомии Греци, и Трализонь, и Амория, и Арбанасы, и Хорваты, и Боша, и Манкуп, и Кафа и инии мнозии земли, иже не сташа мужественней пошбоша и отечьство свое изгубиша н землю и государьство, и скитаются по чюжим странам беднл во истинну и странни, и много плача и слез достойно, укоряема н повоошаеми и оплеваеми, яко не мужествензии… Тако ми бога видех своима очима грешнима великих государь, избегших от Турков со имением и скитающиеся яко странни и смерти у бога просящих яко мздовъздаяния от таковыя беды».164 Ясно, кажется, что «избегшие от турков» и «смерти у бога просящие» родственники византийских императоров не могли упрочить блеск русских государей и что не на родстве с ними основывалась величественная идеология Русского государства. >2 Идею «греческого наследия» внушали русскому правительству не только западные державы. Сами греки, часто приезжавшие на Русь после падения Константинополя, греческие церковные власти, обращавшиеся на Русь за материальной поддержкой, проводили в своих домогательствах ту же «греческую идею». Суть ее в общих чертах заключалась в том, что с гибелью императорской власти в Византии единственным защитником православия и греков остается московский великий князь, к которому и должны были перейти все права и обязанности императора второго Рима — Византии. Греки — турецкие послы всячески стремились расстроить мирные отношения русских с Турцией; так было при султане Селиме и Сулеймане Великолепном. Особенно известен был этой своей изменнической по отношению к Турции политикой турецкий посол, грек по происхождению, Скиндер. Русские требовали смены Скиндера, но греческая партия была сильна в Турции: Скиндер оставался на своем посту и сыграл исключительную роль в провале идеи союза, что подтвердилось после его смены в Москве в 1529 г. Максим Грек систематически проводил идею освобождения Греции военной силой Русского государства. Он побуждал великого князя тем, что «бог грекам от отеческих престол наследника покажет»,165 т. е. тою же мыслью о правах московских князей на константинопольское наследство. Не чужда была той же идеи и среда русского духовенства, издавна воспитанная в политических представлениях византинизма. Именно в этой среде, близкой к грекам, зрела с конца XV в. мистическая теория движущегося Рима. Эта теория, возникшая на почве византийской теории всемирной супрематии императора второго Рима (Византии), пыталась перенести на московских государей византийские представления об императорской власти и рассматривала великих князей московских как законных и единственных наследников императоров Вечного Рима. Суть этой теории сводилась к следующему: в мире существует только одно христианское богоизбранное государство, которое не может пасть до скончания века — Вечный Рим. Но Рим этой теории — не неподвижный Рим, связанный с определенной территорией. Первый Рим пал, уклонившись в нечестие, потеряв чистоту христианской религии; второй Рим — Византия, примкнув в Флорентийской унии к первому, был завоеван турками. Отсюда родилась мысль, что Вечный Рим живет в каком-то новом государстве, оставшемся верным православию. И его искали то в Твери,166 то в Новгороде и, наконец, в Москве, необычайно быстрый рост которой совпал по времени с гибелью Византии. Естественно, что вся всемирно-исключительная роль, которая отводилась в Византии императору второго Рима как защитнику церкви и главе всех христиан, переходила теперь, с падением второго Рима, к главе третьего Рима — великому князю московскому. Эту теорию неоднократно внушали Василию III представители церкви. Дважды ее изложил в своих посланиях к Василию III старец Елеазарова монастыря Филофей, который, соответственно обычному титулу византийских, императоров «святой», называет Василия III167 «освященная глава»168 и применяет к нему другие обычные титулы византийского императора: «браздодержатель святых божиих церквей», «святыя православныя христианскыя веры содержатель» и др. Видя в Василии III главу всех ромеев, Филофей пишет ему: «един ты во всей поднебесной христианом царь»;169 а в другом послании: «един [есть] православный русский царь во всей поднебесной». Еще резче идея всемирной власти великого князя московского выражена Максимом Греком. Василия III Максим Грек называет «благочестивейший царю не токмо Русии, но всея подсолнечный».170 Однако теория, предложенная Филофеем Василию III, была резко отлична от творческой политической теории, направлявшей меч великокняжеской власти. В противоположность наименованию московских великих князей «едиными государями во всей подсолнечной», официальная терминология точно и определенно называла их великими князьями (или царями) «всея Руси». «Блестящее марево всемирной власти», которое пытались открыть перед московскими государями в заманчивой дали сторонники теории «Москва — третий Рим», никогда не прельщало московское правительство, неуклонно стремившееся к единой близкой и конкретной цели воссоединения «всея Руси».171 Русские великие князья упорно настаивали на своих извечных правах на царство и не желали принимать свой царский авторитет из Византии, позорно утратившей свою независимость. Не по наследству, не по милости греков получили русские монархи царский титул. Русские князья «изначала государи на своей земле». Эти идеи проводятся во всех официальных документах XV–XVI вв. в дипломатической переписке, посланиях, завещаниях, официальных речах и соборных постановлениях. Не случайно Иван Грозный говорил Поссевину: «Мы верим не в греков, а в Христа; мы получили христианскую веру при начале христианской церкви, когда Андрей, брат апостола Петра, пришел в эти страны, чтобы пройти в Рим, таким образом мы на Москве приняли христианскую веру, в то же самое время как вы в Италии, и с тех пор доселе соблюдали ее ненарушимою».172 Официальная литература московского правительства осталась чужда теории третьего Рима, как осталась она чужда и идее византийского наследства через Софию Палеолог. Мечта о Москве — третьем Риме никогда не была движущей силой московской дипломатии. Недаром Максим Грек упрекал русских в том, что они только «своих си ищут, а не яже вышняго».173 Особенно резкие различия в воззрениях греков и русских на значение царской власти сказались в придворных обрядах, выражавших несходные представления о власти обеих стран. Русские великие князья не назывались «святыми», они не принимали участия в богослужении в качестве духовных лиц, они допускали, чтобы во время обряда венчания на царство рядом с ними сидел митрополит, а впоследствии патриарх. Между тем, в Византии императору троекратно возглашалось «свят» во время обряда венчания, он занимал определенное место в богослужении, как духовное лицо, и в качестве такового благословлял народ и кадил в церкви. Он считался выше патриарха, стоявшего при нем во время обряда венчания. В византийском обряде не было обмена речами между иерархом и монархом. Между тем, в русском обряде венчания митрополит (а впоследствии патриарх) и государь обменивались речами, содержание которых знаменательно: после возглашения клиром многолетия венчанному государю митрополит (или патриарх) поучали царя «о полезных» — об обязанностях царя к Богу, к церкви, к царской власти и по отношению к народу. >3 В течение всего XIV и XV вв. для всех русских людей прекращение татарской зависимости и крепкое противоборство татарам были заветным желанием. В договорных грамотах между собой и в княжеских завещаниях, начиная с Дмитрия Донского, постоянно читалось: «переменит бог Орду», или татар.174 Летописи свидетельствуют, что когда Иван III колебался в решимости бороться с Ахматом (1480), мать и дядя великого князя, митрополит и все бояре «молиша его великим молением, чтобы стоял крепко за православное христианство против бесерменству».175 Уничтожение Иваном III зависимости от татар было тем грандиозным и долгожданным событием, с которым связан рост политической теории Русского государства. Сознание собственного достоинства, независимости от какой-либо земной власти и равноправия всем великим державам мира глубоко проникает в дипломатическую практику и политическую теорию русской монархии. Именно после прекращения зависимости от Орды (1480), а не после брака с Софьей Палеолог, начинает Иван III употреблять титул царя в международных отношениях с Любеком, Нарвою, Ревелем и магистром Ливонии.176 Послу германского императора Николаю Поппелю, вторично явившемуся в Москву в 1489 г. с предложением королевского титула, Иван III велел ответить: «мы божиею милостью государи на своей земле изначала, от первых своих прародителей, а поставление имеем от бога, чтобы нам дал бог и нашим детям и до века в том быти, как есмя ныне государи на своей земле, а поставления, как есмя наперед сего не хотели ни от кого, так и ныне не хотим».177 Перед иностранными властителями предстал государь, полный сознанием достоинства своей страны. Именно с года прекращения татарской зависимости растет пышность церемониала московского, появляются новые придворные должности,178 новый посольский обряд. Растет и забота Ивана III о том, чтобы русские послы ни в чем не роняли достоинства Русского государства. Послы Ивана III Плещеев, Голохвостов, Кутузов держат себя при константинопольском дворе не по-азиатски, не становятся на колени перед султаном, и султан разрешает им вести себя так, в то время когда другие европейские послы вынуждены преклонять колена, подвергаются оскорблениям и побоям. Ревниво оберегая честь Русского государства, Иван III внимательно следит за полным равенством отношений с другими европейскими государствами и оказывает иноземным послам такой же прием, какой оказывался русским послам при дворах иноземных государей. Так создавался новый посольский обряд, основанный не на заимствованиях из Византии, а на дипломатической практике. Дипломатические отношения России с западно-европейскими государствами развивались в тесной связи с политической теорией Русского государства. Отсюда под влиянием живых потребностей государственного строительства создается теория исконного величия России и ее правящей династии. Московские дипломаты тонко учитывают ренессансный интерес Западной Европы к античности, сказавшийся не только в искусстве и литературе, но и в политике. Они создают теорию родства московских великих князей с императорами древнего Рима, теорию, подчеркнувшую древность и княжеского рода и управляемой им страны. Отсылая Юрия Грека послом к «цесарю», Иван III дал ему наказ, в случае, если от «цесаря» последует предложение выдать дочь Ивана III за племянника «цесаря», отвечать отказом, так как это не соответствовало достоинству московского государя: «во всех землях то ведомо, а надеемся, что и вам ведомо, что государь наш, великий государь, уроженый изначала от своих прародителей; а и наперед того от давних лет прародители его по изначальству были в приятельстве и любви с передними Римскими цари, которые Рим отдали папе, а сами царствовали в Византии».179 Историческая легитимация власти, долженствовавшая утвердить царское достоинство московских государей, была предпринята в весьма широких масштабах. При том же Иване III было предпринято и создание официальной родословной московских великих князей. Эта родословная, оформленная в «Сказание о князех Владимирских», представляет собою родословную роспись всех известных в истории царей и властодержцев. Она начинается с рассказа о разделе земли между потомками Ноя, продолжается перечнем великих властителей, центральное место в котором занимают сведения об императоре Августе, к которому в средние века и, в особенности, в начале эпохи Возрождения все европейские владетельные роды возводили свое происхождение. Чтобы высоко поднять авторитет московских великих князей, «Сказание» также говорит об их родстве императору Августу, через его брата Пруса, которого Август посадил управлять на побережье Вислы. По имени этого Пруса земля на Висле, как известно издревле населенная славянскими и литовскими племенами, стала называться «Прусская земля». Сюда к племени пруссов, по совету Гостомысла, пришли послы новгородцев искать себе князя. Здесь они нашли Рюрика «суще от рода римска цесаря Августа», положившего затем основу династии русских князей. Заканчивалось «Сказание» рассказом об отвоевании знаков царского достоинства Владимиром Всеволодовичем у Константина Мономаха. После победоносного похода Владимира Всеволодовича во Фракию, побежденный Константин Мономах прислал ему дары — крест «от самого животворящего древа, на нем же распятся владыка Христос», «венец царский», «крабицу сердоликову, из нее же Август кесар веселяшеся», ожерелье, «иже на плещу свою ношаше», и др. «И с того времени, — сообщало «Сказание», — князь великий Владимир Всеволодович наречеся Мономах, царь великие России. И оттоле и доныне тем царским венцом венчаются великие князи владимирские, егда ставятся на великое княжение российское».180 Итак, согласно «Сказанию», московские великие князья ведут свое происхождение от того же римского императора Августа, от которого вели свое происхождение и главнейшие европейские царствующие дома. Русские князья получили свое царское достоинство не по наследству из Византии после ее падения в 1453 г.: они — исконные «государи на своей земле», и их царское происхождение восходит еще ко временам античности. Царские регалии, всегда по праву принадлежавшие русским князьям, возвращены им Владимиром Мономахом силою оружия. Таким образом, эта теория всячески подчеркивала исконное, а не приносное со стороны право русских князей на царский титул, древнюсть и достоинство их рода. В отличие от теории «Москва — третий Рим», не вышедшей за пределы церковных кругов по преимуществу, фантастическая генеалогия русских князей и рассказ о происхождении царского достоинства великих князей от Владимира I и Владимира Мономаха имели широкое распространение в дипломатической практике XVI в. Успех этих идей развивается по мере того, как усложняются иностранные сношения России, по мере дипломатических встреч и посольств к иноземным государям, перед которыми московские великие князья никогда не хотели казаться худородными. Сведениями о родстве великих князей и о венчании Владимира Мономаха полны все официальные памятники XVI в.: Четьи-Минеи митрополита Макария (под 20 сентября), Степенная книга, Воскресенская летопись, Казанский летописец, Царственный летописец и т. д. Повесть о Мономаховых регалиях была вырезана на дверцах царского места в Успенском соборе (1551). Генеалогию русских князей переводят на латинский язык, явно предназначая ее для распространения заграницей. Ссылками на нее пестрят дипломатические памятники XVI в. >4 Были и особые причины, заставлявшие русское правительство с особенною настойчивостью возводить принятие царского титула ко временам Владимира I и Владимира Мономаха. Почти половина русских земель принадлежала в XVI в. Польско-Литовскому государству. Древнейшие русские города — Киев, Чернигов, Полоцк, Смоленск — находились вне русских пределов. Официальная правительственная теория Русского государства выросла в значительной мере из потребностей окончательного объединения Русского государства, присоединения к нему земель, когда-то принадлежавших «прародителям» московских государей — Владимиру I и Владимиру Мономаху. Согласно официальной правительственной теории XVI в., не признававшейся поляками, московские великие князья были наследниками киевских, а Москва выступала в ней наследницей Киева — «вторым Киевом». Под знаком этой борьбы за киевское наследство проходят все дипломатические отношения Русского государства с Польско-Литовским. Пропагандируя свои права на наследство Владимира Мономаха, московские великие князья требовали тем самым признания себя боговенчанными монархами «всея Руси», а следовательно, и тех исконно русских земель, которые находились еще под властью Польско-Литовского королевства. Этим объясняются настойчивость, с которой добивалась московская дипломатия признания русской правительственной теории, и упорство Польско-Литовского государства в отказе признать право московских великих князей на царский титул. Как видно из грамоты папы Сикста IV, написанной в 1484 г. польскому королю, в Польше серьезно опасались, чтобы папа не дал Ивану III титула императора или короля «всея России» («…Imperialem sive regalem dignitatem in, tota Ruthenica natione…»), что явилось бы санкцией на собирание московским государем русских земель.181 В грамоте 1493 г. к литовскому великому князю Александру Иван III впервые в своих сношениях с Литвою назвал себя государем «всея Русии» и велел своему послу Дмитрию Загряжскому титуловать себя так во всех речах к литовскому князю. В случае вопросов о том, почему Иван III титулует себя государем «всея Русии», когда ни он, ни кто-либо из его предков не именовали себя так в сношениях с Литвою, Загряжскому наказано было отвечать: «государь мой со мною так приказал, а кто хочет то ведати, и он поедь на Москву, там ему про то скажут».182 Во второй половине XVI в. уверенность московского правительства в праве на киевское наследство настолько возросла, что московским послам не приходилось более зазывать к себе на Москву иностранных дипломатов для объяснений. Отправляя в 1549 г. послов в Литву для присутствия при обряде крестного целования короля на перемирных грамотах, Иван Грозный наказал им передать королю: «милостию бога вседержителя и родитель наших благословением, на своем государстве царем есмя венчались прежде бывшим венчанием прародителя нашего царя и великого князя Владимера Мономаха».183 В следующем 1550 г., отправляя к королю посла Якова Остафьева, Иван IV дал ему подробный наказ. На вопрос короля о титуловании Остафьев должен был отвечать: «наш государь учинился на царстве по прежнему обычаю, как прародитель его великий князь Владимер Манамах венчан на царство Русское, коли ходил ратью на царя греческого Костянтина Манамаха, и царь Костянтин Манамах тогды прародителю государя нашего, великому князю Володимеру, добил челом и прислал к нему дары, венец царьский и диядиму, с митрополитом ефесским кир [господин] Неофитом, и иные дары многие царьские прислал, и на царство митрополит Неофит венчал, и от [того] времени царь и великий князь Владимер Манамах; и государя нашего ныне венчал на царство Русское тем же венцом отец его Макарей митрополит, занже ныне землею Русскою владеет государь наш один».184 В 1554 г. в наказе послам — боярину Василию Юрьевичу, казначею Федору Сукину и дьяку Ивану Бухарину — снова стояли требование признания царского титула и подробное обоснование этих требований в виде повести о Мономаховых регалиях. Еще раз в 1554 г., отправляя посольство к королю с извещением о завоевании Астраханского царства, Иван IV наказал напомнить королю, что мир между ними возможен только в случае признания его царского титула.185 Снова было наказано послу говорить, что предок царя, Владимир Мономах, венчался на царство, и царь венчался, следуя его примеру. Теория царского титула еще раз выступает в переговорах 1555 г.,186 затем в переговорах 1556 г.187 и т. д. Не было переговоров с Польско-Литовским государством, в которых не возник бы вопрос о царском титуловании, в которых русские не ссылались бы на родство своих государей с Августом кесарем и на царское венчание Владимира Мономаха. Споры по этому вопросу продолжались при Федоре Иоанновиче, Борисе Годунове, Василии Шуйском, Михаиле Федоровиче. В искусстве и литературе конца XV — начала XVI вв. мы найдем все те три составляющие элемента, которые определяли собою и творческую и политическую идеологию Русского государства: широкий учет западно-европейского окружения, подчинение целого в первую очередь общенациональным интересам и постепенное выявление народных начал русской культуры. >5 Идеология Русского государства, его внешняя и внутренняя политика отложились резким отпечатком на внешнем облике Москвы, отныне столичного города большого европейского государства. В своих заботах о внешнем благоустройстве Москвы, московские великие князья стремятся придать ей национальный облик, воплотить в ней национальные идеалы красоты. В отличие от первых строителей Киева, стремившихся соперничать с Константинополем, как в планировке, так и в устройстве отдельных зданий (София в Константинополе и в Киеве, Золотые ворота в Константинополе и в Киеве и др.), Москва организуется как русский город, его строительство учитывает по преимуществу русские традиции. Конец XV в. отмечен объединением соперничавших между собой русских архитектурных школ. Объединительной политике московских великих князей и объединительной политике московских летописцев, соединивших в грандиозных сводах областное русское летописание, соответствуют объединительные тенденции в области московского искусства. В грандиозней строительной деятельности Москвы приняли участие зодчие из Пскова, Новгорода, Твери, Владимиро-Суздальского княжества. Кроме зодчих русских строительных школ, Москва также приглашает зодчих наиболее передовой в архитектурном отношении страны тогдашней Европы — Италии. В Москву приезжает бостонский архитектор и военный инженер Аристотель Фиораванти, затем Антон Фрязин, два Алевиза, Марко Руффо, Пьетро Антонио, Солар, Вон Фрязин и др. В Москве сосредоточивается обширный круг архитекторов эпохи Возрождения. Все эти архитекторы работают по созданию Московского Кремля. Но планировка Кремля была основана не на итальянских, а на чисто русских архитектурных принципах. Ансамбль Кремля по-русски строился открыто во внешнее пространство на крутом берегу р. Москвы. Здания, построенные москвичами, итальянцами, псковичами, стояли рядом, играя контрастирующими формами, группируясь по живописному принципу, чуждому ренессансной ясности соотношений. Знаменательно, что и болонец Аристотель Фиораванти и миланец Алевиз Новый подпали в Москве под мощное влияние русского искусства и сохранили в своих постройках лишь немногие новые для Руси архитектурные приемы. Выстроенный Аристотелем Фиораванти в Московском Кремле Успенский собор (1475–1479) развивал формы предшествовавшей ему русской архитектуры. Прежде чем приступить к постройке Успенского собора, Аристотель совершил обширное путешествие, по русским городам; в Успенском кремлевском соборе сильно отразилось воздействие архитектуры Успенского собора во Владимире и Софии новгородской. Русские формы Успенского собора, связь их с формами владимирского Успенского собора и Софии новгородской не случайны. Иван III строил в Москве центральную святыню объединенного Русского государства. Успенский собор должен был символизировать собою русскую церковь вообще так же, как София константинопольская — греческую, как храм Воскресения: в Иерусалиме — иерусалимскую и т. д. Здесь в Успенском соборе хранилась главная святыня Русского государства — покровительница Москвы икона Владимирской Божьей Матери. Здесь в Успенском соборе происходило венчание на царство московских государей и хиротония епископов всех областей; здесь при гробе митрополита Петра произносилась епископская присяга, и т. д. Иосиф Волоцкий называет Успенский собор «земным небом, сияющим, как великое солнце посреди Русской земли».188 Митрополит Филипп говорит об Успенском соборе, что он, как солнце, сияет благочестием «в всех рускых землях».189 В таких же выражениях говорит об Успенском соборе старец Филофей в своем послании Василию III, и др. Построение нового Успенского собора было отмечено составлением в 1479 г. грандиозного летописного свода, как новая эра в русской истории. Свод этот подробно описывает в последних своих частях новгородский поход Ивана III и присоединение Новгорода; он заканчивался описанием торжественного открытия нового центра вселенского православия. Исходя из идеи Успенского собора как религиозного центра «всея Руси», создаются и все окружающие его постройки. Успенский собор обстраивается целым «кустом» церквей и зданий, в построении которых принимают участие различные архитектурные школы. На месте обветшалых укреплений Дмитрия Донского возводятся новые стены и башни Московского Кремля. Стены были построены по последнему слову фортификационного искусства, сделавшего в XV в. большой шаг вперед в связи с изобретением пороха и огнестрельного оружия. В XV — начале XVI вв. Московский Кремль был сильнейшей крепостью Европы, уступая лишь Миланскому замку, законченному в 1459 г. Своими неприступными укреплениями он как бы символизировал силу и мощь Русского государства. Пышное величие и церемониальная торжественность Московского Кремля находятся в неразрывной связи с идеями государственной власти времени Ивана III. Черты Московского Кремля отразились в стенах Нижегородского Кремля и в укреплениях Серпухова, Тулы, Зарайска в многих других русских городов. Москва, став политическим центром объединенных ею областей, распространяет свое влияние и на искусство периферии. Однако заботы об общем национальном русском облике Москвы этим не ограничились. Национальные задачи, которые стояли перед Русским государством, выставили перед архитектурой проблему переноса в каменное зодчество форм народного деревянного зодчества. Русская архитектура XVI в. идет по пути создания каменного шатрового храма. Простой образец такого храма заключался в деревянной церкви, в которой сплошь и рядом восьмигранный сруб увенчивался высокою кровлею с одной главой наверху. Этот новый тип каменного храма, заимствовавший свои формы из народного деревянного зодчества, постепенно усложняясь, достигает необыкновенной декоративности, отвечавшей народным вкусам. Первые опыты переноса форм деревянной архитектуры в каменную относятся еще к очень давнему времени. Их, повидимому, можно было указать и в домонгольской Руси. Они были и в старой Москве (церковь Ивана Лествичника с колоколами наверху, 1329), и в Новгороде (круглая, «яко столп», церковь в Хутыне, 1445), и в Александровской слободе и др. Однако только в XVI в. это проникновение в каменную архитектуру форм народного деревянного зодчества приобретает широкие размеры и идейную целеустремленность обращения к народным началам. Каменный шатровый храм Вознесения в селе Коломенском, относящийся к 1532 г., — в полной мере русская, народная во всех своих формах архитектура. Храм произвел на современников сильнейшее впечатление. Освящение его было отпраздновано Василием III необычайно торжественно. Летопись отметила его красоту и «величество»: «допрежь такой не было на Руси». Высшее достижение этого народного шатрового стиля XVI в. — собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве (1550–1560), выстроенный русскими зодчими Посником и Бармой, как памятник покорения Казани. Народные формы его архитектуры не были случайностью в строительной практике Русского государства. Иван IV строил собор, «сотворив совет благ» с инициатором ряда культурных начинаний XVI в. — митрополитом Макарием. Очевидно, авторитетное мнение последнего было решающим в принятии нового типа храма. Собор представляет собой группу из 9 «столпов», частью увенчанных шатрами, и рассчитан не столько на пластическое, сколько на чисто живописное впечатление, требовавшее от зодчих особенно тонкого художественного чутья. Храм Василия Блаженного — образец необыкновенной высоты русского строительного искусства, особенно если принять во внимание, что в эпоху его создания ни в России, ни на Западе не были еще известны основы математического расчета устойчивости архитектурных сооружений. Построению каменного собора Василия Блаженного предшествовала (за 9 месяцев) постройка деревянной церкви его на том же месте.190 На этой своеобразной «модели» практически проверялось, очевидно, общее художественное впечатление постройки, силуэт шатров и глав. Построение этой деревянной церкви, за 9 месяцев до заложения каменного храма, отчетливо доказывает гипотезу, выдвинутую еще И. Забелиным, о происхождении форм храма Василия Блаженного из народного деревянного зодчества.191 Итак, и в политике, и в литературе, и в искусстве XVI в. русские стремятся утвердить свое национальное содержание, свои национальные интересы. Россия снова вошла в среду европейских государств как равноправное государство. >VIII „ЗЕМЛЯ“-НАРОД И ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ НАЧАЛА XVII в. >Эпоха крестьянской войны и борьбы с польско-шведской интервенцией представляет собою одну из самых важных страниц русской истории по исключительной сложности и глубине влияния на всю последующую русскую жизнь. Борьба с самозванцами и польско-шведскими интервентами приняла общенародный характер и высоко подняла чувство гражданской ответственности каждого за судьбу родины. >1 Активное участие всего русского народа в обороне родины не раз спасало Русь перед лицом внешней опасности. В 1016 г. население Новгорода потребовало от Ярослава I Владимировича, продолжения борьбы с польским королем Болеславом и изменником Святополком. Новгородцы порубили ладьи, в которых Ярослав пытался бежать за море, и собрали деньги для организации нового войска. В 1068 г. отказ великого князя киевского Святослава раздать оружие населению для борьбы с половцами вызвал восстание киевлян. В 1382 г. покинутые своим князем жители Москвы сами организовали оборону своего города от войск Тохтамыша. Случаев, при которых народ активно брал в свои руки организацию обороны, — не мало, но только в период национальной борьбы начала XVII в. было осознано первостепенное значение народа. Значение народа и, в частности, крестьянства в общей жизни страны получило уже отчетливое отражение в публицистических сочинениях XVI в., поразительных своим широким и свободным обсуждением самых основ государственного устройства. Забота об облегчении тягот крестьянства видна в сочинениях монахов-«нестяжателей», в произведениях Максима Грека, в известной «Беседе Сергия и Германа Валаамских чудотворцев» и, в особенности, в исключительном по оригинальности взглядов сочинении середины XVI в. — «Благохотящим царем Правительница». Здесь с редкой последовательностью проводилась мысль о том, что земледельцы — основа государства, что жизнь страны, ее экономическое и военное могущество целиком зиждутся на труде мирных пахарей. Труд ратаев дает хлеб, который приносится жертвой Богу в таинстве Евхаристии и питает всех от царя и до простых людей. Автор «Правительницы» всячески подчеркивал, что именно земледелие и крестьянство являются в России основой государственного благосостояния. Поэтому следует облегчить крестьянский труд и сообразовать с интересами земледельцев государственное управление. Знаменательно, что многочисленные произведения конца XV–XVI вв. открыто высказываются против рабства, принижающего гражданские и воинские добродетели населения (Иван Пересветов), противоречащего основам христианского человеколюбия. Нередко в публицистических сочинениях XVI в. проводится мысль о естественном равенстве всех перед Богом. Широко задуманные и далеко идущие публицистические сочинения XVI в., ясно сознающие необходимость для государства свободного и граждански сознательного населения, во многих отношениях были общи западно-европейской политической философии XVI в. >2 Идеи публицистических сочинений XVI в. не были пустыми размышлениями досужих книжников: они отражали реальную силу демократических слоев народа, его возросшую гражданскую сознательность и политическую активность. Освободительная борьба начала XVII в. ясно обнаружила глубокое развитие во всех слоях населения чувства гражданского долга, сознание личной ответственности каждого за судьбу всей Русской земли в целом. Жители городов и сельское население — нижегородцы, смольняне, ярославцы, владимирцы, москвичи и т. д. — с готовностью соглашались на всякие личные жертвы ради спасения родины. В своем знаменитом приговоре нижегородцы писали: «Стоять за истину всем безызменно, к начальникам быть во всем послушными и покорливыми и не противиться им ни в чем, на жалованье ратным людям деньги давать, а денег не достанет — отбирать не только имущество, а и дворы и жен и детей закладывать, продавать, а ратным людям давать, чтобы ратным людям скудости не было». На этом нижегородцы дали Богу души свои. Поднятое в Нижнем национальное движение сплотило русских людей. В национальной борьбе начала XVII в. оформилась идея суверенных прав народа в организации своей государственности, всей политической жизни страны и в выборе монарха. В тревожных обстоятельствах борьбы с самозванщиной и польско-шведскими интервентами для врагов и своих становилось ясным, что только тот возьмет верх, кто будет иметь на своей стороне сочувствие большинства русского народа. Отсюда стремление интервентов во что бы то ни стало склонить народ на свою сторону, обмануть его ложными договорами, громкими обещаниями или самозванцами. Отсюда же исключительное значение идеологической борьбы с самозванщиной и интервенцией. Бесчисленные грамоты, послания, обращения, исторические сочинения, политические памфлеты, сказания разъясняют смысл происходящего. Речами поднимает Авраамий Палицын казаков на помощь ополчению. Речами поднимает Минин и протопоп Савва нижегородцев на общенародное дело борьбы с интервенцией. Города сносятся грамотами, призывают друг друга «стояти заодно», «ожить и умереть вместе». С призывом к восстанию обращаются к москвичам жители осажденного польскими интервентами Смоленска. Смольняне просили москвичей переписать их грамоту и послать ее в Новгород, в Вологду, в Нижний. Москвичи и сами писали всем русским городам, призывая итти на выручку столицы. Жители Устюга писали в Пермь, в Новгород, в Холмогоры, на Вычегду, в Сольвычегодск. Нижегородцы писали вологжанам, ярославцам и т. д. Грамоты патриарха Гермогена и троице-сергиевских старцев читались в церквах. Вся страна была охвачена единым патриотическим порывом. Народ ясно осознал себя главной силой в определении исторических судеб родины. В исторических произведениях первых годов XVII в., в бесчисленных грамотах, посланиях и приговорах, всё более и более утверждается мысль о том, что «хранитель» целости и независимости «Московского государства» — сам народ, а не бояре и цари. Мысль эта, встречаемая еще в летописи, только в исторических произведениях о событиях «всеконечного разорения» — «Смуты» первых лет XVII в. — получает законченное выражение. Понятие «земли» как верховной власти ясно выступает уже в «приговоре» 30 июня 1611 г., низводившем «правительство» (Трубецкого, Ляпунова и Заруцкого) в положение подчиненной исполнительной власти, ограниченной в своих действиях ратным советом «всей земли». «Правительство» получало за свой труд жалование и в его руководство были даны точные указания. Реальные разногласия и антагонизм классов, выяснившиеся в земском приговоре 30 июня и в последующих земских соборах начала XVII в., не умаляют значения самой проявившейся в них идеи «всей земли». Народ — разумная среда, через которую проявляется воля божья. «Земля» имеет право избрать не только временное управление, но и «помазанника божья» — царя. Мысль эта была решительною новостью в политической жизни Руси, где в бесчисленных династических спорах XI–XVI кв. прочно утвердилось представление о наследственной княжеской и царской власти. Всего несколько десятков лет назад Грозный жестоко издевался в своих грамотах над Стефаном Баторием, избранным на польский престол «по многомятежному человеческому хотению». В новых обстоятельствах начала XVII в. мысль об избрании царя «всею землею» уже не вызывала возражений во всех слоях общества. Значение воли народа как верховной силы в жизни «земли» ясно подчеркнуто даже в титулах новых деятелей. Пожарский носил титул «по избранию всех людей» или «по избранию всее земли Московского государства всяких чинов людей». Козьма Минин именовался «выборный человек всею землею». Вместо старой приказной власти, явилось выборное начало, явился выборный человек, действовавший от лица «всей земли». Насколько необходимым казалось одобрение «земли», показывает хотя бы то, что нижегородское ополчение еще на походе собирало выборных по городам, заботилось о соблюдении гласности и добивалось единодушия всей земли в своих общерусских начинаниях. Апрельская грамота Пожарского, отправленная по городам, приглашала поскорее прислать в Ярославль «изо всяких чинов людей человека по два». >3 Идея «всей земли» и сознание значения народа, демократических слоев населения в жизни государства резко отразились в общих концепциях московской историографии. Сознание исторической активности народа перерабатывало средневековые представления о силах, движущих историю. В исторические произведения начала XVII в. постепенно входит представление, что историческими судьбами Русской земли руководит не божественное предопределение, а сам народ. Это было огромным шагом вперед в исторических воззрениях начала XVII в. По обычным представлениям средневековья, скорая небесная кара постигала всякий грех. Исторические сочинения XI–XVI в. и русская летопись твердо держались той мысли, что всякое народное несчастье — нашествие врагов, голод, моровое поветрие и т. д. — было божественным наказанием за грехи людей, за их отступление от заветов религии. «Всеконечное разорение» первых лет XVII в. также рассматривалось авторами исторических сочинений о «Смуте», как казнь за грехи. Однако в определении этих грехов авторы начала XVII в. резко расходились со своими предшественниками, выражали новую точку зрения на исторический процесс. «Грехи» русских людей, вызвавшие самозванщину и интервенцию, с точки зрения авторов исторических работ начала XVII в., не были личными грехами отдельных людей, обычными нарушениями христианской нравственности. Внимание авторов привлекают грехи общественные, недостатки гражданственности и общественного самосознания. Благодаря этому, понятие «греха» как основной причины исторических несчастий переносилось из сферы идеальной в сферу реальную. «Грехи» становились реальными причинами общественных бедствий, и в этом авторы сочинений о «Смуте» приближались к новому историческому восприятию причинно-следственной связи событий. Большинство авторов, писавших о «Смуте», подробно останавливалось на тех общественных «грехах» русского общества, которые привели в начале XVII в. к установлению самозванщины и вторжению иноземцев, В описаниях этих «црехов» сказались те новые и повышенные требования, которые предъявило новое народное самосознание к гражданским добродетелям населения. В летописях XI–XVI вв. неоднократно выражались требования соблюдения национальных интересов. Но требования эти обычно были обращены к князьям, к духовенству, к боярам, к дружине. «Смута» впервые предъявила суровые требования к каждому члену общества без исключения. Сами по себе эти требования говорят о новом общественном идеале, воспитанном в годы жесточайшей национальной борьбы. Изобличая общественные пороки, приведшие к «всеконечному разорению», первые писатели о «Смуте» имели в виду повысить чувство гражданской ответственности населения. Дьяк Иван Тимофеев, составивший свой «Временник» около 1619 г., видит начало всех зол в нарушении коренных начал русской жизни и в усилившемся влиянии иноземцев. Правители преклоняли уши свои к «ложным шепотам», придавали значение доносам, вследствие чего люди были «страховиты», «изменчивы», «нестоятельны», «словопревратны», «по всему вертяхуся, яко коло [колесо]». Враги Руси воспользовались этой «превратностью» русских, чтобы наслать к ним «лжецарей». Один из главных общественных грехов русских заключался в том, что в наиболее важные исторические моменты они были безгласны, как рыбы. При всеобщем молчании и попустительстве Борис Годунов преступлением добился престола: «онемеша бо языки их и уста затвориша ото мзды; вся же чувства каша паче страхом ослабеша». Тимофеев особенно выделяет именно этот недостаток «мужественные крепости» — пассивное и раболепное «бессловесное молчание» перед сильными мира сего.192 Еще резче об этом недостатке гражданской смелости говорил в своем «Сказании» Авраамий Палицын. Он называет его — «всего мира безумным молчанием» и в этом «безумном молчании» видит основной общественный порок, повлекший за собой ослабление государства.193 Авторы единодушно говорят о недостатке согласия у русских. Из-за своего «несогласия» и гражданского «немужества», — пишет Тимофеев, — русские не только допустили убийство царевича Дмитрия, но затем «бессловесно» сносили мерзости и тгечестие ииославных. «Разность» эта придала крепость врагам Руси. Враги разорили ее и надругались над ее святынями.194 «Не чуждии земли нашей разорители, но мы сами ее потребители».195 В руках народа — его судьба. Как причину «Смуты», авторы выдвигают и социальную несправедливость, разорение бедных богатыми, взяточничество и неправосудие. Неправедно собранными богатствами не искупить греха: излишни заботы богатых о красоте церквей, если она создалась из граблений и посулов. Бог не принял этой жертвы, и неправедная церковная красота подверглась разграблению иноверных. Настоящий храм божий — сам народ: «Писано бо есть, яко „вы есте храм бога жива“… храм — не стены камяны и древяны, но народ верных…»,196 — говорит Авраамий Палщын, выражая характерную для своего времени мысль о единственной и абсолютной ценности народа. В самом народе — источник его бедствий и его освобождения от иноземного ига. В этом осознании значения народа в исторической жизни страны — пафос эпохи. Авраамий Палицын приводит многочисленные случаи мужественной борьбы русских с иноземными захватчиками. Живо и талантливо рассказывает он об освобождении Москвы и о героической защите Троице-Сергиевой лавры, давая в своем изложении многочисленные примеры народного героизма. Так, например, Авраамий Палицын рассказывает о том, как возмущенный изменой брата простой воин Даниил Селев заменил его собой в рядах бойцов и пал в бою. Таким образом, писатели первой четверти XVII в., изобличая общественные пороки, а с другой стороны, показывая героизм простых и малозаметных людей, создавали новые идеалы гражданского служения родине. Итак, эпоха национальной борьбы с самозванщиной и интервенцией отчетливо выдвинула значение народа («земли») в исторической жизни страны. Это значение народа сказалось непосредственно в ходе событий и было осознано исторически. >4 Насколько глубоко проникли в народ новые исторические представления, показывает «Новая повесть о преславном Российском государстве», написание которой отноштся либо к концу 1610 г., либо к самому началу 1611 г. Она сохранилась в единственном списке; ее автор — какой-то приказный — безвестен; название ее — позднейшее, приписанное чужою рукою сверху. Это прокламация, «подметное письмо», брошенное на улицах Москвы с призывом восстать и изгнать из Москвы гарнизон польских интервентов. «А сему бы есте письму верили без всякого су мнения», — обращается автор к москвичам. Он просит не «таить» его письмо, а распространять среди верных людей: «И кто сие письмо возмет и прочтет, и он бы его не таил, давал бы рассмотряючи и ведаючи своей братии православным христианом прочитати вкратце, который за православную веру умрети хотят, чтобы было ведомо, а не тайно». Изменникам, которые «со враги соединилися», — тем бы «есте отнюдь не сказывали и не давали прочитати».197 Письмо написано со страстной убежденностью, ясным, простым и народным языком, частью прозой, частью стихами.198 «Приидите, приидите православни. Сами видите, — обращается автор письма к москвичам, — какое гонение и утеснение воздвигалось на русских: «Всегда многим смертное посечение, Описав злодеяния польских интервентов, автор восклицает: «То ли вам не весть, Автор не жалеет слов для изобличения бояр-изменников и среди них боярина Салтыкова и думного дьяка Андронова. Но письмо — не простой призыв к восстанию. Оно подробно и разумно освещает создавшуюся в стране обстановку. Автор ставит в пример москвичам граждан осажденного Смоленска, мужеством своим прославивших себя не только в России, но и в Литве, и в Польше, и до самого Рима. «И хотят славне умрети, нежели бесчестне и горько жити».206 На краю государства смольняне храбро отбиваются от врагов, которые под Смоленском, как и здесь в Москве, «на сердцах наших стоят». Если бы не Смоленск, войско Сигизмунда давно было бы в Москве. Русские в Смоленске держат короля не за голову, не за руку, не за ногу, а за самое сердце его злонравное и жестокое. Как русские в Смоленске, так в Москве один против всех отбивается патриарх Гермоген. Как эпический герой, патриарх, «исполин безоружный», поражает врагов словом своим и движет народом, сам оставаясь непоколебимым и неодолимым препятствием для врагов. Если он умрет и народ сам не встанет на свою защиту, то погибнут государство и православие. Автор «письма» приводит своеобразную политическую философию. Восстание на врагов — это «подвиг» и «радение». Только вооруженное восстание может искупить грехи русских людей, за которые Вог покарал русских испытанием иноземного ига. Эта точка зрения исключительна по религиозной смелости. Автор говорит о том, что польские интервенты боятся восстания русских. Они действуют осторожно, стремясь прельстить русских ложным уважением к их святыням. Они стоят с мечом над головою русских людей, постепенно стягивая подкрепления; закрыли кремлевские ворота, оставив для русских только узкие двери, в которых стоит шум и визг, как будто бы давят мышей. Польские интервенты хотят властвовать в Москве, но не имеют достаточных сил. Между тем народ могуществен и велик, как море. В этом «великом и недержанном мори» боятся потонуть интервенты. Поэтому хитростью и лестью они сдерживают его возмущение: «Видя зде в мире колебание «Новая повесть о преславном Российском государстве» — одно из первых в русской литературе выступлений средних классов населения. Ее содержание знаменательно. Ни одно из литературных произведений, вышедших из посадской и приказной среды во второй половине XVII в., не заявляет с такой определенностью о силе и могуществе народного «моря». «Смута» произвела глубокие изменения в политических представлениях русского общества. В момент наибольшей опасности для Руси, когда, казалось, иноземцы прочно укрепились в Москве, когда от Русского государства сохранились лишь кое-какие «останки», когда, наконец, русские сознавали, что не было еще в мировой истории «таково наказания ни на едину монаршию, ниже на царства и княжения, еже случися над превысочайшею Россиею», — в этот момент «последние люди» поднялись на защиту родины. В политических потрясениях «великой разрухи» родилась твердая уверенность в силе народа, родились мысли о «земском деле», о «всей земле»; сознание верховного значения народа и его интересов в государственной жизни страны. Это новое политическое сознание, выросшее в ужасах «последнего разорения», когда низшие и средние классы сделали отчаянное усилие для спасения Руси, — явилось предвестием нового времени. >Комментарии id="c_1">1 Доклад на Съезде советских писателей 17 августа 1934 г. id="c_2">2 Изд. 3, Л., 1939, стр. 5. id="c_3">3 А. А. Шахматов. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908, стр. 226 и др. id="c_4">4 См. об этом: Д. И. Прозоровский. Новые разыскания о новгородских посадниках. СПб., 1892, стр. 3. id="c_5">5 Лаврентьевская летопись под 985 г. id="c_6">6 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 377. id="c_7">7 Там же, стр. 378. id="c_8">8 Всев. Миллер. Очерки русской народной словесности, т. II. 1910, стр. 1–31. id="c_9">9 Марков. Беломорские былины. М., 1901, №№ 50 и 80. id="c_10">10 Астахова. Былины Севера, т. I. М.-Л., 1938, № 15. id="c_11">11 А. В. Марков. Из истории русского былевого эпоса, вып. 1. 1905, стр. 30–66. id="c_12">12 Повесть временных лет под 1061 г. Мотив загадывания загадки с последующим убийством неудачного отгадчика и др. id="c_13">13 Здесь и далее, слова в цитатах, взятые в прямых скобках, принадлежат автору настоящей работы Д. С. Лихачеву. id="c_14">14 Провар — то количество меда, которое можно сварить за один раз, — очевидно несколько ведер. id="c_15">15 Ипатьевская летопись под 964 г. id="c_16">16 Шелковые ткани. id="c_17">17 Ипатьевская летопись под 970 г. id="c_18">18 Там же под 971 г. id="c_19">19 Там же под 1201 г. id="c_20">20 Лаврентьевская летопись под 945 г. id="c_21">21 Там же. id="c_22">22 См. его Historia V, 7. Migne SGr. 133 col., 569–581. id="c_23">23 Пл. Соколов. Русский архиерей из Византии. Киев, 1913, стр. 12–13. id="c_24">24 В. Г. Васильевский, Труды, т. I, стр. 304. id="c_25">25 Аналогично смотрел на болгар Василий Болгаробойца, отказавшийся видеть в них воюющую сторону и тысячами ослеплявший пленных болгар, как бунтовщиков. id="c_26">26 Мы не останавливаемся на спорной проблеме Охридского архиепископата, в данном случае для нас несущественной. См. об этом: М. Д. Приселков. Очерки по церковно-долитической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 1913, стр. 33 и сл. id="c_27">25 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 539 и сл. Мы пользуемся гипотетическим восстановлением свода у Шахматова. Однако к какому времени ни относить составление свода Ярослава и в каком объеме его ни восстанавливать, — общий характер свода от этого не меняется. id="c_28">28 М. Д. Приселков. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 1913, стр. 82. id="c_29">29 Там же, стр. 84. id="c_30">30 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940. стр. 26. id="c_31">31 М. Д. Приселков. Очерки…, стр. 82. id="c_32">32 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 553. id="c_33">33 Там же, стр. 556–557. id="c_34">34 Там же, стр. 562. id="c_35">35 Там же, стр. 577. id="c_36">36 Там же, стр. 546–547. id="c_37">37 Там же, стр. 578. id="c_38">38 Там же, стр. 542. id="c_39">39 Там же, стр. 550. id="c_40">40 Там же, стр. 547. id="c_41">41 Там же, стр. 563. id="c_42">42 Там же, стр. 564. id="c_43">43 Там же, стр. 583–584. id="c_44">44 Там же, стр. 583. id="c_45">45 Акад. Б. Д. Греков. Развитие исторических наук в СССР за 25 лет. Под знаменем марксизма, 1942, № 11–12. id="c_46">46 Памятники древне-русской церковно-учительной литературы, под ред. А. И. Пономарева, вып. I. СПб., 1894, стр. 59. id="c_47">47 Там же, стр. 59. id="c_48">48 С. П. Шевырев. История русской словесности, ч. 2. Изд. 2, М., 1860, стр. 26. id="c_49">49 Памятники…, стр. 63. id="c_50">50 Там же, стр. 62. id="c_51">51 И. Н. Жданов, Соч., т. I, стр. 80. id="c_52">52 Памятники. стр. 66. id="c_53">53 Общее оптимистическое жизнерадостное содержание «Слова», настроение торжества, повидимому, свидетельствуют о том, что «Слово» возникло до похода Владимира Ярославича 1043 г. id="c_54">54 М. Д. Приселков. Очерки…, стр. 66 и сл. id="c_55">55 А. А. Шахматов. Сборник статей в честь В. И. Ламанского, Ч. II. СПб., 1906, и рец. Шестакова, Журнал Мин. нар. просв., нов. серия, ч. XIII, 1908, январь. id="c_56">56 И. Н. Жданов, Соч., т. I, стр. 19. id="c_57">57 Памятники…, стр. 67. id="c_58">58 Там же. id="c_59">59 Там же, стр. 68 (исправляю в тексте опечатки издания. — Д. Л.). id="c_60">60 Там же, стр. 69. id="c_61">61 Там же, стр. 69. id="c_62">62 Там же, стр. 69–70. id="c_63">63 Там же, стр. 70. id="c_64">64 Там же. id="c_65">65 Там же, стр. 70. id="c_66">66 Там же. id="c_67">67 Там же, стр. 70. id="c_68">68 Там же. id="c_69">69 Там же, стр. 72. id="c_70">70 Там же, стр. 73. id="c_71">71 Там же, стр. 75. id="c_72">72 Там же, стр. 78. id="c_73">73 Первоначально считали, что «Слово» было направлено против иудейского учения. Мнение это опроверг акад. И. Н. Жданов (Соч., т. I, 1872; стр. 1–80). id="c_74">74 В. М. Истрин. Очерк истории древнерусской литературы; т. II. 1922, стр. 131. id="c_75">75 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 398 и сл. id="c_76">76 М. Д. Приселков. Очерки…, стр. 98. id="c_77">77 Памятники…, стр. 74. id="c_78">78 Там же. id="c_79">79 Д. В. Айналов и Е. Редин. Древние памятники искусства Киева, т. X. 1899, стр. 5. id="c_80">80 Памятники…, стр. 60. id="c_81">81 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 583. id="c_82">82 Памятники…, стр. 74. id="c_83">83 Д. В. Айналов и Е. Редин. Древние памятники…, т. X. 1899, стр. 39–40. id="c_84">84 Памятники…, стр. 65. id="c_85">85 Там же…, стр. 75. id="c_86">86 Памятники древней письменности, т. 81, стр. 25. См. об этом: Пл. Соколов. Русский архиерей из Византии. Киев, 1913, стр. 51. id="c_87">87 Акты и стар., I, № 78, стр. 128. id="c_88">88 См. выше в послании митрополита Феодосия 1464 г. id="c_89">89 Прибавления к творениям св. отец, т. II, стр. 255. id="c_90">90 Разыскания…, стр. 582. id="c_91">91 Акад. Н. К. Никольский. О древнерусском христианстве. Русская мысль, 1913, кн. 6, стр. 12. id="c_92">92 М. Д. Приселков. Борьба двух мировоззрений. Сб. «Россия и Запад», под ред. А. И. Заозерского. II, 1923. id="c_93">93 М. П. Петровский. Иларион, митрополит Киевский, и Доментиан, иеромонах хнландарский. Известия ОРЯС, 1908, кн. 4. id="c_94">94 История русской литературы, т. I. Изд. Инст. литер. Акад. Наук СССР, М.—Л., 1940, стр. 271 (гипотеза покойного В. Л. Комаровича). id="c_95">95 Лаврентьевская летопись под 1054 г. id="c_96">96 Ср. в «Слове о полку Игореве» — «земля незнаема» — половецкая степь. id="c_97">97 Лаврентьевская летопись под 1093 г. id="c_98">98 Там же, введение. id="c_99">99 Т. е. наваром из кислой травы, которым мылись в бане. id="c_100">100 Лаврентьевская летопись, введение. id="c_101">101 Там же под 992 г. id="c_102">102 Там же под 1097 г. id="c_103">103 Там же. id="c_104">104 Там же. id="c_105">105 Ипатьевская летопись под 1097 г. id="c_106">106 Лаврентьевекая летопись под 1097 г id="c_107">107 Там же. id="c_108">108 Там же. id="c_109">109 Там же под 1096 г. id="c_110">110 Там же под 1095 г. id="c_111">111 Акад. Б. Д. Греков. Киевская Русь. Изд. 3, M.-Л., 1939, стр. 277. id="c_112">112 Н. И. Брунов. К вопросу о самостоятельных чертах русской архитектуры X — ХII вв. Сб. «Русская архитектура», 1940. id="c_113">113 История русской литературы, т. I. Изд. Инст. литер. Акад. Наук СССР, М. — Л., 1941, стр. 212 и сл. id="c_114">114 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 44. id="c_115">115 Новгородская летопись по Синод. сп., изд. 1888 г., стр. 145. id="c_116">116 Там же, стр. 160. id="c_117">117 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 40. id="c_118">118 А. Е. Пресняков. Лекции по русской истории, т. I. 1938, стр. 239. id="c_119">119 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 64. id="c_120">120 А. А. Шахматов. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв., Л., 1938, стр. 131. id="c_121">121 Предлагаемая ниже характеристика черниговского летописца несколько расходится с построением истории русского летописания XII в. в работах А. А. Шахматова и М. Д. Приселкова. id="c_122">122 Ипатьевская летопись под 1185 г. id="c_123">123 Акад. А. С. Орлов. Слово о полку Игореве. Л., 1938, стр. 48. id="c_124">124 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXII, М.—Л., 1931, стр. 48. id="c_125">125 «Кощей» (от тюркского «кошчи») — конюх, обозный, раб, пленник. «Чага» (от арабского asaha) — невольница. «Ногата» и «резань» — древнерусские единицы. id="c_126">126 А. Рублев умер в 1427 или 1430 г., в возрасте около 60–70 лет. Следовательно, надо считать, что он родился в 60-х — 70-х годах XIV в. id="c_127">127 Н. Каринский. Русская надпись в люблинском тюремном костеле. Известия Археологической комиссии, вып. 55, Пгр., 1914; акад. А. Соболевский. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. Спб., 1910; он же. Русские фрески в старой Польше. М., 1916; F. Kopera. O malarstwie bizantyskiem w Polsce. Polski Muzeum, Z. VIII, Krakow. id="c_128">128 К. Иречек. История болгар. Одесса, 1878, стр. 984–986. id="c_129">129 И. Ягич. Исследования но русскому языку, т. I, стр. 396 и др. id="c_130">130 А. А. Шахматов. Общерусские летописные своды XIV и XV веков. Журнал Мин. нар. просв., 1900, т. IX, стр. 91. id="c_131">131 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 113 и сл. id="c_132">132 Датировка М. Д. Приселкова (там же, стр. 128 и сл.). id="c_133">133 См. об этом подробно: А. А. Шахматов. Общерусские летописные своды XIV и XV веков. Журнал Мин. нар. проев., 1901, т. XI, стр. 73–77. id="c_134">134 Характер этой перемены вскрыт В. Л. Комаровичем в главе «Московские летописи» II тома академической «Истории русской литературы». М.—Л., 1945. id="c_135">135 См.: Летописец Рогожский. Полное Собрание русских летописей [ПСРЛ], т. XV, изд. 2, вып. 1, 1922, стр. 144 и сл.; Симеоновская летопись. ПСРЛ, т. XVIII, 1913, стр. 131 и сл. id="c_136">136 Симеоновская летопись. ПСРЛ, т. XVIII, СПб., 1913, стр. 156. id="c_137">137 Там же, стр. 157. id="c_138">138 Там же, стр. 158. id="c_139">139 Там же, стр. 159. id="c_140">140 Проф. Н. Н. Воронин. Владимиро-суздальское наследие в русском зодчестве. Архитектура СССР, 1940, № 2; И. Грабарь. Андрей Рублев. Вопросы реставрации, вып. 1, стр. 65 и сл.; 0 росписях Успенского собора во Владимире, там же, стр. 22–33. id="c_141">141 Ср., например, в Симеоновской летописи, где татары названы половцами под 1378 г., а татарская степь — половецкой под 1380 г. и т. д. Ср. также Летописец Переяславля Суздальского, где печенеги и половцы неоднократно называются татарами. Очевидно, «Повесть временных лет» воспринималась современниками Донской битвы в сопоставлении с событиями этой современности. История Руси представлялась историей непрекращающихся войн со степными народами, войн за независимость. id="c_142">142 Ф. Буслаев. Рецензия на работу О. Миллера «Илья Муромец и богатырство Киевское». Журнал Мин. нар. просв., 1871, 4, стр. 217. id="c_143">143 А. Н. Веселовский. Из введения в историческую поэтику. Собр. соч., т. I, стр. 36–37. id="c_144">144 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 443. id="c_145">145 Ю. Н. Дмитриев. К истории новгородской архитектуры. Новгородский исторический сборник, вып. 2, Л., 1937. id="c_146">146 Новгородская IV летопись. ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, Л., 1925, стр. 444. id="c_147">147 Новгородская III летопись. Новгородские летописи, СПб., 1879, стр. 271. id="c_148">148 В. Яблонский. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб.1908, стр. 100. id="c_149">149 Памятники старинной русской литературы, издававшиеся Кушелевым-Безбородко, вып. 4, 1862, стр. 30. id="c_150">150 ПСРЛ, Т. IV, Ч. 1, вып. 2, Л., 1925 стр. 448. id="c_151">151 Там же, стр. 446. id="c_152">152 Там же, стр. 447. id="c_153">153 Там же, стр. 498. id="c_154">154 Там же, стр. 504. id="c_155">155 Там же, стр. 513. id="c_156">156 Софийская II летопись под 1471 г. id="c_157">157 См. подробнее: А. А. Шахматов. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв. Л., 1938, стр. 371 и др. id="c_158">158 Софийская II летопись под 1475 г. id="c_159">159 Проф. Успенский. Брак царя Ивана III. Исторический Вестник, 1887, № 12, стр. 689. Ср. также: О. Пирлинг. Россия и Восток, стр. 103, 166. id="c_160">160 Сборник импер. Русского исторического общества, т. 53, стр. 85 и сл. id="c_161">161 Там же, стр. 91. id="c_162">162 Там же, стр. 92. id="c_163">163 Там же, стр. 86. id="c_164">164 Софийская II летопись под 1481 г. id="c_165">165 Сочинения Максима Грека, 1889, «Слово» VII. id="c_166">166 Н. П. Лихачев. Инока Фомы слово похвальное о князе Борисе Александровиче! СПб., 1906. id="c_167">167 По мнению некоторых исследователей — Ивана IV. id="c_168">168 В. Малинин. Старец Елеазарова монастыря Филофей… Киев, 1901» стр. 547. id="c_169">169 Малинин, там же, Приложение, стр. 50. id="c_170">170 Православный собеседник, 1861, ч. II, стр. 297. id="c_171">171 Отличие теории Филофея от официальной идеологии московского правительства отмечает и В. Малинин. Он пишет о Филофее: «у него с большею полнотою и определенностью выступает теория мирового призвания России, как царства не только единственно православного, но и последнего, призванного существовать до конца вселенной. Отсюда в несколько ином обосновании выступает у него и теория царской власти» (Старец Елеазарова монастыря Филофей… 1901, стр. 616). id="c_172">172 Suppl. ad Historica Russiae Monumenta, p. 102. Цитирует Е. Голубинский. История русской церкви, т. I, ч. 1, стр. 8. Предание о посещении апостола Андрея попадает в XVI в. в Степенную книгу (I, 95–97) и другие. id="c_173">173 Сочинения Максима Грека, 1889, «Слово» VII. id="c_174">174 Собрание государственных грамот и договоров (СГГиД), т. I, стр. 71, 73, 78, 81, 84, 87, 89, 92, 98, 101, 103, 108, 111, 114, 117, 120, 122, 125,128, 131, 348, 158, 161, 164, 167, 180, 184, 197, 201, 205, 229. id="c_175">175 ПСРЛ, т. VI, стр. 20 и 224; т. VIII, стр. 206; Никоновская, т. VI, стр. 112. id="c_176">176 Памятники дипломатических сношений древней Руси с державами иностранными, т. I, стр. 46, 47, 59–61, 87, 96–93, 114. id="c_177">177 Там же, стр. 12. id="c_178">178 В 1495 г. при дворе Ивана III появились новые чины: казначея, постельничьего, ясельничего, и с 1496 г. — конюшего (М. П. Шереметьев. Список старинных бояр, дворецких, окольничьих и некоторых других придворных чинов. Др. Российская Вивлиофика, т. XX, изд. 2, стр. 8). id="c_179">179 Памятники дипломатических сношений…, т. I, стр. 17. id="c_180">180 И. Н. Жданов. Русский былевой эпос. Исследования и материалы, т. I–V, СПб., 1895. id="c_181">181 Theiner. Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, т. II, № 257. Romae, an. 1861. Цитирует: В. Савва. Московские цари и византийские-василевсы, 1901, стр. 274. id="c_182">182 Сборник импер. Русского исторического общества, т. 35, стр. 80–82 и др. id="c_183">183 Там же, т. 59, стр. 309 и сл. id="c_184">184 Там же, стр. 345. id="c_185">185 Там же, стр. 451. id="c_186">186 Там же, стр. 474 и сл. id="c_187">187 Там же, стр. 504 и сл.; стр. 519 и сл. id="c_188">188 Иосиф Волоцкий. Просветитель. Печати, изд. Казанск. духовн. акад.,л. 57. id="c_189">189 Русская историческая библиотека, т. VI, столб. 723. id="c_190">190 См. «Летописец Русский», изданный А. Н. Лебедевым (Чтения в Обществе истории и древностей российских, 1895, вып. 3), — известие о построении храма Покрова в октябре 7063 г. (1553) (стр. 31) и затем под июнем 7063 г. (1554): «Того же месяца благоверный и христолюбивый царь и великий государь велел заложит церковь камену Покров Пречистыя Богородицы о девяти верхах, которой был преже древян о Казанском взятии у Фроловских ворот» (стр. 36). id="c_191">191 И. Забелин. Черты самобытности в древнерусском зодчестве. id="c_192">192 Русская историческая библиотека, т. XIII, СПб., 1892, стр. 463 и сл. id="c_193">193 Там же, стр. 479. id="c_194">194 Там же, стр. 463 и сл. id="c_195">195 Там же, стр. 465. id="c_196">196 Там же, стр. 516–517. id="c_197">197 Там же, стр. 218. id="c_198">198 Стихотворная форма «Новой повести» до сих пор не была отмечена. id="c_199">199 Русская историческая библиотека, т. ХIII, стр. 200. id="c_200">200 Там же, стр. 210. id="c_201">201 Траве. id="c_202">202 Русская историческая библиотека, т. XIII, стр. 210. id="c_203">203 Слова, заключенные в скобки, очевидно, позднейшая разъясняющая вставка. id="c_204">204 Русская историческая библиотека, т. XIII, стр. 212. id="c_205">205 Там же, стр. 213. id="c_206">206 Там же, стр. 189. id="c_207">207 Там же, стр. 202. VIII „ЗЕМЛЯ“-НАРОД И ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ НАЧАЛА XVII в. >Эпоха крестьянской войны и борьбы с польско-шведской интервенцией представляет собою одну из самых важных страниц русской истории по исключительной сложности и глубине влияния на всю последующую русскую жизнь. Борьба с самозванцами и польско-шведскими интервентами приняла общенародный характер и высоко подняла чувство гражданской ответственности каждого за судьбу родины. >1 Активное участие всего русского народа в обороне родины не раз спасало Русь перед лицом внешней опасности. В 1016 г. население Новгорода потребовало от Ярослава I Владимировича, продолжения борьбы с польским королем Болеславом и изменником Святополком. Новгородцы порубили ладьи, в которых Ярослав пытался бежать за море, и собрали деньги для организации нового войска. В 1068 г. отказ великого князя киевского Святослава раздать оружие населению для борьбы с половцами вызвал восстание киевлян. В 1382 г. покинутые своим князем жители Москвы сами организовали оборону своего города от войск Тохтамыша. Случаев, при которых народ активно брал в свои руки организацию обороны, — не мало, но только в период национальной борьбы начала XVII в. было осознано первостепенное значение народа. Значение народа и, в частности, крестьянства в общей жизни страны получило уже отчетливое отражение в публицистических сочинениях XVI в., поразительных своим широким и свободным обсуждением самых основ государственного устройства. Забота об облегчении тягот крестьянства видна в сочинениях монахов-«нестяжателей», в произведениях Максима Грека, в известной «Беседе Сергия и Германа Валаамских чудотворцев» и, в особенности, в исключительном по оригинальности взглядов сочинении середины XVI в. — «Благохотящим царем Правительница». Здесь с редкой последовательностью проводилась мысль о том, что земледельцы — основа государства, что жизнь страны, ее экономическое и военное могущество целиком зиждутся на труде мирных пахарей. Труд ратаев дает хлеб, который приносится жертвой Богу в таинстве Евхаристии и питает всех от царя и до простых людей. Автор «Правительницы» всячески подчеркивал, что именно земледелие и крестьянство являются в России основой государственного благосостояния. Поэтому следует облегчить крестьянский труд и сообразовать с интересами земледельцев государственное управление. Знаменательно, что многочисленные произведения конца XV–XVI вв. открыто высказываются против рабства, принижающего гражданские и воинские добродетели населения (Иван Пересветов), противоречащего основам христианского человеколюбия. Нередко в публицистических сочинениях XVI в. проводится мысль о естественном равенстве всех перед Богом. Широко задуманные и далеко идущие публицистические сочинения XVI в., ясно сознающие необходимость для государства свободного и граждански сознательного населения, во многих отношениях были общи западно-европейской политической философии XVI в. >2 Идеи публицистических сочинений XVI в. не были пустыми размышлениями досужих книжников: они отражали реальную силу демократических слоев народа, его возросшую гражданскую сознательность и политическую активность. Освободительная борьба начала XVII в. ясно обнаружила глубокое развитие во всех слоях населения чувства гражданского долга, сознание личной ответственности каждого за судьбу всей Русской земли в целом. Жители городов и сельское население — нижегородцы, смольняне, ярославцы, владимирцы, москвичи и т. д. — с готовностью соглашались на всякие личные жертвы ради спасения родины. В своем знаменитом приговоре нижегородцы писали: «Стоять за истину всем безызменно, к начальникам быть во всем послушными и покорливыми и не противиться им ни в чем, на жалованье ратным людям деньги давать, а денег не достанет — отбирать не только имущество, а и дворы и жен и детей закладывать, продавать, а ратным людям давать, чтобы ратным людям скудости не было». На этом нижегородцы дали Богу души свои. Поднятое в Нижнем национальное движение сплотило русских людей. В национальной борьбе начала XVII в. оформилась идея суверенных прав народа в организации своей государственности, всей политической жизни страны и в выборе монарха. В тревожных обстоятельствах борьбы с самозванщиной и польско-шведскими интервентами для врагов и своих становилось ясным, что только тот возьмет верх, кто будет иметь на своей стороне сочувствие большинства русского народа. Отсюда стремление интервентов во что бы то ни стало склонить народ на свою сторону, обмануть его ложными договорами, громкими обещаниями или самозванцами. Отсюда же исключительное значение идеологической борьбы с самозванщиной и интервенцией. Бесчисленные грамоты, послания, обращения, исторические сочинения, политические памфлеты, сказания разъясняют смысл происходящего. Речами поднимает Авраамий Палицын казаков на помощь ополчению. Речами поднимает Минин и протопоп Савва нижегородцев на общенародное дело борьбы с интервенцией. Города сносятся грамотами, призывают друг друга «стояти заодно», «ожить и умереть вместе». С призывом к восстанию обращаются к москвичам жители осажденного польскими интервентами Смоленска. Смольняне просили москвичей переписать их грамоту и послать ее в Новгород, в Вологду, в Нижний. Москвичи и сами писали всем русским городам, призывая итти на выручку столицы. Жители Устюга писали в Пермь, в Новгород, в Холмогоры, на Вычегду, в Сольвычегодск. Нижегородцы писали вологжанам, ярославцам и т. д. Грамоты патриарха Гермогена и троице-сергиевских старцев читались в церквах. Вся страна была охвачена единым патриотическим порывом. Народ ясно осознал себя главной силой в определении исторических судеб родины. В исторических произведениях первых годов XVII в., в бесчисленных грамотах, посланиях и приговорах, всё более и более утверждается мысль о том, что «хранитель» целости и независимости «Московского государства» — сам народ, а не бояре и цари. Мысль эта, встречаемая еще в летописи, только в исторических произведениях о событиях «всеконечного разорения» — «Смуты» первых лет XVII в. — получает законченное выражение. Понятие «земли» как верховной власти ясно выступает уже в «приговоре» 30 июня 1611 г., низводившем «правительство» (Трубецкого, Ляпунова и Заруцкого) в положение подчиненной исполнительной власти, ограниченной в своих действиях ратным советом «всей земли». «Правительство» получало за свой труд жалование и в его руководство были даны точные указания. Реальные разногласия и антагонизм классов, выяснившиеся в земском приговоре 30 июня и в последующих земских соборах начала XVII в., не умаляют значения самой проявившейся в них идеи «всей земли». Народ — разумная среда, через которую проявляется воля божья. «Земля» имеет право избрать не только временное управление, но и «помазанника божья» — царя. Мысль эта была решительною новостью в политической жизни Руси, где в бесчисленных династических спорах XI–XVI кв. прочно утвердилось представление о наследственной княжеской и царской власти. Всего несколько десятков лет назад Грозный жестоко издевался в своих грамотах над Стефаном Баторием, избранным на польский престол «по многомятежному человеческому хотению». В новых обстоятельствах начала XVII в. мысль об избрании царя «всею землею» уже не вызывала возражений во всех слоях общества. Значение воли народа как верховной силы в жизни «земли» ясно подчеркнуто даже в титулах новых деятелей. Пожарский носил титул «по избранию всех людей» или «по избранию всее земли Московского государства всяких чинов людей». Козьма Минин именовался «выборный человек всею землею». Вместо старой приказной власти, явилось выборное начало, явился выборный человек, действовавший от лица «всей земли». Насколько необходимым казалось одобрение «земли», показывает хотя бы то, что нижегородское ополчение еще на походе собирало выборных по городам, заботилось о соблюдении гласности и добивалось единодушия всей земли в своих общерусских начинаниях. Апрельская грамота Пожарского, отправленная по городам, приглашала поскорее прислать в Ярославль «изо всяких чинов людей человека по два». >3 Идея «всей земли» и сознание значения народа, демократических слоев населения в жизни государства резко отразились в общих концепциях московской историографии. Сознание исторической активности народа перерабатывало средневековые представления о силах, движущих историю. В исторические произведения начала XVII в. постепенно входит представление, что историческими судьбами Русской земли руководит не божественное предопределение, а сам народ. Это было огромным шагом вперед в исторических воззрениях начала XVII в. По обычным представлениям средневековья, скорая небесная кара постигала всякий грех. Исторические сочинения XI–XVI в. и русская летопись твердо держались той мысли, что всякое народное несчастье — нашествие врагов, голод, моровое поветрие и т. д. — было божественным наказанием за грехи людей, за их отступление от заветов религии. «Всеконечное разорение» первых лет XVII в. также рассматривалось авторами исторических сочинений о «Смуте», как казнь за грехи. Однако в определении этих грехов авторы начала XVII в. резко расходились со своими предшественниками, выражали новую точку зрения на исторический процесс. «Грехи» русских людей, вызвавшие самозванщину и интервенцию, с точки зрения авторов исторических работ начала XVII в., не были личными грехами отдельных людей, обычными нарушениями христианской нравственности. Внимание авторов привлекают грехи общественные, недостатки гражданственности и общественного самосознания. Благодаря этому, понятие «греха» как основной причины исторических несчастий переносилось из сферы идеальной в сферу реальную. «Грехи» становились реальными причинами общественных бедствий, и в этом авторы сочинений о «Смуте» приближались к новому историческому восприятию причинно-следственной связи событий. Большинство авторов, писавших о «Смуте», подробно останавливалось на тех общественных «грехах» русского общества, которые привели в начале XVII в. к установлению самозванщины и вторжению иноземцев, В описаниях этих «црехов» сказались те новые и повышенные требования, которые предъявило новое народное самосознание к гражданским добродетелям населения. В летописях XI–XVI вв. неоднократно выражались требования соблюдения национальных интересов. Но требования эти обычно были обращены к князьям, к духовенству, к боярам, к дружине. «Смута» впервые предъявила суровые требования к каждому члену общества без исключения. Сами по себе эти требования говорят о новом общественном идеале, воспитанном в годы жесточайшей национальной борьбы. Изобличая общественные пороки, приведшие к «всеконечному разорению», первые писатели о «Смуте» имели в виду повысить чувство гражданской ответственности населения. Дьяк Иван Тимофеев, составивший свой «Временник» около 1619 г., видит начало всех зол в нарушении коренных начал русской жизни и в усилившемся влиянии иноземцев. Правители преклоняли уши свои к «ложным шепотам», придавали значение доносам, вследствие чего люди были «страховиты», «изменчивы», «нестоятельны», «словопревратны», «по всему вертяхуся, яко коло [колесо]». Враги Руси воспользовались этой «превратностью» русских, чтобы наслать к ним «лжецарей». Один из главных общественных грехов русских заключался в том, что в наиболее важные исторические моменты они были безгласны, как рыбы. При всеобщем молчании и попустительстве Борис Годунов преступлением добился престола: «онемеша бо языки их и уста затвориша ото мзды; вся же чувства каша паче страхом ослабеша». Тимофеев особенно выделяет именно этот недостаток «мужественные крепости» — пассивное и раболепное «бессловесное молчание» перед сильными мира сего.192 Еще резче об этом недостатке гражданской смелости говорил в своем «Сказании» Авраамий Палицын. Он называет его — «всего мира безумным молчанием» и в этом «безумном молчании» видит основной общественный порок, повлекший за собой ослабление государства.193 Авторы единодушно говорят о недостатке согласия у русских. Из-за своего «несогласия» и гражданского «немужества», — пишет Тимофеев, — русские не только допустили убийство царевича Дмитрия, но затем «бессловесно» сносили мерзости и тгечестие ииославных. «Разность» эта придала крепость врагам Руси. Враги разорили ее и надругались над ее святынями.194 «Не чуждии земли нашей разорители, но мы сами ее потребители».195 В руках народа — его судьба. Как причину «Смуты», авторы выдвигают и социальную несправедливость, разорение бедных богатыми, взяточничество и неправосудие. Неправедно собранными богатствами не искупить греха: излишни заботы богатых о красоте церквей, если она создалась из граблений и посулов. Бог не принял этой жертвы, и неправедная церковная красота подверглась разграблению иноверных. Настоящий храм божий — сам народ: «Писано бо есть, яко „вы есте храм бога жива“… храм — не стены камяны и древяны, но народ верных…»,196 — говорит Авраамий Палщын, выражая характерную для своего времени мысль о единственной и абсолютной ценности народа. В самом народе — источник его бедствий и его освобождения от иноземного ига. В этом осознании значения народа в исторической жизни страны — пафос эпохи. Авраамий Палицын приводит многочисленные случаи мужественной борьбы русских с иноземными захватчиками. Живо и талантливо рассказывает он об освобождении Москвы и о героической защите Троице-Сергиевой лавры, давая в своем изложении многочисленные примеры народного героизма. Так, например, Авраамий Палицын рассказывает о том, как возмущенный изменой брата простой воин Даниил Селев заменил его собой в рядах бойцов и пал в бою. Таким образом, писатели первой четверти XVII в., изобличая общественные пороки, а с другой стороны, показывая героизм простых и малозаметных людей, создавали новые идеалы гражданского служения родине. Итак, эпоха национальной борьбы с самозванщиной и интервенцией отчетливо выдвинула значение народа («земли») в исторической жизни страны. Это значение народа сказалось непосредственно в ходе событий и было осознано исторически. >4 Насколько глубоко проникли в народ новые исторические представления, показывает «Новая повесть о преславном Российском государстве», написание которой отноштся либо к концу 1610 г., либо к самому началу 1611 г. Она сохранилась в единственном списке; ее автор — какой-то приказный — безвестен; название ее — позднейшее, приписанное чужою рукою сверху. Это прокламация, «подметное письмо», брошенное на улицах Москвы с призывом восстать и изгнать из Москвы гарнизон польских интервентов. «А сему бы есте письму верили без всякого су мнения», — обращается автор к москвичам. Он просит не «таить» его письмо, а распространять среди верных людей: «И кто сие письмо возмет и прочтет, и он бы его не таил, давал бы рассмотряючи и ведаючи своей братии православным христианом прочитати вкратце, который за православную веру умрети хотят, чтобы было ведомо, а не тайно». Изменникам, которые «со враги соединилися», — тем бы «есте отнюдь не сказывали и не давали прочитати».197 Письмо написано со страстной убежденностью, ясным, простым и народным языком, частью прозой, частью стихами.198 «Приидите, приидите православни. Сами видите, — обращается автор письма к москвичам, — какое гонение и утеснение воздвигалось на русских: «Всегда многим смертное посечение, Описав злодеяния польских интервентов, автор восклицает: «То ли вам не весть, Автор не жалеет слов для изобличения бояр-изменников и среди них боярина Салтыкова и думного дьяка Андронова. Но письмо — не простой призыв к восстанию. Оно подробно и разумно освещает создавшуюся в стране обстановку. Автор ставит в пример москвичам граждан осажденного Смоленска, мужеством своим прославивших себя не только в России, но и в Литве, и в Польше, и до самого Рима. «И хотят славне умрети, нежели бесчестне и горько жити».206 На краю государства смольняне храбро отбиваются от врагов, которые под Смоленском, как и здесь в Москве, «на сердцах наших стоят». Если бы не Смоленск, войско Сигизмунда давно было бы в Москве. Русские в Смоленске держат короля не за голову, не за руку, не за ногу, а за самое сердце его злонравное и жестокое. Как русские в Смоленске, так в Москве один против всех отбивается патриарх Гермоген. Как эпический герой, патриарх, «исполин безоружный», поражает врагов словом своим и движет народом, сам оставаясь непоколебимым и неодолимым препятствием для врагов. Если он умрет и народ сам не встанет на свою защиту, то погибнут государство и православие. Автор «письма» приводит своеобразную политическую философию. Восстание на врагов — это «подвиг» и «радение». Только вооруженное восстание может искупить грехи русских людей, за которые Вог покарал русских испытанием иноземного ига. Эта точка зрения исключительна по религиозной смелости. Автор говорит о том, что польские интервенты боятся восстания русских. Они действуют осторожно, стремясь прельстить русских ложным уважением к их святыням. Они стоят с мечом над головою русских людей, постепенно стягивая подкрепления; закрыли кремлевские ворота, оставив для русских только узкие двери, в которых стоит шум и визг, как будто бы давят мышей. Польские интервенты хотят властвовать в Москве, но не имеют достаточных сил. Между тем народ могуществен и велик, как море. В этом «великом и недержанном мори» боятся потонуть интервенты. Поэтому хитростью и лестью они сдерживают его возмущение: «Видя зде в мире колебание «Новая повесть о преславном Российском государстве» — одно из первых в русской литературе выступлений средних классов населения. Ее содержание знаменательно. Ни одно из литературных произведений, вышедших из посадской и приказной среды во второй половине XVII в., не заявляет с такой определенностью о силе и могуществе народного «моря». «Смута» произвела глубокие изменения в политических представлениях русского общества. В момент наибольшей опасности для Руси, когда, казалось, иноземцы прочно укрепились в Москве, когда от Русского государства сохранились лишь кое-какие «останки», когда, наконец, русские сознавали, что не было еще в мировой истории «таково наказания ни на едину монаршию, ниже на царства и княжения, еже случися над превысочайшею Россиею», — в этот момент «последние люди» поднялись на защиту родины. В политических потрясениях «великой разрухи» родилась твердая уверенность в силе народа, родились мысли о «земском деле», о «всей земле»; сознание верховного значения народа и его интересов в государственной жизни страны. Это новое политическое сознание, выросшее в ужасах «последнего разорения», когда низшие и средние классы сделали отчаянное усилие для спасения Руси, — явилось предвестием нового времени. >Комментарии id="c_1">1 Доклад на Съезде советских писателей 17 августа 1934 г. id="c_2">2 Изд. 3, Л., 1939, стр. 5. id="c_3">3 А. А. Шахматов. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908, стр. 226 и др. id="c_4">4 См. об этом: Д. И. Прозоровский. Новые разыскания о новгородских посадниках. СПб., 1892, стр. 3. id="c_5">5 Лаврентьевская летопись под 985 г. id="c_6">6 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 377. id="c_7">7 Там же, стр. 378. id="c_8">8 Всев. Миллер. Очерки русской народной словесности, т. II. 1910, стр. 1–31. id="c_9">9 Марков. Беломорские былины. М., 1901, №№ 50 и 80. id="c_10">10 Астахова. Былины Севера, т. I. М.-Л., 1938, № 15. id="c_11">11 А. В. Марков. Из истории русского былевого эпоса, вып. 1. 1905, стр. 30–66. id="c_12">12 Повесть временных лет под 1061 г. Мотив загадывания загадки с последующим убийством неудачного отгадчика и др. id="c_13">13 Здесь и далее, слова в цитатах, взятые в прямых скобках, принадлежат автору настоящей работы Д. С. Лихачеву. id="c_14">14 Провар — то количество меда, которое можно сварить за один раз, — очевидно несколько ведер. id="c_15">15 Ипатьевская летопись под 964 г. id="c_16">16 Шелковые ткани. id="c_17">17 Ипатьевская летопись под 970 г. id="c_18">18 Там же под 971 г. id="c_19">19 Там же под 1201 г. id="c_20">20 Лаврентьевская летопись под 945 г. id="c_21">21 Там же. id="c_22">22 См. его Historia V, 7. Migne SGr. 133 col., 569–581. id="c_23">23 Пл. Соколов. Русский архиерей из Византии. Киев, 1913, стр. 12–13. id="c_24">24 В. Г. Васильевский, Труды, т. I, стр. 304. id="c_25">25 Аналогично смотрел на болгар Василий Болгаробойца, отказавшийся видеть в них воюющую сторону и тысячами ослеплявший пленных болгар, как бунтовщиков. id="c_26">26 Мы не останавливаемся на спорной проблеме Охридского архиепископата, в данном случае для нас несущественной. См. об этом: М. Д. Приселков. Очерки по церковно-долитической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 1913, стр. 33 и сл. id="c_27">25 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 539 и сл. Мы пользуемся гипотетическим восстановлением свода у Шахматова. Однако к какому времени ни относить составление свода Ярослава и в каком объеме его ни восстанавливать, — общий характер свода от этого не меняется. id="c_28">28 М. Д. Приселков. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 1913, стр. 82. id="c_29">29 Там же, стр. 84. id="c_30">30 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940. стр. 26. id="c_31">31 М. Д. Приселков. Очерки…, стр. 82. id="c_32">32 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 553. id="c_33">33 Там же, стр. 556–557. id="c_34">34 Там же, стр. 562. id="c_35">35 Там же, стр. 577. id="c_36">36 Там же, стр. 546–547. id="c_37">37 Там же, стр. 578. id="c_38">38 Там же, стр. 542. id="c_39">39 Там же, стр. 550. id="c_40">40 Там же, стр. 547. id="c_41">41 Там же, стр. 563. id="c_42">42 Там же, стр. 564. id="c_43">43 Там же, стр. 583–584. id="c_44">44 Там же, стр. 583. id="c_45">45 Акад. Б. Д. Греков. Развитие исторических наук в СССР за 25 лет. Под знаменем марксизма, 1942, № 11–12. id="c_46">46 Памятники древне-русской церковно-учительной литературы, под ред. А. И. Пономарева, вып. I. СПб., 1894, стр. 59. id="c_47">47 Там же, стр. 59. id="c_48">48 С. П. Шевырев. История русской словесности, ч. 2. Изд. 2, М., 1860, стр. 26. id="c_49">49 Памятники…, стр. 63. id="c_50">50 Там же, стр. 62. id="c_51">51 И. Н. Жданов, Соч., т. I, стр. 80. id="c_52">52 Памятники. стр. 66. id="c_53">53 Общее оптимистическое жизнерадостное содержание «Слова», настроение торжества, повидимому, свидетельствуют о том, что «Слово» возникло до похода Владимира Ярославича 1043 г. id="c_54">54 М. Д. Приселков. Очерки…, стр. 66 и сл. id="c_55">55 А. А. Шахматов. Сборник статей в честь В. И. Ламанского, Ч. II. СПб., 1906, и рец. Шестакова, Журнал Мин. нар. просв., нов. серия, ч. XIII, 1908, январь. id="c_56">56 И. Н. Жданов, Соч., т. I, стр. 19. id="c_57">57 Памятники…, стр. 67. id="c_58">58 Там же. id="c_59">59 Там же, стр. 68 (исправляю в тексте опечатки издания. — Д. Л.). id="c_60">60 Там же, стр. 69. id="c_61">61 Там же, стр. 69. id="c_62">62 Там же, стр. 69–70. id="c_63">63 Там же, стр. 70. id="c_64">64 Там же. id="c_65">65 Там же, стр. 70. id="c_66">66 Там же. id="c_67">67 Там же, стр. 70. id="c_68">68 Там же. id="c_69">69 Там же, стр. 72. id="c_70">70 Там же, стр. 73. id="c_71">71 Там же, стр. 75. id="c_72">72 Там же, стр. 78. id="c_73">73 Первоначально считали, что «Слово» было направлено против иудейского учения. Мнение это опроверг акад. И. Н. Жданов (Соч., т. I, 1872; стр. 1–80). id="c_74">74 В. М. Истрин. Очерк истории древнерусской литературы; т. II. 1922, стр. 131. id="c_75">75 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 398 и сл. id="c_76">76 М. Д. Приселков. Очерки…, стр. 98. id="c_77">77 Памятники…, стр. 74. id="c_78">78 Там же. id="c_79">79 Д. В. Айналов и Е. Редин. Древние памятники искусства Киева, т. X. 1899, стр. 5. id="c_80">80 Памятники…, стр. 60. id="c_81">81 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 583. id="c_82">82 Памятники…, стр. 74. id="c_83">83 Д. В. Айналов и Е. Редин. Древние памятники…, т. X. 1899, стр. 39–40. id="c_84">84 Памятники…, стр. 65. id="c_85">85 Там же…, стр. 75. id="c_86">86 Памятники древней письменности, т. 81, стр. 25. См. об этом: Пл. Соколов. Русский архиерей из Византии. Киев, 1913, стр. 51. id="c_87">87 Акты и стар., I, № 78, стр. 128. id="c_88">88 См. выше в послании митрополита Феодосия 1464 г. id="c_89">89 Прибавления к творениям св. отец, т. II, стр. 255. id="c_90">90 Разыскания…, стр. 582. id="c_91">91 Акад. Н. К. Никольский. О древнерусском христианстве. Русская мысль, 1913, кн. 6, стр. 12. id="c_92">92 М. Д. Приселков. Борьба двух мировоззрений. Сб. «Россия и Запад», под ред. А. И. Заозерского. II, 1923. id="c_93">93 М. П. Петровский. Иларион, митрополит Киевский, и Доментиан, иеромонах хнландарский. Известия ОРЯС, 1908, кн. 4. id="c_94">94 История русской литературы, т. I. Изд. Инст. литер. Акад. Наук СССР, М.—Л., 1940, стр. 271 (гипотеза покойного В. Л. Комаровича). id="c_95">95 Лаврентьевская летопись под 1054 г. id="c_96">96 Ср. в «Слове о полку Игореве» — «земля незнаема» — половецкая степь. id="c_97">97 Лаврентьевская летопись под 1093 г. id="c_98">98 Там же, введение. id="c_99">99 Т. е. наваром из кислой травы, которым мылись в бане. id="c_100">100 Лаврентьевская летопись, введение. id="c_101">101 Там же под 992 г. id="c_102">102 Там же под 1097 г. id="c_103">103 Там же. id="c_104">104 Там же. id="c_105">105 Ипатьевская летопись под 1097 г. id="c_106">106 Лаврентьевекая летопись под 1097 г id="c_107">107 Там же. id="c_108">108 Там же. id="c_109">109 Там же под 1096 г. id="c_110">110 Там же под 1095 г. id="c_111">111 Акад. Б. Д. Греков. Киевская Русь. Изд. 3, M.-Л., 1939, стр. 277. id="c_112">112 Н. И. Брунов. К вопросу о самостоятельных чертах русской архитектуры X — ХII вв. Сб. «Русская архитектура», 1940. id="c_113">113 История русской литературы, т. I. Изд. Инст. литер. Акад. Наук СССР, М. — Л., 1941, стр. 212 и сл. id="c_114">114 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 44. id="c_115">115 Новгородская летопись по Синод. сп., изд. 1888 г., стр. 145. id="c_116">116 Там же, стр. 160. id="c_117">117 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 40. id="c_118">118 А. Е. Пресняков. Лекции по русской истории, т. I. 1938, стр. 239. id="c_119">119 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 64. id="c_120">120 А. А. Шахматов. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв., Л., 1938, стр. 131. id="c_121">121 Предлагаемая ниже характеристика черниговского летописца несколько расходится с построением истории русского летописания XII в. в работах А. А. Шахматова и М. Д. Приселкова. id="c_122">122 Ипатьевская летопись под 1185 г. id="c_123">123 Акад. А. С. Орлов. Слово о полку Игореве. Л., 1938, стр. 48. id="c_124">124 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXII, М.—Л., 1931, стр. 48. id="c_125">125 «Кощей» (от тюркского «кошчи») — конюх, обозный, раб, пленник. «Чага» (от арабского asaha) — невольница. «Ногата» и «резань» — древнерусские единицы. id="c_126">126 А. Рублев умер в 1427 или 1430 г., в возрасте около 60–70 лет. Следовательно, надо считать, что он родился в 60-х — 70-х годах XIV в. id="c_127">127 Н. Каринский. Русская надпись в люблинском тюремном костеле. Известия Археологической комиссии, вып. 55, Пгр., 1914; акад. А. Соболевский. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. Спб., 1910; он же. Русские фрески в старой Польше. М., 1916; F. Kopera. O malarstwie bizantyskiem w Polsce. Polski Muzeum, Z. VIII, Krakow. id="c_128">128 К. Иречек. История болгар. Одесса, 1878, стр. 984–986. id="c_129">129 И. Ягич. Исследования но русскому языку, т. I, стр. 396 и др. id="c_130">130 А. А. Шахматов. Общерусские летописные своды XIV и XV веков. Журнал Мин. нар. просв., 1900, т. IX, стр. 91. id="c_131">131 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 113 и сл. id="c_132">132 Датировка М. Д. Приселкова (там же, стр. 128 и сл.). id="c_133">133 См. об этом подробно: А. А. Шахматов. Общерусские летописные своды XIV и XV веков. Журнал Мин. нар. проев., 1901, т. XI, стр. 73–77. id="c_134">134 Характер этой перемены вскрыт В. Л. Комаровичем в главе «Московские летописи» II тома академической «Истории русской литературы». М.—Л., 1945. id="c_135">135 См.: Летописец Рогожский. Полное Собрание русских летописей [ПСРЛ], т. XV, изд. 2, вып. 1, 1922, стр. 144 и сл.; Симеоновская летопись. ПСРЛ, т. XVIII, 1913, стр. 131 и сл. id="c_136">136 Симеоновская летопись. ПСРЛ, т. XVIII, СПб., 1913, стр. 156. id="c_137">137 Там же, стр. 157. id="c_138">138 Там же, стр. 158. id="c_139">139 Там же, стр. 159. id="c_140">140 Проф. Н. Н. Воронин. Владимиро-суздальское наследие в русском зодчестве. Архитектура СССР, 1940, № 2; И. Грабарь. Андрей Рублев. Вопросы реставрации, вып. 1, стр. 65 и сл.; 0 росписях Успенского собора во Владимире, там же, стр. 22–33. id="c_141">141 Ср., например, в Симеоновской летописи, где татары названы половцами под 1378 г., а татарская степь — половецкой под 1380 г. и т. д. Ср. также Летописец Переяславля Суздальского, где печенеги и половцы неоднократно называются татарами. Очевидно, «Повесть временных лет» воспринималась современниками Донской битвы в сопоставлении с событиями этой современности. История Руси представлялась историей непрекращающихся войн со степными народами, войн за независимость. id="c_142">142 Ф. Буслаев. Рецензия на работу О. Миллера «Илья Муромец и богатырство Киевское». Журнал Мин. нар. просв., 1871, 4, стр. 217. id="c_143">143 А. Н. Веселовский. Из введения в историческую поэтику. Собр. соч., т. I, стр. 36–37. id="c_144">144 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 443. id="c_145">145 Ю. Н. Дмитриев. К истории новгородской архитектуры. Новгородский исторический сборник, вып. 2, Л., 1937. id="c_146">146 Новгородская IV летопись. ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, Л., 1925, стр. 444. id="c_147">147 Новгородская III летопись. Новгородские летописи, СПб., 1879, стр. 271. id="c_148">148 В. Яблонский. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб.1908, стр. 100. id="c_149">149 Памятники старинной русской литературы, издававшиеся Кушелевым-Безбородко, вып. 4, 1862, стр. 30. id="c_150">150 ПСРЛ, Т. IV, Ч. 1, вып. 2, Л., 1925 стр. 448. id="c_151">151 Там же, стр. 446. id="c_152">152 Там же, стр. 447. id="c_153">153 Там же, стр. 498. id="c_154">154 Там же, стр. 504. id="c_155">155 Там же, стр. 513. id="c_156">156 Софийская II летопись под 1471 г. id="c_157">157 См. подробнее: А. А. Шахматов. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв. Л., 1938, стр. 371 и др. id="c_158">158 Софийская II летопись под 1475 г. id="c_159">159 Проф. Успенский. Брак царя Ивана III. Исторический Вестник, 1887, № 12, стр. 689. Ср. также: О. Пирлинг. Россия и Восток, стр. 103, 166. id="c_160">160 Сборник импер. Русского исторического общества, т. 53, стр. 85 и сл. id="c_161">161 Там же, стр. 91. id="c_162">162 Там же, стр. 92. id="c_163">163 Там же, стр. 86. id="c_164">164 Софийская II летопись под 1481 г. id="c_165">165 Сочинения Максима Грека, 1889, «Слово» VII. id="c_166">166 Н. П. Лихачев. Инока Фомы слово похвальное о князе Борисе Александровиче! СПб., 1906. id="c_167">167 По мнению некоторых исследователей — Ивана IV. id="c_168">168 В. Малинин. Старец Елеазарова монастыря Филофей… Киев, 1901» стр. 547. id="c_169">169 Малинин, там же, Приложение, стр. 50. id="c_170">170 Православный собеседник, 1861, ч. II, стр. 297. id="c_171">171 Отличие теории Филофея от официальной идеологии московского правительства отмечает и В. Малинин. Он пишет о Филофее: «у него с большею полнотою и определенностью выступает теория мирового призвания России, как царства не только единственно православного, но и последнего, призванного существовать до конца вселенной. Отсюда в несколько ином обосновании выступает у него и теория царской власти» (Старец Елеазарова монастыря Филофей… 1901, стр. 616). id="c_172">172 Suppl. ad Historica Russiae Monumenta, p. 102. Цитирует Е. Голубинский. История русской церкви, т. I, ч. 1, стр. 8. Предание о посещении апостола Андрея попадает в XVI в. в Степенную книгу (I, 95–97) и другие. id="c_173">173 Сочинения Максима Грека, 1889, «Слово» VII. id="c_174">174 Собрание государственных грамот и договоров (СГГиД), т. I, стр. 71, 73, 78, 81, 84, 87, 89, 92, 98, 101, 103, 108, 111, 114, 117, 120, 122, 125,128, 131, 348, 158, 161, 164, 167, 180, 184, 197, 201, 205, 229. id="c_175">175 ПСРЛ, т. VI, стр. 20 и 224; т. VIII, стр. 206; Никоновская, т. VI, стр. 112. id="c_176">176 Памятники дипломатических сношений древней Руси с державами иностранными, т. I, стр. 46, 47, 59–61, 87, 96–93, 114. id="c_177">177 Там же, стр. 12. id="c_178">178 В 1495 г. при дворе Ивана III появились новые чины: казначея, постельничьего, ясельничего, и с 1496 г. — конюшего (М. П. Шереметьев. Список старинных бояр, дворецких, окольничьих и некоторых других придворных чинов. Др. Российская Вивлиофика, т. XX, изд. 2, стр. 8). id="c_179">179 Памятники дипломатических сношений…, т. I, стр. 17. id="c_180">180 И. Н. Жданов. Русский былевой эпос. Исследования и материалы, т. I–V, СПб., 1895. id="c_181">181 Theiner. Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, т. II, № 257. Romae, an. 1861. Цитирует: В. Савва. Московские цари и византийские-василевсы, 1901, стр. 274. id="c_182">182 Сборник импер. Русского исторического общества, т. 35, стр. 80–82 и др. id="c_183">183 Там же, т. 59, стр. 309 и сл. id="c_184">184 Там же, стр. 345. id="c_185">185 Там же, стр. 451. id="c_186">186 Там же, стр. 474 и сл. id="c_187">187 Там же, стр. 504 и сл.; стр. 519 и сл. id="c_188">188 Иосиф Волоцкий. Просветитель. Печати, изд. Казанск. духовн. акад.,л. 57. id="c_189">189 Русская историческая библиотека, т. VI, столб. 723. id="c_190">190 См. «Летописец Русский», изданный А. Н. Лебедевым (Чтения в Обществе истории и древностей российских, 1895, вып. 3), — известие о построении храма Покрова в октябре 7063 г. (1553) (стр. 31) и затем под июнем 7063 г. (1554): «Того же месяца благоверный и христолюбивый царь и великий государь велел заложит церковь камену Покров Пречистыя Богородицы о девяти верхах, которой был преже древян о Казанском взятии у Фроловских ворот» (стр. 36). id="c_191">191 И. Забелин. Черты самобытности в древнерусском зодчестве. id="c_192">192 Русская историческая библиотека, т. XIII, СПб., 1892, стр. 463 и сл. id="c_193">193 Там же, стр. 479. id="c_194">194 Там же, стр. 463 и сл. id="c_195">195 Там же, стр. 465. id="c_196">196 Там же, стр. 516–517. id="c_197">197 Там же, стр. 218. id="c_198">198 Стихотворная форма «Новой повести» до сих пор не была отмечена. id="c_199">199 Русская историческая библиотека, т. ХIII, стр. 200. id="c_200">200 Там же, стр. 210. id="c_201">201 Траве. id="c_202">202 Русская историческая библиотека, т. XIII, стр. 210. id="c_203">203 Слова, заключенные в скобки, очевидно, позднейшая разъясняющая вставка. id="c_204">204 Русская историческая библиотека, т. XIII, стр. 212. id="c_205">205 Там же, стр. 213. id="c_206">206 Там же, стр. 189. id="c_207">207 Там же, стр. 202. Комментарии id="c_1">1 Доклад на Съезде советских писателей 17 августа 1934 г. id="c_2">2 Изд. 3, Л., 1939, стр. 5. id="c_3">3 А. А. Шахматов. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908, стр. 226 и др. id="c_4">4 См. об этом: Д. И. Прозоровский. Новые разыскания о новгородских посадниках. СПб., 1892, стр. 3. id="c_5">5 Лаврентьевская летопись под 985 г. id="c_6">6 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 377. id="c_7">7 Там же, стр. 378. id="c_8">8 Всев. Миллер. Очерки русской народной словесности, т. II. 1910, стр. 1–31. id="c_9">9 Марков. Беломорские былины. М., 1901, №№ 50 и 80. id="c_10">10 Астахова. Былины Севера, т. I. М.-Л., 1938, № 15. id="c_11">11 А. В. Марков. Из истории русского былевого эпоса, вып. 1. 1905, стр. 30–66. id="c_12">12 Повесть временных лет под 1061 г. Мотив загадывания загадки с последующим убийством неудачного отгадчика и др. id="c_13">13 Здесь и далее, слова в цитатах, взятые в прямых скобках, принадлежат автору настоящей работы Д. С. Лихачеву. id="c_14">14 Провар — то количество меда, которое можно сварить за один раз, — очевидно несколько ведер. id="c_15">15 Ипатьевская летопись под 964 г. id="c_16">16 Шелковые ткани. id="c_17">17 Ипатьевская летопись под 970 г. id="c_18">18 Там же под 971 г. id="c_19">19 Там же под 1201 г. id="c_20">20 Лаврентьевская летопись под 945 г. id="c_21">21 Там же. id="c_22">22 См. его Historia V, 7. Migne SGr. 133 col., 569–581. id="c_23">23 Пл. Соколов. Русский архиерей из Византии. Киев, 1913, стр. 12–13. id="c_24">24 В. Г. Васильевский, Труды, т. I, стр. 304. id="c_25">25 Аналогично смотрел на болгар Василий Болгаробойца, отказавшийся видеть в них воюющую сторону и тысячами ослеплявший пленных болгар, как бунтовщиков. id="c_26">26 Мы не останавливаемся на спорной проблеме Охридского архиепископата, в данном случае для нас несущественной. См. об этом: М. Д. Приселков. Очерки по церковно-долитической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 1913, стр. 33 и сл. id="c_27">25 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 539 и сл. Мы пользуемся гипотетическим восстановлением свода у Шахматова. Однако к какому времени ни относить составление свода Ярослава и в каком объеме его ни восстанавливать, — общий характер свода от этого не меняется. id="c_28">28 М. Д. Приселков. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 1913, стр. 82. id="c_29">29 Там же, стр. 84. id="c_30">30 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940. стр. 26. id="c_31">31 М. Д. Приселков. Очерки…, стр. 82. id="c_32">32 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 553. id="c_33">33 Там же, стр. 556–557. id="c_34">34 Там же, стр. 562. id="c_35">35 Там же, стр. 577. id="c_36">36 Там же, стр. 546–547. id="c_37">37 Там же, стр. 578. id="c_38">38 Там же, стр. 542. id="c_39">39 Там же, стр. 550. id="c_40">40 Там же, стр. 547. id="c_41">41 Там же, стр. 563. id="c_42">42 Там же, стр. 564. id="c_43">43 Там же, стр. 583–584. id="c_44">44 Там же, стр. 583. id="c_45">45 Акад. Б. Д. Греков. Развитие исторических наук в СССР за 25 лет. Под знаменем марксизма, 1942, № 11–12. id="c_46">46 Памятники древне-русской церковно-учительной литературы, под ред. А. И. Пономарева, вып. I. СПб., 1894, стр. 59. id="c_47">47 Там же, стр. 59. id="c_48">48 С. П. Шевырев. История русской словесности, ч. 2. Изд. 2, М., 1860, стр. 26. id="c_49">49 Памятники…, стр. 63. id="c_50">50 Там же, стр. 62. id="c_51">51 И. Н. Жданов, Соч., т. I, стр. 80. id="c_52">52 Памятники. стр. 66. id="c_53">53 Общее оптимистическое жизнерадостное содержание «Слова», настроение торжества, повидимому, свидетельствуют о том, что «Слово» возникло до похода Владимира Ярославича 1043 г. id="c_54">54 М. Д. Приселков. Очерки…, стр. 66 и сл. id="c_55">55 А. А. Шахматов. Сборник статей в честь В. И. Ламанского, Ч. II. СПб., 1906, и рец. Шестакова, Журнал Мин. нар. просв., нов. серия, ч. XIII, 1908, январь. id="c_56">56 И. Н. Жданов, Соч., т. I, стр. 19. id="c_57">57 Памятники…, стр. 67. id="c_58">58 Там же. id="c_59">59 Там же, стр. 68 (исправляю в тексте опечатки издания. — Д. Л.). id="c_60">60 Там же, стр. 69. id="c_61">61 Там же, стр. 69. id="c_62">62 Там же, стр. 69–70. id="c_63">63 Там же, стр. 70. id="c_64">64 Там же. id="c_65">65 Там же, стр. 70. id="c_66">66 Там же. id="c_67">67 Там же, стр. 70. id="c_68">68 Там же. id="c_69">69 Там же, стр. 72. id="c_70">70 Там же, стр. 73. id="c_71">71 Там же, стр. 75. id="c_72">72 Там же, стр. 78. id="c_73">73 Первоначально считали, что «Слово» было направлено против иудейского учения. Мнение это опроверг акад. И. Н. Жданов (Соч., т. I, 1872; стр. 1–80). id="c_74">74 В. М. Истрин. Очерк истории древнерусской литературы; т. II. 1922, стр. 131. id="c_75">75 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 398 и сл. id="c_76">76 М. Д. Приселков. Очерки…, стр. 98. id="c_77">77 Памятники…, стр. 74. id="c_78">78 Там же. id="c_79">79 Д. В. Айналов и Е. Редин. Древние памятники искусства Киева, т. X. 1899, стр. 5. id="c_80">80 Памятники…, стр. 60. id="c_81">81 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 583. id="c_82">82 Памятники…, стр. 74. id="c_83">83 Д. В. Айналов и Е. Редин. Древние памятники…, т. X. 1899, стр. 39–40. id="c_84">84 Памятники…, стр. 65. id="c_85">85 Там же…, стр. 75. id="c_86">86 Памятники древней письменности, т. 81, стр. 25. См. об этом: Пл. Соколов. Русский архиерей из Византии. Киев, 1913, стр. 51. id="c_87">87 Акты и стар., I, № 78, стр. 128. id="c_88">88 См. выше в послании митрополита Феодосия 1464 г. id="c_89">89 Прибавления к творениям св. отец, т. II, стр. 255. id="c_90">90 Разыскания…, стр. 582. id="c_91">91 Акад. Н. К. Никольский. О древнерусском христианстве. Русская мысль, 1913, кн. 6, стр. 12. id="c_92">92 М. Д. Приселков. Борьба двух мировоззрений. Сб. «Россия и Запад», под ред. А. И. Заозерского. II, 1923. id="c_93">93 М. П. Петровский. Иларион, митрополит Киевский, и Доментиан, иеромонах хнландарский. Известия ОРЯС, 1908, кн. 4. id="c_94">94 История русской литературы, т. I. Изд. Инст. литер. Акад. Наук СССР, М.—Л., 1940, стр. 271 (гипотеза покойного В. Л. Комаровича). id="c_95">95 Лаврентьевская летопись под 1054 г. id="c_96">96 Ср. в «Слове о полку Игореве» — «земля незнаема» — половецкая степь. id="c_97">97 Лаврентьевская летопись под 1093 г. id="c_98">98 Там же, введение. id="c_99">99 Т. е. наваром из кислой травы, которым мылись в бане. id="c_100">100 Лаврентьевская летопись, введение. id="c_101">101 Там же под 992 г. id="c_102">102 Там же под 1097 г. id="c_103">103 Там же. id="c_104">104 Там же. id="c_105">105 Ипатьевская летопись под 1097 г. id="c_106">106 Лаврентьевекая летопись под 1097 г id="c_107">107 Там же. id="c_108">108 Там же. id="c_109">109 Там же под 1096 г. id="c_110">110 Там же под 1095 г. id="c_111">111 Акад. Б. Д. Греков. Киевская Русь. Изд. 3, M.-Л., 1939, стр. 277. id="c_112">112 Н. И. Брунов. К вопросу о самостоятельных чертах русской архитектуры X — ХII вв. Сб. «Русская архитектура», 1940. id="c_113">113 История русской литературы, т. I. Изд. Инст. литер. Акад. Наук СССР, М. — Л., 1941, стр. 212 и сл. id="c_114">114 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 44. id="c_115">115 Новгородская летопись по Синод. сп., изд. 1888 г., стр. 145. id="c_116">116 Там же, стр. 160. id="c_117">117 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 40. id="c_118">118 А. Е. Пресняков. Лекции по русской истории, т. I. 1938, стр. 239. id="c_119">119 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 64. id="c_120">120 А. А. Шахматов. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв., Л., 1938, стр. 131. id="c_121">121 Предлагаемая ниже характеристика черниговского летописца несколько расходится с построением истории русского летописания XII в. в работах А. А. Шахматова и М. Д. Приселкова. id="c_122">122 Ипатьевская летопись под 1185 г. id="c_123">123 Акад. А. С. Орлов. Слово о полку Игореве. Л., 1938, стр. 48. id="c_124">124 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXII, М.—Л., 1931, стр. 48. id="c_125">125 «Кощей» (от тюркского «кошчи») — конюх, обозный, раб, пленник. «Чага» (от арабского asaha) — невольница. «Ногата» и «резань» — древнерусские единицы. id="c_126">126 А. Рублев умер в 1427 или 1430 г., в возрасте около 60–70 лет. Следовательно, надо считать, что он родился в 60-х — 70-х годах XIV в. id="c_127">127 Н. Каринский. Русская надпись в люблинском тюремном костеле. Известия Археологической комиссии, вып. 55, Пгр., 1914; акад. А. Соболевский. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. Спб., 1910; он же. Русские фрески в старой Польше. М., 1916; F. Kopera. O malarstwie bizantyskiem w Polsce. Polski Muzeum, Z. VIII, Krakow. id="c_128">128 К. Иречек. История болгар. Одесса, 1878, стр. 984–986. id="c_129">129 И. Ягич. Исследования но русскому языку, т. I, стр. 396 и др. id="c_130">130 А. А. Шахматов. Общерусские летописные своды XIV и XV веков. Журнал Мин. нар. просв., 1900, т. IX, стр. 91. id="c_131">131 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 113 и сл. id="c_132">132 Датировка М. Д. Приселкова (там же, стр. 128 и сл.). id="c_133">133 См. об этом подробно: А. А. Шахматов. Общерусские летописные своды XIV и XV веков. Журнал Мин. нар. проев., 1901, т. XI, стр. 73–77. id="c_134">134 Характер этой перемены вскрыт В. Л. Комаровичем в главе «Московские летописи» II тома академической «Истории русской литературы». М.—Л., 1945. id="c_135">135 См.: Летописец Рогожский. Полное Собрание русских летописей [ПСРЛ], т. XV, изд. 2, вып. 1, 1922, стр. 144 и сл.; Симеоновская летопись. ПСРЛ, т. XVIII, 1913, стр. 131 и сл. id="c_136">136 Симеоновская летопись. ПСРЛ, т. XVIII, СПб., 1913, стр. 156. id="c_137">137 Там же, стр. 157. id="c_138">138 Там же, стр. 158. id="c_139">139 Там же, стр. 159. id="c_140">140 Проф. Н. Н. Воронин. Владимиро-суздальское наследие в русском зодчестве. Архитектура СССР, 1940, № 2; И. Грабарь. Андрей Рублев. Вопросы реставрации, вып. 1, стр. 65 и сл.; 0 росписях Успенского собора во Владимире, там же, стр. 22–33. id="c_141">141 Ср., например, в Симеоновской летописи, где татары названы половцами под 1378 г., а татарская степь — половецкой под 1380 г. и т. д. Ср. также Летописец Переяславля Суздальского, где печенеги и половцы неоднократно называются татарами. Очевидно, «Повесть временных лет» воспринималась современниками Донской битвы в сопоставлении с событиями этой современности. История Руси представлялась историей непрекращающихся войн со степными народами, войн за независимость. id="c_142">142 Ф. Буслаев. Рецензия на работу О. Миллера «Илья Муромец и богатырство Киевское». Журнал Мин. нар. просв., 1871, 4, стр. 217. id="c_143">143 А. Н. Веселовский. Из введения в историческую поэтику. Собр. соч., т. I, стр. 36–37. id="c_144">144 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 443. id="c_145">145 Ю. Н. Дмитриев. К истории новгородской архитектуры. Новгородский исторический сборник, вып. 2, Л., 1937. id="c_146">146 Новгородская IV летопись. ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, Л., 1925, стр. 444. id="c_147">147 Новгородская III летопись. Новгородские летописи, СПб., 1879, стр. 271. id="c_148">148 В. Яблонский. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб.1908, стр. 100. id="c_149">149 Памятники старинной русской литературы, издававшиеся Кушелевым-Безбородко, вып. 4, 1862, стр. 30. id="c_150">150 ПСРЛ, Т. IV, Ч. 1, вып. 2, Л., 1925 стр. 448. id="c_151">151 Там же, стр. 446. id="c_152">152 Там же, стр. 447. id="c_153">153 Там же, стр. 498. id="c_154">154 Там же, стр. 504. id="c_155">155 Там же, стр. 513. id="c_156">156 Софийская II летопись под 1471 г. id="c_157">157 См. подробнее: А. А. Шахматов. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв. Л., 1938, стр. 371 и др. id="c_158">158 Софийская II летопись под 1475 г. id="c_159">159 Проф. Успенский. Брак царя Ивана III. Исторический Вестник, 1887, № 12, стр. 689. Ср. также: О. Пирлинг. Россия и Восток, стр. 103, 166. id="c_160">160 Сборник импер. Русского исторического общества, т. 53, стр. 85 и сл. id="c_161">161 Там же, стр. 91. id="c_162">162 Там же, стр. 92. id="c_163">163 Там же, стр. 86. id="c_164">164 Софийская II летопись под 1481 г. id="c_165">165 Сочинения Максима Грека, 1889, «Слово» VII. id="c_166">166 Н. П. Лихачев. Инока Фомы слово похвальное о князе Борисе Александровиче! СПб., 1906. id="c_167">167 По мнению некоторых исследователей — Ивана IV. id="c_168">168 В. Малинин. Старец Елеазарова монастыря Филофей… Киев, 1901» стр. 547. id="c_169">169 Малинин, там же, Приложение, стр. 50. id="c_170">170 Православный собеседник, 1861, ч. II, стр. 297. id="c_171">171 Отличие теории Филофея от официальной идеологии московского правительства отмечает и В. Малинин. Он пишет о Филофее: «у него с большею полнотою и определенностью выступает теория мирового призвания России, как царства не только единственно православного, но и последнего, призванного существовать до конца вселенной. Отсюда в несколько ином обосновании выступает у него и теория царской власти» (Старец Елеазарова монастыря Филофей… 1901, стр. 616). id="c_172">172 Suppl. ad Historica Russiae Monumenta, p. 102. Цитирует Е. Голубинский. История русской церкви, т. I, ч. 1, стр. 8. Предание о посещении апостола Андрея попадает в XVI в. в Степенную книгу (I, 95–97) и другие. id="c_173">173 Сочинения Максима Грека, 1889, «Слово» VII. id="c_174">174 Собрание государственных грамот и договоров (СГГиД), т. I, стр. 71, 73, 78, 81, 84, 87, 89, 92, 98, 101, 103, 108, 111, 114, 117, 120, 122, 125,128, 131, 348, 158, 161, 164, 167, 180, 184, 197, 201, 205, 229. id="c_175">175 ПСРЛ, т. VI, стр. 20 и 224; т. VIII, стр. 206; Никоновская, т. VI, стр. 112. id="c_176">176 Памятники дипломатических сношений древней Руси с державами иностранными, т. I, стр. 46, 47, 59–61, 87, 96–93, 114. id="c_177">177 Там же, стр. 12. id="c_178">178 В 1495 г. при дворе Ивана III появились новые чины: казначея, постельничьего, ясельничего, и с 1496 г. — конюшего (М. П. Шереметьев. Список старинных бояр, дворецких, окольничьих и некоторых других придворных чинов. Др. Российская Вивлиофика, т. XX, изд. 2, стр. 8). id="c_179">179 Памятники дипломатических сношений…, т. I, стр. 17. id="c_180">180 И. Н. Жданов. Русский былевой эпос. Исследования и материалы, т. I–V, СПб., 1895. id="c_181">181 Theiner. Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, т. II, № 257. Romae, an. 1861. Цитирует: В. Савва. Московские цари и византийские-василевсы, 1901, стр. 274. id="c_182">182 Сборник импер. Русского исторического общества, т. 35, стр. 80–82 и др. id="c_183">183 Там же, т. 59, стр. 309 и сл. id="c_184">184 Там же, стр. 345. id="c_185">185 Там же, стр. 451. id="c_186">186 Там же, стр. 474 и сл. id="c_187">187 Там же, стр. 504 и сл.; стр. 519 и сл. id="c_188">188 Иосиф Волоцкий. Просветитель. Печати, изд. Казанск. духовн. акад.,л. 57. id="c_189">189 Русская историческая библиотека, т. VI, столб. 723. id="c_190">190 См. «Летописец Русский», изданный А. Н. Лебедевым (Чтения в Обществе истории и древностей российских, 1895, вып. 3), — известие о построении храма Покрова в октябре 7063 г. (1553) (стр. 31) и затем под июнем 7063 г. (1554): «Того же месяца благоверный и христолюбивый царь и великий государь велел заложит церковь камену Покров Пречистыя Богородицы о девяти верхах, которой был преже древян о Казанском взятии у Фроловских ворот» (стр. 36). id="c_191">191 И. Забелин. Черты самобытности в древнерусском зодчестве. id="c_192">192 Русская историческая библиотека, т. XIII, СПб., 1892, стр. 463 и сл. id="c_193">193 Там же, стр. 479. id="c_194">194 Там же, стр. 463 и сл. id="c_195">195 Там же, стр. 465. id="c_196">196 Там же, стр. 516–517. id="c_197">197 Там же, стр. 218. id="c_198">198 Стихотворная форма «Новой повести» до сих пор не была отмечена. id="c_199">199 Русская историческая библиотека, т. ХIII, стр. 200. id="c_200">200 Там же, стр. 210. id="c_201">201 Траве. id="c_202">202 Русская историческая библиотека, т. XIII, стр. 210. id="c_203">203 Слова, заключенные в скобки, очевидно, позднейшая разъясняющая вставка. id="c_204">204 Русская историческая библиотека, т. XIII, стр. 212. id="c_205">205 Там же, стр. 213. id="c_206">206 Там же, стр. 189. id="c_207">207 Там же, стр. 202. Комментарии id="c_1">1 Доклад на Съезде советских писателей 17 августа 1934 г. 9 Марков. Беломорские былины. М., 1901, №№ 50 и 80. 10 Астахова. Былины Севера, т. I. М.-Л., 1938, № 15. 11 А. В. Марков. Из истории русского былевого эпоса, вып. 1. 1905, стр. 30–66. 94 История русской литературы, т. I. Изд. Инст. литер. Акад. Наук СССР, М.—Л., 1940, стр. 271 (гипотеза покойного В. Л. Комаровича). 95 Лаврентьевская летопись под 1054 г. 96 Ср. в «Слове о полку Игореве» — «земля незнаема» — половецкая степь. 97 Лаврентьевская летопись под 1093 г. 98 Там же, введение. 99 Т. е. наваром из кислой травы, которым мылись в бане. 100 Лаврентьевская летопись, введение. 101 Там же под 992 г. 102 Там же под 1097 г. 103 Там же. 104 Там же. 105 Ипатьевская летопись под 1097 г. 106 Лаврентьевекая летопись под 1097 г 107 Там же. 108 Там же. 109 Там же под 1096 г. 110 Там же под 1095 г. Эта небольшая книга не ставит себе целью всестороннее и полное освещение истории развития национального самосознания русского народа в пределах XI — XVII вв. Национальное самосознание в Древней Руси имеет своими показателями не только памятники письменности и искусства: борьба за свою политическую и культурную самостоятельность и за свое государство служит самым ярким свидетельством высокого уровня национального сознания русского народа. Вот почему настоящая работа возникла отчасти под влиянием работ академика Б. Д. Грекова, посвященных теме борьбы Руси за свое государство и политическую независимость. Под общей редакцией Комиссии АН СССР по изданию научно-популярной литературы Председатель Комиссии академик В. Л. КОМАРОВ Зам. председателя академик С. И. ВАВИЛОВ Зам. председателя чл. — корр. АН СССР П. Ф. ЮДИН Ответственный редактор академик А. М. ДЕБОРИН 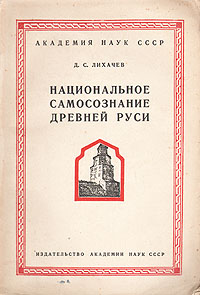 1.0 — создание файла Д. С. Лихачев Национальное самосознание Древней Руси Очерки из области русской литературы XI–XVII вв >ОТ АВТОРА Эта небольшая книга не ставит себе целью всестороннее и полное освещение истории развития национального самосознания русского народа в пределах XI–XVII вв. Национальное самосознание в древней Руси имеет своими показателями не только памятники письменности и искусства: борьба за свою политическую и культурную самостоятельность и за свое государство служит самым ярким свидетельством высокого уровня национального сознания русского народа. Вот почему настоящая работа возникла отчасти под влиянием работ академика Б. Д. Грекова, посвященных теме борьбы Руси за свое государство и политическую независимость. В своем понимании наследия древней русской литературы, автор в значительной мере исходит из работ академика А. С. Орлова. Автор выражает глубокую признательность академику А. М. Деборину, помогшему автору своими советами: и указаниями, а также члену-корреспонденту АН СССР В. П. Адриановой-Перетц, принявшей на себя труд по редакционному просмотру этой книги. >I У истоков >Первый русский летописец, восстанавливая предшествующую ему историю Руси за годы, когда (восточные славяне не имели еще своей письменности, сумел воссоздать прошлое Русской земли за несколько столетий. Он пишет о походах и о договорах, об основании городов, дает живые характеристики князьям и рассказывает о расселении племен. Следовательно, у летописца были какие-то неписанные материалы об исторической жизни народа в течение многих поколений. Вглядываясь в состав тех сведений, которые сообщает летописец, мы видим, что этим огромным историческим источником был для него фольклор. И это не случайно, «От глубокой древности, — писал М. Горький, — фольклор неотступно и своеобразно сопутствует истории».1 Исторические песни, предания и легенды были той великой написанной историей Русской земли, к которой вынуждены были постоянно обращаться и первые русские летописцы. Трудно переоценить значение исторических произведений устной словесности. «Былины — это история, рассказанная самим народом», — пишет академик Б. Д. Греков, открывая обзором фольклорных источников свою книгу «Киевская Русь».2 Русская эпическая поэзия и историческое предание — это один из видов народного исторического самосознания; поэтому в то время, когда еще не существовало исторических записей, общественно-политическая роль древнерусских певцов и сказителей была особенно велика. >1 Восстановить общую картину эпической поэзии дописьменного периода русской истории исключительно трудно. Исследователи пытались угадывать древнейшие черта русского эпоса и исторического предания на основе современных былин. Но задача эта не могла быть решена с полной достоверностью. Здесь всё гадательно, неустойчива, шатко. Неизмеримо легче обнаружить остатки древнейших устных исторических произведений в первых произведениях русской письменности XI и XII вв. В летописях, житиях и проповедях сохранены многочисленные остатки исторических преданий, легенд и песен, которыми древнерусские книжники стремились восполнить недостаток письменного материала по истории своей родины. Исторические сказания, отложившиеся в Начальной Киевской летописи, восходят ко временам глубокой древности. Уже основание первых городов на восточноевропейской равнине было связано с легендами. Их знает и древний Киев — один из старейших городов Восточной Европы. Легенд об основании Киева было несколько. Летописец имел возможность выбирать из них ту, которая казалась ему наиболее достоверной. Он отверг легенду о том, что Киев был назван по имени обосновавшегося здесь некогда перевозчика. Эта легенда, казалось ему, роняла достоинство основателя города: если бы Кий действительно был перевозчик, рассуждает летописец, то не ходил бы он к Царьграду и не воздавал бы ему чести царь. Следовательно, было предание и о том, что Кий ходил к Константинополю и здесь его с почетом принимал император. Летописец отдал предпочтение другой легенде об основании Киева. Он рассказывает в летописи о построении Киева тремя братьями-князьями: Кием, Щеком и Хоривом и сестрою их Лыбедью. Интереснейший материал, опубликованный академиком Н. Я. Марром, показывает, что легенда эта была записана уже в VII в. н. э. армянским историком Зеноном Глаком как легенда об основании Куара (Киева) в стране Полуни (полян) Куаром, Ментеем и Хереаном. Рассказать эту легенду в Армении могли те славянские дружины, которые в VII в. совместно с хозарами воевали в Закавказье. Могли эти легенды перейти и через славянские поселения, которые с незапамятных времен держались на Северном Кавказе в районе Тамани. Следовательно, уже в VII в. в районе поселения славянских племен имелись исторические предания, бережно сохраненные на протяжении почти полутысячелетия и записанные летописцем в XI в. Есть и другие показатели, говорящие о том, что равнина, населенная русскими племенами, сохраняла исторические предания глубокой старины. Отдельные скифские предания и обычаи отразились в позднейшем русском эпосе, свидетельствуя о прочности исторической традиции в степях Причерноморья. Так, например, известная летописная легенда о щите, который русский князь. Олег прибил на вратах Царьграда, «показуя победу», восходит еще к обычаю скифов прибивать в знак победы свой щит на вратах, посвященных богу Халду. Исторические легенды восходят ко временам чрезвычайной давности. Мерцающий свет этих древнейших исторических припоминаний, дошедший через тьму столетий до первого русского летописца, свидетельствует о существовании в древнейшие времена на территории, занятой восточнославянскими племенами, интереса к родной истории. >2 Столетия, непосредственно примыкающие к деятельности первых русских летописцев, дали им несравненно больше исторического материала, заимствованного ими из области фольклора. Нетрудно различить и главные типы исторических произведений, использованных летописцами. Их несколько. Один из главнейших — местные легенды, связанные с урочищами, могильниками, селами и городами всей великой русской равнины. Могильные насыпи издавна и у всех народов были связаны с историческими преданиями. Высокие холмы, насыпавшиеся над могилами вождей, сами по себе свидетельствовали о стремлении сохранить на многие поколения память об умерших. Естественно, что к ним прикреплялись различные сказания, жившие в окружающем населении, пока существовали и самые насыпи. Число этих холмов на территории Древней Руси было особенно велико. С многими из них были связаны предания, исключительно важные для определения исторических судеб восточного славянства. Недаром летописец неоднократно ссылается на эти могильные холмы как на достоверных и правдивых свидетелей точности его исторического повествования. Так, например, завоевание Киева Олегом было связано народной памятью с могилами Аскольда и Дира; гибель Игоря — с его могилой «у Искоростеня града в Деревах»; легенда о вещем Олеге — с его могилой: «есть же могила его и до сего дьне, словеть могыла Ольгова»; смерть Олега Святославича связывалась с его могилой «у града Вручего» (современный Овруч) и т. д. О всех этих могилах летописец замечает, что они существуют и «до сего дьне». В тризнах и поминальных празднествах, устраивавшихся у этих могил, очевидно вспоминались деяния прошлого, связанные с именами погребенных в них воинов. Но не только о могилами была соединена народная память о делах минувшего. Города и урочища прочно хранили память о своем возникновении. Народная память в Новгороде и Ладоге связывала определенные места с Рюриком, в Изборске — с Трувором, в Белоозере — с Синеусом. Местные по своему приурочению, эти предания говорили об общерусских деятелях, о событиях общерусской истории. Сами по себе эти местные предания охватывали единой сетью всю Русскую землю, объединяя и собирая ее историческое прошлое. С княгиней Ольгой были связаны местными воспоминаниями многочисленные урочища, села, погосты, перевесища (места, где ловились птицы) по Днепру и Десне, а на севере — по Мете и Луге. В Пскове еще во времена летописца хранились сани Ольги. «И ловища ея суть по вьсей земли и знамения и места и погосты», — пишет летописец, отмечая общерусский характер исторических преданий об Ольге. Насколько обильными и подробными были эти исторические воспоминания, показывает хотя бы та точная топография древнего Киева, которую дает первый летописец, описывая времена, отстоявшие от него на целое столетие: «бе бо тогда вода текущи воздъле горы Киевьския, и на Подолии на седяху людие, но на горе; град же бе Кыев, идеже есть ныне двор Гордятини Никифоров, а двор княжь бяше в граде, идежь есть ныне двор Воротиславль и Чюдинь, а перевесище бе вне града; и бе вне града двор другыи, идеже есть двор Деместиков за святою Богородицею, над горою, двор теремьный, бе боту теремкамян». Таким образом, на воем пространстве Руси от Изборска, Ладоги и Белоозера и до северных берегов Черного моря хранилась историческая память об общерусских героях, о первых русских князьях, «трудом» своим великим собиравших Русскую землю. Даже вне пределов Руси, на далеком Дунае, указывали город (Киевец), основанный Кием, а в Болгарии, по свидетельству летописца, еще видны были в его время остатки городов, разрушенных Святославом. В этих местных исторических преданиях говорилось не только о Руси, но и о соседящих с ними народах и странах: венгры, печенеги, греки, скандинавы, хозары, поляки, болгары, а с другой стороны, Царьград, Тмутаракань, Корсунь составляют тот широкий географический фон, на котором развертывалось действие легенд, связанных с урочищами. Местные по своему приурочению, но общерусские по своему содержанию, эти исторические предания говорят о широте исторического кругозора народа. С иронией рассказывает летописец об обрах (аварах), стремившихся (еще в VI в.) покорить себе славянское племя дулебов (впоследствии русское племя волынян). Дулебы остались, а обры исчезли, не сохранив по себе «ни племени, ни наследка». И есть поговорка от того времени, говорит летописец: «погибоша, аки обри». Сама Русская земля с ее многочисленными городами, урочищами, селами, могильными насыпями была живым напоминанием силы и бессмертия населявшего ее народа, была как бы живою книгой ее неписанной истории. >3 Но многочисленные легенды VI–X вв., связанные с местными памятниками прошлого, не были единственным видом исторического припоминания в древний дописьменный период истории Руси. Та же Начальная летопись, которая сохранила, нам многочисленные местные легенды, свидетельствует и о других формах исторической памяти. Внимательный анализ Киевского летописания показывает, что многие записи сделаны в нем на основании устных рассказов двух лиц: Вышаты и его сына Яна Вышатича, участие которого в летописании отмечено в летописи под 1103 г.; летописец говорит о Яне, отмечая его смерть и восхваляя его добродетели: «и аз многа словеса слышах, еже и вписах в летописаяьи семь, от него же слышах». Три поколения летописцев были в дружественных отношениях с Вышатой и его сыном Яном на протяжении 1064–1103 гг. Можно установить, что круг рассказов Вышаты и Яна, использованных летописцем, был шире тех сведений, которые приписаны им в исследованиях академика А. А. Шахматова.3 Невидимому, эти рассказы были связаны с преданием этого древнего рода, судьба которого может быть прослежена в летописи на протяжении семи поколений: Вышата был сыном новгородского посадника Остромира, с именем которого связан древнейший из дошедших до нас памятников русской письменности — знаменитое Остромирово Евангелие 1056–1057 гг.; Остромир был сыном новгородского посадника Константина;4 Константин был сыном новгородского посадника Добрыни — будущего героя русских былин Добрыни Никитича; Добрыня был сыном Мистиши-Люта; Лют — сыном знаменитого в русских летописях воеводы Овенельда. Судьба всех этих предков Яна Вышатича отражена в летописи на основании устных рассказов Вышаты и самого Яна. Эти рассказы, неточные хронологически, как все устные припоминания, несут в себе следы сказочных мотивов и окрашены тенденциозной мыслью; они героизируют этот род, подчеркивают его весомость в общем раскладе сил Киевского государства, его близость к роду киевских князей. И Вышата и Ян упорно говорят о тех мудрых советах, какие давали их предки киевским князьям. Нежелание Святослава послушать совета Свенельда — объехать днепровские пороги на конях — послужило причиной гибели Святослава: печенеги, сторожившие русских в-этом опасном месте, напали на Святослава, разбили его дружину и убили его самого. Владимир I Святославич неоднократно следовал советам Добрыни в своих походах. Добрыня добивается для Владимира руки полоцкой княжны Рогнеды. Слушая советов сына Добрыни — Константина, Ярослав получил киевский стол. Когда Ярослав, разбитый Святополком и польским королем Болеславом, прибежал в Новгород и собирался отсюда бежать дальше — за море, посадник Константин Добрынин с новгородцами рассек ладьи Ярослава, заявив: «хочем и еще биться с Болеславом и Святополком». Новгородцы во главе с Константином собрали средства на дружину, и Ярослав разбил Святополка и Болеслава. Рассказы Вышаты и Яна выражали не только узко родовые тенденции, они пропагандировали идеи крепкой защиты Русской земли, далеких походов. Они идеализировали старых русских князей, прославленных своими походами на хозар, на греков и на болгар. О походах за данью повествуется в известиях о Свенельде и Мистише-Люте. О сборах дани с болгар рассказывается в летописных статьях о Добрыне. В собственной деятельности Вышата и Ян Вышатич отмечают именно эти далекие походы, участниками которых они были: на Емь (финнов), на Константинополь, за сбором полюдья в Белозерье. Эти рассказы Вышаты и Яна относились как раз к тому времени, когда усилился нажим степных народов на Русскую землю, когда русские князья должны были обуздывать кочевников глубокими степными походами. Нетрудно видеть, что родовые предания Яна и Вышаты перерастают ограниченность родовой тенденции. Они патриотичны, они воодушевлены образами героической старины, наполнены боевой славой русских походов на Царьград, идеализируют русских князей-воинов — Игоря, Святослава, Владимира, Ярослава. Именно эти стороны родового предания Вышаты и Яна послужили причиной того, что их предания из родовых стали общенародными и вошли затем в состав русского былевого эпоса в целом. Исследователями давно отмечена связь современных былинных сюжетов о Добрыне и летописных известий о нем же. Отметим некоторые стороны эгой связи, на которые до сих пор не обращалось достаточного внимания. Добрыня и в летописных рассказах Вышаты и в современных былинах собирает дань с соседних народов, ходит в далекие походы. Как в тмутара-канском предании о хозарах, Добрыня заставляет платить дань даже те народы, которые раньше сами собирали дань на Руси.5 Записанные летописцем со слов Вышаты и Яна рассказы о походах Святослава со Овенельдом, Владимира с Добрыней, Ярослава при содействии Константина, Владимира Ярославича с Вышатой служили этой же цели пропаганды активной политики по отношению к врагам Руси. Вот почему в русский былевой эпос проникли из родовых преданий Вышаты и Яна не только воспоминания о Добрыне Никитиче. В разное время в нем отразились следы каких-то припоминаний об отце Добрыни — Мистише (Никита Залешанин русских былин),6 о его сестре Мальфреди Мистинишне (Марфида Всеславьевна),7 о брате Яна Вышатича— Путяте (ср. в былинах племянницу князя Владимира — Забаву Путятишну), о самом Яне Вышатиче и др. С Путятой Вышатичем связан и другой герой русского эпоса — Казарин, сотоварищ Путяты по походам на половцев.8 Ближайшее отношение к указанным былинным сюжетам имеют также и былина о Глебе Володьевиче9 и былина «Поход на Корсунь».10 Сюжет этих последних былин отражает поход Владимира Володьевича и Глеба Святославьевича на Корсунь в 1077 г.11 Глеб был впоследствии тмутараканским князем, дважды сидевшим в Тмутаракани, когда там находился Вышата. Впоследствии сам Глеб рассказывал Яну Вышатичу о подавлении восстания волхвов в Новгороде с деталями, близкими к былине о Глебе Володьевиче.12 Наличие в X–XI вв. развитого родового предания настолько сильного, что оно проникло в летопись и сохранилось в современном былевом эпосе, — факт большого историко-культурного значения. Перед нами своеобразная устная летопись семи поколений. Будучи родовыми, эти предания оставались и общенародными, проникнутыми высоким сознанием общих интересов всего русского народа в целом. Ряд признаков заставляет предполагать, что это родовое предание не было единственным. >4 Третьим видом устной исторической памяти в дописьменный период русской истории была дружинная поэзия. Образцом такой дружинной поэзии сравнительно позднего времени (конца XII в.) является дошедшее до нас «Слово о полку Игореве». Более ранних произведений этой поэзии не сохранилось, но само «Слово о полку Игореве» упоминает дружинного певца XI в. — Бояна, чьи песни слагались во славу князей: «Боян же, братие, не десять соколовь на стадо лебедей пущаше, но своя вещиа персты на живая струны воскладаше, они же сами князем славу рокотаху». Прозвание другого дружинного певца Митуса (XIII в.) «словутный», который «за гордость» не восхотел служить князю Даниилу, также говорит о том, что главной темой его несен была слава князьям. Нельзя не сопоставить этих показаний со словами Илариона (первая половина XI в.), который, вспоминая старых русских князей — Игоря, славного Святослава, писал о них, что они «мужеством же и храбрьством прослуша [прославились]13 в странах многих и поминаются ныне и словут» — очевидно в песнях и преданиях. Дружинная среда, окружавшая русских князей, прочнее всего сохраняла память о военаых подвигах прошлого. Она была хранительницей и народных традиций. Именно поэтому Святослав не решается нарушить заветы старины и принять крещение. Святослав говорит своей матери Ольге, предлагавшей ему креститься: «дружина смеяться начнут». Это стремление дружины держаться народных традиций сказалось и в самом, характере дружинной поэзии, проникнутой элементами народной лирики («Слово о полку Игореве»). Начальная летопись сохранила нам от дописьменного периода Руси содержание нескольких героических песен именно этой дружинной поэзии. Их главной темой были смелые завоевательные набеги русских дружин на главный и богатейший культурный центр тогдашней Европы — Константинополь. Необычайно дерзкие походы русских создали особенно благоприятные условия для расцвета героической песни — былины. Отголоски этой дружинной поэзии звучат в летописных рассказах о походах на Царьград Аскольда и Дира, Олега, Игоря, Святослава. Они присутствуют в рассказе о том, как Олег повелел своим воинам сделать колеса и поставить на них корабли. С попутным ветром корабли развернули паруса и с поля подошли к Царьграду. Испуганные греки предложили мир и дань. Дружинные песни рассказывали о том, как вещий Олег отказался принять под стенами Царьграда предложенные ему в знак мира яства и вина, которыми греки собирались его отравить. Остатки дружинных песен об Олеге можно видеть в рассказе летописи о щите, который Олег прибил над вратами Царьграда, «показуя победу». Наконец, само предание о смерти Олега от любимого коня через песни перешло в летопись и распространилось по всей северной Европе, в местных преданиях Ладоги и в скандинавских сагах. Отголосками дружинных песен явились и рассказы летописи о знаменитых пирах Владимира I. Воспоминания об этих пирах, для которых варилось по 300 провар меду,14 на которых было «мъножество мяс, от скота и от зверины», сохранились в современных былинах. Сознание дружиной своей силы и значения отчетливо выражено в летописном описании одного из пиров, составленном летописцем также, очевидно, на основании дружинной песни. Дружина ропщет на князя за то, что ей приходится есть деревянными ложками, а не серебряными. Более всего на свете любя свою дружину, Владимир приказал исковать серебряные ложки. «Серебром и золотом не налезу себе дружины, — говорит Владимир, — а дружиною налезу серебро и золото, как дед мой и отец доискались дружиною золота и серебра». Особенно рельефна в летописи созданная на основе дружинных песен характеристика бесстрашного князя Святослава, всю жизнь проведшего в далеких походах. Святослав разрушил столицу Болгарского царства на Волге, разрушил столицу хозар и уничтожил Хозарское царство. Он покорил черкесов и осетин и доходил до берегов Каспийского моря. Он завоевал Болгарию — сильнейшее государство того времени на Балканском полуострове и дважды побеждал Византию. Его походы потрясли мусульманский мир и заставляли дрожать Византию. «Бе бо и сам хоробр, — пишет о нем летописец, — и легок, ходя акы пардус, воины многы творяше. Воз по себе не возяше, ни котла, ни мяс варя, но по тонку изрезав конину или зверину или говядину, на угълех испек ядяше; ни шатра имяше, но подъклад постилаше, а седло в головах. Тако же и прочии вои его вси бяху. И посылаше к странам, глаголя „хочю на вы ити“».15 Когда побежденные им греки, желая испытать его, прислали ему многочисленные дары — золото и знаменитые византийские паволоки,16 Святослав не взглянул на них, приказав отрокам спрятать принесенное. Когда же греки принесли Святославу меч и иное оружие, Святослав принял их в свои руки, ласкал, хвалил и просил приветствовать византийского царя, пославшего ему их. Греческие послы ужаснулись воинственности Святослава и, вернувшись к своим, сказали: «лют сей мужь хощеть быти, яко имения небрежет, а оружие емлеть; имися по дань». И послал царь своих послов к Святославу, говоря: «не ходи к городу, но възми дань, и еже хощеши».17 Сходную легенду, подчеркивающую воинственность русских, передает летописец и о полянах. Когда хозары обложили полян данью, поляне выплатили ее оружием: по мечу от дыма. Хозары отнесли эту дань своему князю, и старцы хозарские ужаснулись воинственности русских: не добра дань, княже, — мы доискались ее оружием острым только с одной стороны, т. е. саблями, а эти имеют обоюдоострое оружие, т. е. мечи. Со временем они возложат дань и на нас и на иные страны. Олова их сбылись, — прибавляет от себя летописец, — владеют русские князья хозарами и до нынешнего дня. Замечательна одна из речей Святослава, включенная составителем Начального свода 1095 г., очевидно, на основании дружинных преданий. Когда дружины Святослава дрогнули перед стотысячным войском греков, Святослав произносит свою знаменитую речь, до сих пор поражающую необычайно острым чувством воинской чести и сознанием ответственности перед всем русским народом в целом: «Да не посрамим Земли Руские, но ляземы костью ту, и мертъвы бо сорома не имаеть, аще ли побегнем, то срам нам. И не имам убегнути, но станем крепко. Аз же пред вами пойду. Аще моя глава ляжеть, тоже промыслите о себе». Верная своему князю и родине дружина отвечает: «Иде же глава твоя ляжеть, ту и главы наша сложим».18 Русские одержали победу, и только предательство губит затем. Святослава. Таким образом, уже дружинная поэзия дописьменной Руси неразрывно связана с идеей воинской чести. Это была поэзия высокого патриотического сознания. Именно это делает эпическую поэзию дружинников поэзией народной одновременно. В последующий период, в эпоху после крещения Руси, русский исторический эпос (легенды, предания, исторические песни, в том числе и дружинные) продолжал развиваться. Современные былины сохранили в своем составе остатки многих реальных исторических фактов и имен домонгольского периода, свидетельствующие о широком развитии народного эпоса в XI–XIII вв. Князь Владимир, Добрыня, новгородский купец Садко, новгородский сотский Ставр, Иван Данилович — вое это реальные исторические имена, своевременно отмеченные русскою летописью. До сих пор былины, которые поются на севере, среди лесов, болот, быстрых порожистых рек и озер, помнят привольную южнорусскую природу: широкое чисто поле, дубы, степную ковыль-траву и полынь, о запахе которой, способном возбудить тоску по родине у того, кто родился в степях, поэтически рассказывает Ипатьевская летопись.19 Все это свидетельствует о силе древней киевской былевой поэзии, выработавшей такие поэтические произведения, жизненная стойкость которых превозмогла почти тысячелетний период огромной и трудной истории русского народа. Но о силе патриотического сознания свидетельствуют в дописьменный период русской истории не только произведения фольклора. Об этом говорят и договоры с греками, которые заключались князьями не только от своего имени, но и от имени всего русского народа («языка») в целом: «от Игоря и от всех боляр, и от всех людей страны Руськыя».20 Заключая договор» русские князья требовали точного соблюдения его условий от греков на все последующие годы и сами обещали хранить его, «доньдеже солнъце сияеть, и весь мир стоить в нынешняя векы и в будущая».21 >II БОРЬБА РУСИ ЗА СВОЮ КУЛЬТУРНУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ЯРОСЛАВЕ МУДРОМ >Правительственное введение на Руси христианства приобщило русский народ к древнейшей христианской европейской культуре Византии. Византия в конце X в. была наиболее культурной страной тогдашней Европы; в ней соединялись местные традиции, идущие еще от античности, с культурными традициями всего Средиземноморья, теснейшим образом связанного с Византийской империей. Центральное положение Византии между европейским Севером и азиатским Востоком, африканским Югом и Западом Европы делало ее средоточием всей передовой мировой культуры. Принятие христианства принесло Руси целый ряд и культурных и политических выгод, отвечало потребностям феодализировавшегося русского государства, но оно же грозило молодому новообращенному народу рядом серьезных опасностей. >1 До самого падения Константинополя императорская власть представлялась в Византии властью всемирною и исключительною. Несмотря на несоответствие этих претензий реальному положению дел, греческие политические деятели не допускали возможности существования рядом с византийским императором равных ему по силе и независимых от него властителей. Только император ромеев мог быть единственным главою всех христиан, и в глазах византийцев эта теория освящалась доводами богословия. В словах апостола Петра «бога бойтесь, царя чтите» греки видели указание, что во вселенной должен и может существовать лишь один царь, власть которого была тем самым как бы освящена церковью. Иоанн Киннама с изумлением и негодованием говорит о притязаниях Фридриха I Барбароссы на титул императора.22 Притязания византийских императоров распространить свою власть на всю вселенную основывались на воззрении, что император является не только главою государства, но и главою церкви. При таких условиях византийская идея императорской власти лучше всего мирилась со старою римскою теорией, делавшей из императора главу jus sacrum, поскольку последнее являлось частью jus publicum. Единым главою всех христиан признавался император, а константинопольский патриарх являлся лишь его ближайшим помощником в сфере церковного управления. В силу этого, все органы церковного управления Империи были проникнуты идеей всемирной власти императора. До «самого падения Константинополя Византия постоянно пыталась привести варварские народы к признанию того, что все христиане являются одновременно и подданными императора. Во времена Комненов Римская империя понималась как «страна, где живут христиане». Христиане же тем самым становились, в свою очередь, подданными Империи, где бы они ни проживали. Римские законы были для них обязательны, и отрицавшие это считались по меньшей мере схизматиками. Патриарх Марк Александрийский спрашивал в письме к патриарху Феодору Вальсамону: «не подлежим ли мы, александрийцы, осуждению за то, что в нашей стране нет шестидесяти книг Василик и по отношению к ним мы, поэтому, находимся в полнейшей темноте». Отсутствие в Александрии последнего свода гражданских законов кажется Марку церковным преступлением. Ответ патриарха Феодора Вальсамона не менее характерен. Он спешит извинить невольное преступление христиан-иноземцев, найти ему снисходительное оправдание, но самый факт церковной преступности незнания римских гражданских законов признается им безусловно: «Все гордящиеся христианством, живут ли они на Востоке, или в Александрии, или где бы то ни было, носят имя римлян и обязаны жить по законам [римским]. Но они не связаны законом, который гласит, что для римлян неизвинительно незнание законов. Ибо только живущие в Риме, т. е. в столице, богатой многочисленными знатоками законов, связываются законами, как оковами. Ибо для них, кто бы они ни были, было бы неизвинительно ссылаться на незнание законов, так как они могли бы узнать содержание законов от своих соседей. Живущие же вне Рима, т. е. сельчане и другие, а тем более александрийцы, не знающие законов, получают снисхождение».23 Отсюда ясно, почему при распространении христианства среди таких народов, где не было византийской гражданской организации, церковь становилась основным проводником византийских гражданских законов. Церковная организация стремилась заменить отсутствующее у варваров государственное управление. Обязательность для всех христиан, где бы они ни жили, римских законов ставила, таким образом, все новообращенные народы в политическую зависимость от Империи. Среди этих-то новообращенных народов, а также на территориях, занятых у Византии «варварами», церковный строй призван был заменить собою недостающую с точки зрения греков византийскую государственную организацию. Вот почему Империя особенно дорожила на таких территориях епископами и митрополитами из греков. Эти ставленики византийской церкви были вместе с тем и проводниками императорской политики. На обязанности духовенства в новообращенной стране лежало ознакомить варварский народ с римским правом и римской культурой. Поэтому-то принятие христианства «варварским» народом — Русью вело к приобщению его к новой европейской культуре Империи, но вместе с тем навязывало ему церковную организацию во главе с митрополитом или епископом-греком, становившимся фактически чиновником Империи, на котором держалась связь новообращенного народа с императором и на которого возлагалась задача инкорпорирования новых «ромеев» в состав Империи. Осложняющим обстоятельством для Византии являлось наличие на Руси своей государственной организации. Епископ или митрополит-грек волей-неволей обязан был делить юрисдикцию с местным князем. Самые принципы христианского римского права Византии требовали признания власти князя и в гражданском и, в какой-то мере, в церковном отношении. Поэтому Империя была особенно озабочена отношениями митрополита к князю на Руси и неустанно поддерживала авторитет митрополита, стремясь сделать его. фактическим руководителем князя. Самого князя Империя стремилась ввести в состав византийской чиновничьей иерархии, а Русскую землю сделать провинцией Византии, под управлением посылаемых из Византии митрополитов. И, несмотря на то, что греки в равной мере официально признавали всех христиан ромеями, в Византии стремились всё же, вопреки теории, но последовательно в практическом отношении! назначать русского митрополита из ромеев-греков, а не из ромеев-русских. Таким образом, принятие христианства Русью имело обоюдоострый характер. С одной стороны, оно приносило вновь обращенному народу европейскую византийскую культуру, [что являлось живой необходимостью для молодого феодализирующегося государства. С другой же стороны, принятие христианства угрожало политической самостоятельности Руси, грозило превратить Русскую землю в провинцию Империи. И эта опасность была во-время осознана русскими князьями. Особенно острая борьба завязывается между Русским государством и Византией в годы могущественного княжения Ярослава Мудрого. Русский князь блестяще парирует все попытки Константинополя лишить русских церковной самостоятельности и превратить русскую церковь в агентуру Империи. Ярославу удается еще более высоко поднять международный авторитет Руси и упрочить основания русской политической и церковной самостоятельности, русской книжности, русского летописания, русской архитектуры и изобразительного искусства. Византийский писатель. Михаил Пселл пишет про русских, имея в виду военное столкновение Руси и Империи в 1043 г.: «Это варварское племя всегда питало яростную и бешеную ненависть против греческой игемонии; при каждом удобном случае изобретая то или другое обвинение, они создавали из него предлог для войны о нами».24 Говоря о «яростной и бешеной ненависти» русских, Пселл, главным образом, считается с фактом постоянных попыток русских добиться признания независимости русской церкви. Он ставит в связь эту ненависть русских к византийской «игемонии» с походом Владимира Ярославича на Константинополь, закончившимся поражением русских, во время которого с ними поступили, как с бунтовщиками: пленные русские были ослеплены.25 Поход Владимира Ярославича на Константинополь был кульминационным пунктом борьбы Руси в эпоху княжения Ярослава за свою культурную, гражданскую и церковную самостоятельность. Неуспех похода Владимира Ярославича не сломил волю русских. Военное размирие с Константинополем было только внешним и наиболее «скандальным» выражением той борьбы, которую вел вновь обращенный русский народ со своими крестителями. Эта борьба за свою самостоятельность захватывала все области духовной культуры Киевского государства; печатью этой борьбы отмечены и литературное произведения этой поры, и летопись, и бурное архитектурное строительство, и изобразительное искусство княжения Ярослава. >2 В 1037 г. Ярослав Мудрый добился учреждения в Киеве особой митрополии Константинопольского патриархата. Назначение особого митрополита для Киевского государства, было немалым успехом Ярослава, так как оно поднимало международный престиж Русской земли. Давая разрешение на установление отдельной Киевской митрополии, греки все же надеялись, что новый митрополит, избираемый императором из угодных ему ромеев-греков, станет надежным агентом Византийской империи и будет проводить политику полного подчинения Руси императору. В свою очередь, Ярослав рассматривал назначение особого киевского митрополита, как успех своей политики к рассчитывал добиться впоследствии полного признания независимости русской церкви от Константинополя.26 Торжество русской политики, крупный политический успех в отношениях с Империей и свои надежды на жизненно крепкое будущее Руси Ярослав подкрепил богатым строительством: «В лето 6545. Заложи Ярослав город великыи, у него же града суть Златая врата, заложи же и церковь святыя Софья, митрополью; и по семь цьркъвь на Золотых воротех святое Богородице Благовещенье, по семь святого Георгия манастырь и святыя Ирины» (Лавр. лет.). То, что Ярослав смотрел на назначение киевского митрополита только, как на первый успех своей политики, доказывается тем, что сразу же после 1037 г. Ярослав продолжает свои домогательства в Константинополе, добиваясь расширения прав русской митрополии и постепенного освобождения ее из-под опеки константинопольского патриарха и византийского императора. Для этого Ярослав стремится к поставлению митрополита из русских и к канонизации русских святых; он ведет военные приготовления против Империи и начинает крупную идеологическую борьбу с византийской теорией Вселенской Церкви, отождествлявшейся со Вселенской Империей нового Рима. Совершенно исключительное значение в этой идеологической борьбе Ярослава имело составление Древнейшего летописного свода 1039 г. Его идейная сторона ярко выразилась в том его составе, как он определен академиком А. А. Шахматовым.27 М. Д. Приселков считает, что составление летописного свода 1039 г. принадлежало исключительно инициативе первого русского митрополита — грека Феопемпта, который, «вступив в управление новой митрополии Цареградского патриархата, задался целью составить летописец, где изложить возникновение Киевской державы и историю установления своей митрополии».28 Основной идеей свода 1039 г. М. Д. Приселков считает идею церковной и политической несамостоятельности Руси. О точки зрения М. Д. Приселкова, «к прошлому нашей истории Древнейший свод 1039 г. отнесся отрицательно, начиная ее только с установления над русскою церковью греческой руки патриарха».29 Эту свою точку зрения, высказанную им в 1913 г. в «Очерках по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв.», М. Д. Приселков в основном повторил 27 лет спустя в «Истории русского летописания XI–XV вв.»: «…обычай византийской церковной администрации требовал при открытии новой кафедры, епископской или митрополичьей, составлять по этому случаю записку исторического характера о причинах, месте и лицах этого события для делопроизводства патриаршего синода в Константинополе. Несомненно, новому „русскому“ митрополиту, прибывшему в Киев из Византии, и пришлось озаботиться составлением такого рода записки, которая, поскольку дело шло о новой митрополии Империи у народа, имевшего свой политический уклад и только вступившего в военный союз и „игемонию“ Империи, должна была превратиться в краткий исторический очерк исторических судеб этого молодого политического образования».30 Категорически возражаем против такой характеристики начала русского летописания. В самом деле, по обилию исторического материала, по разнообразию вошедших в него жанров, в том числе по использованию исторических песен, пословиц, поговорок, по своим высоким художественным достоинствам Древнейший Киевский свод 1039 г. никак не мог быть «запиской», предназначенной митрополитом-греком для отсылки в «делопроизводство патриаршего синода в Константинополе». Древнейший Киевский свод соединил в себе в совершенно отчетливой форме все особенности последующего киевского летописания: художественность изложения, умелое ведение диа. логов, чувство юмора, острую бытовую наблюдательность а главное, высокое патриотическое сознание летописца. Совершенно исключительное значение для всего последующего летописания имел самый выбор языка, на котором велась летопись — простого, ясного, лишь в малой степени впитавшего в себя славянизмы церковной книжной речи. Этот выбор языка отнюдь не мог совпадать с потребностями официальной «записки», предназначенной для греков в Константинополе. Русский язык Древнейшего летописного свода не только не соответствовал этим потребностям митрополита-грека, который, конечно, составил бы его по-гречески или по-болгарски, но разительно контрастировал с языком большинства одновременных ему западноевропейских хроник (кроме англо-саксонских), составлявшихся на чуждом и непонятном народу латинском языке. Поразительно стремление летописца как можно шире и полнее представить ход русской истории не только с момента принятия христианства от Империи (как думает М. Д. Приселков),31 но и значительно раньше. Свой труд летописец предпринимает с изумительной для своего времени исторической пытливостью. В круг исторических источников первого летописного свода включаются памятники материальной культуры прошлого, данные языка, письменные произведения предшествующей поры, документы и рассказы очевидцев, народные песни и легенды. Составитель Древнейшего свода указывает урочища, рвы и могилы, сохранившиеся от времен минувших. Приводит летописец и пословицы и поговорки, имеющие историческое происхождение. Голод в осажденной Родне позволяет ему объяснить поговорку «беда, аки в Родьни».32 Летописец как бы запросто беседует со своим читателем, напоминает ему о том, что он и сам может знать, будит его любознательность, сообщает ему попутно сведения географические, бытовые и т. д. Еще одна черта составляет своеобразие древнейшей русской летописи, черта необъяснимая, если составителем ее водила враждебная русским рука грека: это крепкая связь летописания с фольклором. Древнейший Киевский свод в значительной мере основывается на народных преданиях и исторических песнях. Чисто народный юмор, неприличный и непонятный в официальном отчете митрополита патриарху, но вполне уместный в летописи, звучит то в каламбуре по поводу радимичей, потерпевших поражение на реке Пищане от воеводы Волчий хвост («темь и Русь коряться радимичем, глаголюще: „Пищаньци вълчия хвоста бегають“»),33 то в юмористическом изображении сетований дьявола при крещении Руси,34 то в передаче насмешек над тучным польским королем Болеславом («да то ти прободем трескою чрево твое тълстое»).35 Юмор этот теснейшим образом связан с наблюдательностью летописца, уменьем в лицах — рассказать историческое событие, дать краткие и выразительные характеристики. Но самым разительным в работе составителя Древнейшего свода был тот патриотический подъем, который руководил им при составлении характеристик русских князей. Составитель Древнейшего Киевского свода кратко, ярко и энергично обрисовал образ бесстрашного и неутомимого в походах богатыря князя Святослава,36 вещего Олега, мудрого князя Ярослава, предателя Блуда. Драматично рассказано в нем бегство предателя и братоубийцы Святополка «в пустыню межю Ляхы и Чехы».37 Со средневековой прямолинейностью делит летописец всех действующих лиц своей летописи на положительных и отрицательных, причем единственным критерием этого деления служит патриотическая оценка. Самыми черными чертами рисуются образы предателей, самыми светлыми — образы князей-победителей русских врагов. Очень часто летописец характеризует греков резко отрицательными чертами. Летописец изображает попытку греков отравить воинов Олега,38 их попытку обмануть Святослава, во время им разгаданную.39 Говорит летописец и о дани, которою обложил Святослав греков.40 Все это отнюдь не свидетельствует о греческой точке зрения на русскую историю. Центральное событие свода — крещение Руси и Владимира. Крещение Руси выдвинуло на историческую арену новый народ — русских, и Древнейший свод подчеркивает «богоизбранничество» русского народа: «благословен господь Иисус Христос, иже възлюби новыя люди, Руську землю, и просвети ю крещениемъ святымъ»,41 «…господь в векы пребываетъ, хвалим от Русьскых сынов, певаем в Троици, демони проклинаеми от благоверьных мужь и от говеиньных жен, иже прияли суть крыцение и покаяние в отпущение грехов, новые людие хрьстияньски, избрании богъмь».42 Образ Владимира и его характеристика как бы подготовляют особою в своде характеристику Ярослава. Владимир вспахал землю и сделал ее мягкой, т. е. просветил крещением. Ярослав засеял сердца верующих людей книжными словами, а мы русские — «новые христиане» — пожинаем. Такова историческая концепция свода. Похвала Ярославу составляет ее торжественную заключительную часть. Итак, центральные события свода — крещение Руси: и просветительная деятельность Ярослава. Центральная идея свода — превосходство христианства над язычеством и «новых людей» — русских — над прежними «невегласами». Идея эта объединяет единым настроением все изложение свода, заканчивавшегося тенденциозной концовкой: «И радовашеся Ярослав зело, а враг сетовашетъся, побежаем новыми людьми хрьстияньскыми». 43 В каком бы составе ни восстанавливать свод Ярослава, к какому бы году княжения Ярослава его ни относить, кажется ясным, что начало русского летописания не могло быть созданием митрополита-грека. И самая идея создания особой истории вновь обращенного народа-варваров, и самый характер изложения событий стоят в резком противоречии с основной тенденцией Империи: принять русских в подданство императору и распространить среди них ромейскую культуру с ее языком, лишив их культурной и политической самостоятельности. Совершенно очевидно, что свод 1039 г. был делом инициативы самого Ярослава и входил в круг его книжных предприятий, о которых сообщал летописец: «И бе Ярослав любя цьркъвьныя уставы, попы любяше по велику, излиха же чьрноризьце, и кънигам прилежа, почитая я часто в нощи и в дьне. И събра письце мъногы и перекладаше с ними от Грьчьска на Словеньское письмо, и съписаша кънигы мъногы, имиже поучающеся верьнии людие наслаждаються учения божьствьнаго. Ярослав же кънигы мъногы написав, положи в святей сеиг цьркъви, юже съзъда сам».44 «Летопись — это один из самых ярких показателей высоты: древнерусской культуры, — пишет академик Б. Д. Греков. — Это не просто погодная запись событий, как часто приходится слышать и читать, это законченный, систематизированный труд по истории русского народа и тех нерусских народов, которые вместе с русским народом были объединены в одно Киевское русское государство».45 Свод Ярослава был тем дипломатическим и юридическим актом, которым русские заявили о своем равноправии всем народам Европы. >3 Идеологические тенденции Древнейшего летописного свода стоят в ближайшем отношении к идеям «Слова о законе и благодати» пресвитера загородной дворцовой церкви Ярослава, в Берестове — Илариона. Тема «Слова» — тема равноправности народов, резко противостоящая средневековым теориям богоизбранничества лишь одного народа, теориям вселенской империи или вселенской церкви. Иларион указывает, что Евангелием и крещением Бог «все народы спас»,46 прославляет русский народ среди народов, всего мира и резко полемизирует с учением об исключительном праве на вселенское господство Нового Рима — Византии. Идеи эти изложены в «Слове» с пластической ясностью и исключительной конструктивной цельностью. Точность и ясность замысла отчетливо отразились в самом названии «Слова»: «О законе Моисеом данеем, и о благодати и истинне, Иисус Христомь бывшим, и како закон отъиде, благодать (же) и истина всю землю исполни, и вера в вся языки простреся: и до нашего языка [народа], русьскаго, и похвала кагану нашему Владамеру, от негоже крещени быхом (и молитва к Богу от всеа земли нашеа)».47 Трехчастная композиция «Слова», подчеркнутая в названии, позволяет органически развить основную тему «Слова» — прославление Русской земли, ее «кагана» Владимира и князя Ярослава. Каждая часть легко вытекает из предшествующей, постепенно сужая тему, логически, по типическим законам: средневекового мышления, переходя от общего к частному, от общих вопросов мироздания к частным его проявлениям, от универсального к национальному, к судьбам русского народа. Основной пафос «Слова» лежит в систематизации, в приведении в иерархическую цепь фактов вселенской истории в духе средневековой схематизации. Первая часть произведения касается основного вопроса исторических воззрений средневековья: вопроса взаимоотношения двух заветов — Ветхого и Нового, «закона» и «благодати». Взаимоотношение это рассматривается Иларионом в обычных: символических схемах христианского богословия, в последовательном проведении символического параллелизма. Символические схемы этой части традиционны. Ряд образов заимствован: в ней из византийской богословской литературы. В частности, неоднократно указывалось на влияние «слова» Ефрема Сирина, «на Преображение».48 Однако самый подбор этих традиционных символических противопоставлений оригинален. Иларион создает собственную патриотическую концепцию всемирной истории. Он нигде не упускает из виду основной своей цели: перейти затем к прославлению Русской земли и ее «просветителя» Владимира. Иларион настойчиво выдвигает вселенский, универсальный характер христианства, Нового Завета («благодати»), сравнительно с национальной ограниченностью Ветхого Завета («закона»). Подзаконное состояние при Ветхом Завете сопровождалось рабством, а «благодать» (Новый Завет) — свободой. Закон сопоставляется с тенью, светом луны, ночным холодом, благодать — с солнечным сиянием, с теплотой. Взаимоотношение людей с Богом раньше, в эпоху Ветхого; Завета устанавливалось началом рабства, несвободного подчинения— «закона», в эпоху же Нового Завета — началом свободы— «благодати». Время Ветхого Завета символизирует образ рабыни Агари, время Нового Завета — свободной Сарры. Особенное значение в этом противопоставлении Нового Завета Ветхому Иларион придает моменту национальному. Ветхий Завет имел временное и ограниченное значение, Новый же Завет вводит всех людей в вечность. Ветхий Завет был замкнут в еврейском народе, а Новый имеет всемирное распространение. Иларион приводит многочисленные доказательства того, что время замкнутости религии в одном народе прошло, что наступило время свободного приобщения к христианству всех народов без исключения; все народы равны в своем общении с Богом. Христианство, как вода морская, покрыло всю землю,49 и ни один народ не может хвалиться своими преимуществами в делах религии. Всемирная история представляется Илариону как постепенное распространение христианства на все народы мира, в том числе и на русский. Развивая эту свою мысль, Иларион явно полемизировал с идеями византинизма, противопоставляя им новое учение, резко расходившееся с притязаниями средневековья на универсализм светской и церковной власти. Излагая эту идею, Иларион прибегает к многочисленным параллелям из Библии и упорно подчеркивает, что для новой веры потребны новые люди. «Лепо бо бе благодати и истине на новые люда въсияти, не вливают бо — по словеси господню — вина нового, учения благодатна, в мехы ветхы… но новое учение, новы мехы, новы языки [народы], новое и съблюдеться, якоже и есть».50 По мнению исследователя «Слова» И. Н. Жданова, митрополит Иларион привлекает образы иудейства, Ветхого Завета только для того, чтобы «раскрыть посредством этих образов свою основную мысль о призвании язычников: для нового вина нужны новые мехи, для нового учения нужны новые народы, к числу которых принадлежит и народ русский».51 Сама по себе эта мысль была явно направлена против идеалов византинизма. Поэтому во многих из укоров Ветхому Завету можно видеть прямые укоры Византии, стороннице не свободного, а рабского наделения христианством. Прямою угрозою по адресу Константинополя звучали напоминания Илариона о конечном разорении Иерусалима за стремление замкнуть в себе дело религии.52 Итак, подчеркивая и настойчиво варьируя свою мысль о преимуществах новых народов перед старыми, о награждении меньших перед большими, о разрушении Иерусалима за ограничение божественного откровения, Иларион явным образом имел в виду греко-русские отношения своего времени. «Слово» родилось в обстановке подготовки военного похода на Константинополь Владимира Ярославича или непосредственно за ним,53 в обстановке противодействия греков канонизации Владимира.54 В этой же обстановке возникли и «Память и похвала князю Владимиру» Иакова Мниха и вышедшая из грекофильствующей среды «Корсунская легенда».55 «В судьбах новых народов „сбывается“, что в символических образах представлено в истории ветхозаветной, — писал о «Слове» академик И. Н. Жданов. — Нужно только понимать эти образы: „да разумеешь, иже чтешь“».56 Рассказав о вселенском характере христианства сравнительно с узко национальным характером иудейства и подчеркнув значение новых народов в истории христианского учения, Иларион свободно и логично переходит затем ко второй части своего «Слова», сужая свою тему, — к описанию распространения христианства по Русской земле: «вера бо благодатная по всей земли распростреся и до нашего языка русьскаго доиде… Се бо уже и мы съ всеми христианы славим святую Троицу».57 Русь равноправна со всеми странами и не нуждается ни в чьей опеке: «вся страны благий Бог помилова, и нас не презре, въсхоте и спасе ны и в разум истиный приводе».58 Воззрения русских, подчеркивает Иларион, диаметрально противоположны национально-исключительным воззрениям греков: «а не иудейски хулим, но христиански благословим, не съвета творим, якоже распяти, но яко распятому поклонитися».59 Русскому народу принадлежит будущее, принадлежит великая историческая миссия: «и събыстся о нас языцех [народах] реченое: открыет мышцу свою святую предо всеми языки [перед всеми народами] и узрят вси конци земля спасение Бога нашего (Исаии, LII, 10)».60 Патриотический и полемический пафос «Слова» растет, по мере того как Иларион описывает успехи христианства среди русских. Словами Писания Иларион приглашает всех людей, все народы хвалить Бога. Пусть чтут Бога все люди и возвеселятся все народы, все народы восплещите руками Богу. От Востока и до Запада хвалят имя Господа; высок над Всеми народами Господь. Патриотическое воодушевление Илариона достигает высшей степени напряжения в третьей части «Слова», посвященной прославлению Владимира I Святославича. Вели первая часть «Слова» говорила о вселенском характере христианства, а вторая часть — о русском христианстве, то третья часть предназначена для похвалы князю Владимиру. Органическим переходом от второй части к третьей служило изложение средневековой богословской идеи, что каждая из стран мира имела своим просветителем одного из апостолов.61 Есть и Руси кого хвалить, кого признавать своим просветителем: «Похвалим же и мы, по силе нашей, малыми похвалами, великая и дивная сътворшаго, нашего учителя и наставника, великаго кагана нашея земля, Владимера».62 Русская земля и до Владимира была славна в странах, в ней и до Владимира, были замечательные князья: Владимир «внук старого Игоря, сын же славного Святослава».63 Оба эти князя «в своя лета, владычествующа, мужьством же и храбрьством прослуша. [прославились] в странах многих и поминаются ныне и словуг [славятся]».64 Иларион высоко ставит авторитет Русской земли, среди стран мира. Русские князья и до Владимира не в худой и не в неведомой земле владычествовали, но в русской, которая ведома и слышима есть всеми концами земли.65 Владимир — это только «славный от славных», «благородный из благородных».66 Иларион описывает далее военные заслуги Владимира. Владимир «единодержець быв земли своей, покорив под: ся округныа страны, овы миром, а непокоривыя мечем».67 Силу и могущество русских князей, славу Русской земли, «единодер-жавство» Владимира и его военные успехи Иларион описывает с нарочитою целью — показать, что принятие христианства могущественным Владимиром не было вынужденным, что оно было результатом свободного выбора Владимира. Описав общими чертами добровольное, свободное крещение Владимира, отметая всякие возможные предположения о просветительной роли греков, Иларион переходит затем к крещению Руси, приписывая его выполнение исключительной заслуге Владимира, совершившего его без участия греков.68 Подчеркивая, что крещение Руси было личным делом одного только князя Владимира, так как это позволяло ему соединение в нем «благовериа с властью», Иларион явно полемизирует с точкой зрения греков, приписывавших себе инициативу крещения «варварского» народа. Затем Иларион переходит к описанию личных качеств Владимира и его заслуг, очевидным образом имея в виду указать на необходимость канонизации Владимира, против которой возражали греки. Довод за доводом приводит Иларион в пользу — святости Владимира: он уверовал в Христа, не видя его,69 он неустанно творил милостыню; он очистил свои прежние грехи этой милостыней; он крестил Русь — славный и сильный народ и тем самым равен Константину, крестившему греков. Сопоставление дела Владимира для Руси с делом Константина для ромеев-греков направлено против греческих возражений на канонизацию Владимира: равное дело требует равного почитания.70 Нетерпимое и обидное для греков-ромеев, сопоставление Владимира с Константином Иларион развивает особенно пространно, а затем указывает на продолжателя дела Владимира — на его сына Ярослава, перечисляет его заслуги, его строительство. Патриотический пафос этой третьей части, прославляющей Владимира, еще выше, чем патриотический пафос второй. Он достигает сильнейшей степени напряжения, когда, пространно описав просветительство Владимира, новую Русь и «славный град» Киев, Иларион обращается к Владимиру с призывом восстать из гроба и посмотреть на плоды своего подвига: «Встани, о честная главо, от гроба твоего, встани, отряси сон, неси бо умерл, но спиши до общаго всем въстаниа. Встани, неси умерл, несть бо ти лепо умрети, веровавшу во Христа, живота всему миру. Отряси сон, возведи очи, да видиши, какоя тя чьсти господь тамо сподобив и на земли не безпамятна оставил сыном твоим».71 За третьею, заключительною частью «Слова» следовала молитва к Владимиру, пронизанная тем же патриотическим подъемом, патриотическою мыслью. «И донелиже стоит мир, — обращался Иларион в ней к Богу, — не наводи на ны [т. е на русских] напасти искушениа, ни предай нас в рукы чуждиих [т. е. врагов], да не прозовется град твой [т. е. Киев] град, пленен, и стадо твое [т. е. русские] пришельцы в земли не своей».72 Итак, истинная цель «Слова» Илариона не в догматико-богословском противопоставлении Ветхого и Нового Заветов, как думали некоторые его исследователи.73 По выражению В. М. Истрина — это «ученый трактат в защиту Владимира».74 Иларион прославляет Русь и её «просветителя» Владимира. Византийской теории вселенской церкви и вселенской империи Иларион противопоставил свое учение о равноправности всех народов, свою теорию всемирной истории, как постепенного и равного приобщения всех народов к культуре христианства. Широкий универсализм характерен для произведения Илариона. История Руси и ее крещение изображены Иларионом как логическое следствие развития мировых событий. Чем больше сужает Иларион свою тему, постепенно переходя от общего к частному, тем выше становится его патриотическое одушевление. Таким образом, все «Слово» Илариона от начала до конца представляет собой стройное и органическое развитие единой патриотической мысли. Впоследствии своим принятием сана митрополита без санкции Константинополя, единственно по выбору русских епископов, Иларион практически выступил против гегемонии Византии, доказывая, что русская церковь — церковь свободы, а не рабства, а Киев равноправен Константинополю. >4 А. А. Шахматов установил ту связь, которая существовала между началом русского летописания и построением Софии Киевской.75 Аналогичную связь можно установить между «Словом» Илариона и Софией. Архитектура эпохи Ярослава входит, как существенное звено, в единую цепь идеологической взаимосвязи культурных явлений начала XI в. «Слово» Илариона составлено между 1037 и 1050 гг… М. Д. Приселков сужает эти хронологические вехи до 1037–1043 гг., считая, и, повидимому, правильно, что оптимистический характер «Слова» указывает на его составление до несчастного похода Владимира Ярославича в 1043 г.76 Трудно предположить, что «Слово» Илариона, значение которого равнялось значению настоящего государственного акта, государственной декларации, было произнесено не в новом, только что отстроенном Ярославом центре русской самостоятельной митрополии — Софии. «Слово», несомненно, предназначалось для произнесения во вновь отстроенном храме, пышности которого удивлялись современники. Против произнесения «Слова» в Десятинной церкви, как уже было отмечено исследователями, свидетельствует то место «Слова», где Иларион, говоря о Владимире, упоминает Десятинную церковь, в качестве посторонней: «Добр послух благоверью твоему [Владимира], о блажениче, святаа церкы, святыя богородица Мария… идеже мужьственное твое тело лежит».77 Присутствие Ярослава и жены его Ирины на проповеди Илариона, отмеченное в «Слове»,78 прямо указывает на Софию, как на место, где было произнесено «Слово» Илариона. Ведь именно София была придворной церковью, соединяясь лестницей с дворцом Ярослава.79 Именно здесь, в Софии, мог найти Иларион то «преизлиха» насытившееся «сладости книжной»80 общество, для которого, как он сам говорит в «Слове», он предназначал свою проповедь. Ведь именно Софию Ярослав сделал центром русской книжности, собрав в ней «письце мъногы» и «кънигы мъногы».81 Если «Слово» было действительно произнесено в Софии, тонам станут понятны все те восторженные отзывы о строительной деятельности Ярослава и о самой Софии, которые содержатся в «Слове». Иларион говорит о Софии, что подобного ей храма «дивна и славна»… «не обрящется в всем полунощи [севере] земном, от востока до запада».82 Можно и еще более уточнить место произнесения проповеди Илариона. «Известно, что в Византии царь и царица в своих придворных церквах слушали богослужение, стоя на хорах, царь на правой, а царица на левой стороне».83 Можно считать установленным, что на Руси этот обычай существовал до середины XII в. Здесь на хорах князья принимали причастие, здесь устраивались торжественные приемы, хранились книги и казна. Вот почему до тех пор, пока на Руси держался этот обычай, хоры в княжеских церквах отличались обширными размерами, были ярко освещены и расписаны фресками на соответствующие сюжеты. Очевидно, что именно здесь на хорах и было произнесено «Слово» Илариона, в присутствии Ярослава, Ирины и работавших здесь книжников. Росписи Софии и, в частности, ее хоров, представляют собой любопытный комментарий к «Слову» Илариона. К X и XI вв. росписи храмов выработались в сложную систему изображения мира, всемирной истории и «невидимой церкви». Весь храм представлялся как бы некоторым микрокосмосом, совмещавшим в себе все основные черты символического христианско-богословского строения мира. Это в особенности следует сказать и о храме Софии Киевской. Фрески и мозаики Софии воплощали в себе весь божественный план мира, всю мировую историю человеческого рода. Эта история человечества обычно давалась в средние века как история Ветхого и Нового Заветов. Противопоставление Ветхого и Нового Заветов — основная тема росписей Софии. Оно же — исходная тема и «Слова» Илариона. Следовательно, произнося свою проповедь, Иларион непосредственно исходил из темы окружающих изображений. Фрески и мозаики киевской Софии могли наглядно иллюстрировать проповедь Илариона. Росписи хоров представляют собой в этом отношении особенное удобство. Именно здесь на хорах были те сцены Ветхого Завета, персонажи которых подавали наибольший повод для размышлений Илариона: «встреча Авраамом трех странников», «гостеприимство Авраама», а также «жертвоприношение Исаака». Своими словами «яко человек иде на брак в Кана Галилеи, и яко бог воду в вино преложи»84 Иларион мог прямо указать два противостоящие друг другу изображения, символически поясняющие чудо на браке в Кане, претворение воды в вино, и рядом вечерю Христа с учениками по воскресении. Для средневековой проповеди было типично исходить из такого символического толкования устройства церкви, ее названия в честь того или иного события, божества, святого; из символического толкования находящихся в ней изображений. В той же проповеди Илариона имеется символическое толкование основания церкви Благовещения на Киевских Золотых воротах в прямом отношении к будущей судьба Киева. Название церкви Благовещения на Золотых воротах, по мнению Илариона, символично. Подобно тому, как архангел Гавриил дал целование девице, т. е. деве Марии, — «будет и граду сему» (т. е. Киеву). К деве Марии архангел обратился со словами: «радуйся, обрадованная, Господь с тобою»; к городу же Киеву через эту церковь архангел также как бы обращается со словами: «радуйся, благоверный граде, Господь с тобой».85 Таким образом, Иларион символически и патриотически толкует название церкви Благовещения; так же символически толкует Иларион и росписи Софии, тема которых становится основным исходным моментом его «Слова». Благодаря этому вся проповедь Илариона сильно приобретала в доказательности. >5 В средние века отвлеченные понятия очень часто отождествлялись с их материальными воплощениями. Нередко самые отвлеченные идеи представлялась грубо натуралистическими. Средневековые миниатюристы и иконописцы изображали душу Марии в композиции Успения в виде спеленутого ребенка, ад — в виде морского чудовища, реку Иордан — в виде старца и т. д. Аналогичным образом смешивались отвлеченное понятие церкви и самое церковное здание — строение. «Натуралистическое» понимание понятия церкви как организации было широко распространено и на Западе и в самой Византии. Так, например, девятый член Символа веры: «Верую во едину святую, соборную и апостольскую церковь», очень часто иллюстрировался миниатюристами изображением церковного здания с епископом, совершающим внутри его евхаристию. Такое «натуралистическое» понимание церкви, как организации, мы встречаем и у Даниила Заточника, изменившего сообразно этому своему представлению даже текст Писания: «Послушайте, жены, апостола Павла глаголяща: крест [вм. правильного «Христос»] есть глава церкви, а муж жене своей».86 Втечение многих веков русские, говоря о Иерусалимской церкви, как о патриархии, имели в виду храм Воскресения в Иерусалиме. Так, например, митрополит Феодосий писал в своем послании 1464 г.: «Сион всем церквам глава, мати суще всему православию».87 Аналогичным образом на Руси: постоянно отождествлялась константинопольская патриархия с константинопольским храмом Софий. Именно поэтому в захвате Константинополя турками и в последующем обращении храма Софии в мечеть русские увидели падение греческой церкви, падание константинопольской патриархии и перестали признавать константинопольского патриарха, а признали Иерусалимскую церковь [т. е. храм-Воскресения] главой всех православных церквей.88 Такое же точно натуралистическое смешение понятия церкви, как организации, с храмом было свойственно и эпохе Ярослава. Сам Иларион отождествлял эти два термина. В своем «Исповедании» Иларион говорит: «К кафоликии и апостольской церкви притекаю, с верою вхожду, с верою молюся, с верою исхожду».89 Вот почему и в летописи сказано о Ярославе: «заложи же и цркъвь святыя София, митрополию».90 Итак, строя храм Софии в Киеве, Ярослав «строил» русскую митрополию, русскую самостоятельную церковь. Называя вновь строящийся храм тем же именем, что и главный храм греческой церкви, Ярослав как бы бросал ей тем самым вызов, претендуя на равенство русской церкви греческой. Самые размеры и великолепие убранства Софии становились прямыми «натуралистическими» свидетельствами силы и могущества, русской церкви, ее прав на самостоятельное существование. Отсюда ясно, какое важное политическое значение имело построение киевской Софии — русской «митрополии», а вслед за ней и Софии Новгородской. Торжественное монументальное зодчество времени Ярослава, четкая делимость архитектурного целого, общая жизнерадостность внутреннего убранства, обилие света, продуманная система изобразительных композиций, тесно увязанных с общими архитектурными формами, — все это было живым, «натуралистическим» воплощением идей эпохи, широких и дальновидных, надежд лучших людей того временя на блестящее будущее русского народа. Отождествление русской церкви с храмом Софии Киевской вело к обязательному подчинению всей архитектуры вновь отстраивавшегося храма — патрональной святыни Русской земли — идее независимости русского народа, идее равноправности русского народа народу греческому. Вот почему, исходя в своем патриотическом «Слове» из самой системы росписей Софийского собора, изображавших всемирную историю в ее средневековом истолковании, как историю Ветхого и Нового Заветов, Иларион вооружал свою проповедь чрезвычайно существенною для средневекового сознания силою доказательности. Начиная свою проповедь с темы росписей Софии, Иларион имел в виду не только ораторский эффект, не только придание своей речи наглядности, не только иллюстрирование ее имеющимися тут же изображениями, а убеждение слушателей теми реальными, материальными, «каменными» аргументами, которые имели особенное значение для склонного к «натурализму» средневекового мышления. Кроме того, Иларион вводил тем самым традиционную тематику мозаичных и фресковых изображений Киевской Софии в общую идеологию своей эпохи, заставляя «работать» изобразительное искусство Софии на пользу Руси и русского государства. Итак, русская литература эпохи Ярослава, русская историческая мысль, русская архитектура, русское изобразительное искусство этого периода были подчинены общей задаче: утвердить равноправие русского народа среди других народов мира. >6 Первая русская летопись и «Слово» Илариона явились блестящим выражением того народно-патриотического подъема, который охватил Киевское государство в связи с общими культурными успехами Руси. Оптимистический характер культуры этого периода позволил даже говорить об особом характере древнерусского христианства, якобы чуждого аскетизма, жизнерадостного и жизнеутверждающего. Академик Н. К. Никольский писал, что «при Владимире и при сыне его Ярославе русское христианство было проникнуто светлым и возвышенным оптимизмом мировой религии».91 М. Д. Приселков выступил с гипотезой, где объяснил происхождение этого жизнерадостного христианства (струя которого прослеживалась им и за пределами княжения Ярослава) особым характером болгарского христианства X–XI вв., передавшегося на Русь через Охридскую епископию.92 Этим оптимистическим характером отличались Древнейший Киевский летописный свод и «Слово» Илариона. Тою же верою в будущее русского народа были продиктованы и грандиозное строительство эпохи Ярослава и ее великолепное изобразительное искусство. Общие черты византийской архитектуры этой эпохи — четкая делимость архитектурных масс, обширные внутренние пространства, обилие света, конструктивная ясность целого, роскошь внутреннего убранства, тесная увязка мозаики и фресок с архитектурными формами — пришлись, как нельзя более кстати, к жизнерадостному духу, русской культуры времени Ярослава. Эта культура впоследствии вошла, как определяющая и важнейшая часть, во всю культуру Древней Руси: свод Ярослава лег в основу всего последующего русского летописания, определив его содержание и стиль; «Слово» Илариона получило широкую популярность и отразилось не только во многих: произведениях древнерусской письменности, но и в письменности славянской. «Слово» Илариона и, в особенности, две последние, наиболее патриотические части его отразились в похвале Владимиру в Прологе (XII–XIII в.), в Ипатьевской летописи (похвала Владимиру Васильковичу и Мстиславу Васильковичу), в житии Леонтия Ростовского (XIV–XV в.), в произведениях Епифания Премудрого (в житии Стефана Пермского) и др. «Слово» Илариона созвучно даже народному творчеству. Та часть «Слова», где Иларион обращался к Владимиру с призывом встать из гроба и взглянуть на оставленный им народ, на своих наследников, на процветание своего дела, близка к излюбленной схеме народных плачей о царях (о Грозном, о Петре). Наконец, за русскими пределами «Слово» Илариона отразилось в произведениях хиландарского сербского монаха Доментиана (XIII в.) — в двух его житиях: Симеона и Саввы.93 Молитва Илариона, заканчивавшая собою «Слово», повторялась во все наиболее критические моменты древнерусской жизни. Строки ее, посвященные мольбе за сохранение независимости Русской земли, произносились в наиболее грозные годины вражеских нашествий. Архитектура эпохи княжения Ярослава так же, как и книжность, была обращена к будущему Русской земли. Грандиозные соборы Ярослава в Киеве, в Новгороде и в Чернигове были задуманы как палладиумы этих городов. София Киевская соперничала с Софией Константинопольской. Замысел этой Софии был также проникнут идеей равноправности Руси Византии, как и вся политика эпохи Ярослава, основанная на стремлении создать свои собственные, независимые от Империи центры книжности, искусства, церковности. Не случайно, думается, София в Киеве, церковь Спаса в Чернигове, София в Новгороде остались самыми крупными и роскошными церковными постройками в этих городах на всем протяжении русской истории до самого XIX в. София Новгородская никогда не была превзойдена в Новгороде, ни в своих размерах, ни в пышности своего внутреннего убранства, ни в торжественно-монументальных формах своей архитектуры. Знаменательно, что вся культура эпохи Ярослава, все стороны культурной деятельности первых лет XI в. проходят под знаком тесного взаимопроникновения архитектуры, живописи, политики, книжности. >7 При Ярославе высоко вырос международный авторитет Киевского государства. Русь выступает на страницах западноевропейских исторических документов не как отсталая, варварская страна, а как равноправное государство. Об этом же свидетельствуют обширные политические связи Киевской Руси со всеми европейскими государствами. Сам князь Ярослав Мудрый был связан со всеми дворами Европы. Он был женат на Ингигерде, дочери шведского короля Олафа. Старшая дочь его была замужем за французским королем Генрихом I и была одно время регентом Франции при своем малолетнем сыне Филиппе I. Вместе со своим несовершеннолетним сыном она подписывала французские государственные документы. Средняя дочь Анастасия была 'замужем за венгерским королем Андреем I. Сын Ярослава Всеволод был женат на греческой царевне Анне; он был высоко образован и владел пятью иностранными языками. Сын Изяслав был женат на сестре польского короля Казимира. Упорно добивался руки дочери Ярослава Елизаветы знаменитый викинг Гаральд Строгий, впоследствии норвежский король, подвиги которого гремели по всей Европе. Внешний облик Киева, его замечательное искусство, развитие ремесел, обширная мировая торговля соответствовали при. Ярославе международному авторитету Киевского государства, его обширным связям со странами Востока и Запада. >III ИДЕЯ ЕДИНСТВА РУСИ В ГОДЫ КНЯЖЕНИЯ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА >Одно из самых значительных явлений русской средневековой культуры — летописание. Политически острая летопись постоянно служила ориентиром в политической жизни городов, княжеств, областей. В летописи скрещивались вое важнейшие идейные течения Руси, в нее вносились наиболее важные документы (договоры, завещания князей, послания) и лучшие исторические литературные произведения. Возникнув во второй четверти XI в., при Ярославе Мудром, летописание сразу же достигает высоких ступеней развития. Древнейший Киевский свод Ярослава Мудрого и последующие Киево-Печерокие своды 1073 и 1093 гг. были, насколько возможно о них судить по сохранившимся в позднейших летописях фрагментам, произведениями государственного размаха и огромной идейной силы. >1 Попытка Ярослава создать вокруг Софии Киевской прочный оплот русского просвещения не удалась. Вслед за русским митрополитом Иларионом, Константинополь снова присылает митрополита — грека. Центр русского просвещения передвигается со второй половины XI в. в Киево-Печерский монастырь, где получали образование первые русские епископы и попы и где книжность и литература нашли себе до поры до времени надежное пристанище. Первая переработка Древнейшего Киевского свода была произведена около 1073 г. монахом Киево-Печерского монастыря Никоном, книжная деятельность которого оказалась особо отмеченной впоследствии в житии Феодосия. Никон был в свое время (в конце 1060-х годов) сослан в Тмутаракань. Отсюда в своде ряд тмутараканских известий и преданий: о поединке черкеса-касога Редеди с Мстиславом (эпизод этот упомянут в «Слове о полку Игореве»), о хозарской дани и др. Использование фольклора Причерноморья привело к переработке рассказа Древнейшего свода о крещении Руси. Никон ввел в свод так называемую «Корсунскую легенду», рассказывавшую о крещении Владимира не в Киеве, а в Корсуни (Херсонесе), в Крыму, в результате победы, одержанной им над греками.94 Настроение торжества по поводу водворения нового порядка и христианства, которое охватывало целиком Древнейший свод, сменяется у Никона в новых политических обстоятельствах второй половины XI в, тревогой за судьбу родины, раздираемой феодальными междоусобиями. Свои политические устремления Никон осторожно выразил, поместив в свод завещание Ярослава Мудрого (произведение, возможно, написанное не Ярославом). В нем Ярослав просит своих сыновей быть «в любви межю собой» и не погубить «землю отець своих и дед своих, иже налезоша трудомь своимь великымъ».95 Свод Никона был подвергнут основательной переработке в 1093 г. В атом своде окончательно оформилась центральная часть летописи в том ее виде, в каком она вошла впоследствии в «Повесть временных лет». Это и позволило исследователям летописания назвать свод 1093 г. «Начальным». Начальный свод проникнут тем же настроением тревоги за судьбу родины, что и предшествующий ему свод Никона. Междоусобия князей приняли к этому времени такой характер, что летописцу приходилось не только призывать к прекращению распрей, но обосновывать и само единство княжеского рода. О этой целью в свод внесена легенда о призвании трех братьев-варягов. Легенда эта заимствована, повидимому, из новгородской летописи, где живы были еще предания о приглашении наемных дружин варягов. Предания эти оказались трансформированы под воздействием эпических мотивов, сильно распространенных и на Западе и на Востоке, о трех братьях — основателях городов, и под влиянием ходячих средневековых легенд о происхождении правящей династии из иноземных государств. Замечательною особенностью Печерского Начального свода 1095 г. было использование для его составления Новгородской летописи. Киевское летописание становилось, таким образом, общерусским, не только по идее, но и по исполнению. В обстановке упадка Киевского государства Начальный свод вступил на путь идеализации старых времен и старых князей, которые как бы противопоставлялись и ставились в пример новым. Ратную доблесть и неутомимость в походах больше всего ценит летописец в первых русских князьях. На основании старых дружинных песен летописец вставил в свой свод известную характеристику Святослава — описал его суровый образ жизни, предприимчивость, подвижность и рыцарское прямодушие, с которым он предупреждал о. себе врагов, ввел его энергичные обращения к дружине перед битвами и т. д. Побуждая князей к активной политике против степи, летописец в полных трагизма и скорби словах повествует о хищных набегах половцев, разорявших Русскую землю, толпами уводивших в рабство население сел! и городов. Печальные, с осунувшимися лицами, с ногами в путах, гонимые «незнаемою страною»,96 мучимые жаждою и голодом пленники со слезами говорили друг другу: «аз бех сего города», «аз сея вси» (села). Летописец Начального свода принадлежал к тем «смысленным мужам», которые видели несчастье Русской земли в распрях князей, головой пробивавших себе дорогу к Киевскому столу, и не раз обращались к князьям с призывом: «почто вы распря имате межи собою, а погании [язычники — степные народы] губять Землю Русьскую».97 >2 Бесспорно одна из лучших русских летописей — «Повесть временных лет», составленная в 1110–1118 гг. В предшествующий созданию «Повести» период, на рубеже XI и XII вв., Киевская Русь испытывает на себе наиболее тяжкие удары кочевников, ставшие жесточайшим народным бедствием. Степные кочевники — половцы — делают отчаянную попытку прорвать оборонительную линию земляных валов, которыми Русь огородила с юга и юго-востока свои степные границы, и осесть в пределах Киевского государства. В 1096 г. половецкий хан Боняк чуть не ворвался в Киев, ограбил и разорил Печерский монастырь, когда монахи спали по кельям. Теснимая с севера половцами и печенегами, а с моря турецким флотом с Чахой во главе, союзная Киеву Византия была бессильна предотвратить грозившую ей самой опасность. В этот тяжелый период русской истории в Киевской Руси консолидируются силы, стремящиеся к решительному нажиму на степь. Подъем этот (совпадает с освободительным движением в Испании против господства мавров и с общим движением в Европе на Восток в отпор наступающим туркам, прервавшим европейскую торговлю с Азией. Русь, составлявшая левый фланг европейской обороны против напора кочевых и полукочевых народов, полукольцом охвативших Европу, объединяется под властью Владимира Мономаха и переходит от пассивной обороны к активному наступлению на степь. Степные походы Мономаха сбивают волну половецких набегов и спасают самую Византию от гибели. Именно в это время составляется замечательный памятник русского летописания — «Повесть временных лет», вся проникнутая единой мыслью о Русской земле, о ее защите, о необходимости единения перед лицом внешней опасности. «Повесть временных лет» одновременно завершает целый период киевского летописания и вместе с тем является основой всех последующих летописаний, начало которых она, обычно, составляет. История создания величайшего памятника русского летописания — «Повести временных лет» — чрезвычайно сложна и запутана. Здесь сказалась работа целых поколений русских книжников, сказались сложные искания исторической мысли, сложное мировоззрение, в котором боролись аскетические монашеские настроения с реальными запросами русской жизни. Многочисленные литературные источники устные и книжные, русские и иноземные, язык «Повести», то просторечный, близкий к разговорному, то книжный, пересыпанный славянизмами и грецизмами, легли в основу этого грандиозного творения. В создании «Повести» принимали участие две литературные школы — Киево-Печерская и Выдубецкая, по-разному понимавшие свои задачи, но удачно сложившие свои силы в произведении, отличающемся убедительной законченностью, цельностью архитектоники. В 1110 г. монах Печерского монастыря Нестор переработал Начальный свод 1095 г. К новому своду Нестор привлек византийский исторический материал — хронику Георгия Амартола и его продолжателя, затем компилятивный «Хронограф по великому изложению» и др. Нестор связал русскую историю с мировой, придал ей центральное значение. Программа летописца и его задачи точно сформулированы в самом названии «Повести»: «Се повести временных лет, откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуда Русская земля стала есть». Показать Русскую землю в ряду других европейских стран, доказать, что русский народ не без роду и племени, что он имеет свою историю, которой вправе гордиться, — такова замечательная по своему времени цель составителя «Повести». «Повесть временных лет» должна была напомнить князьям о славе и величии родины, о мудрой политике их предшественников и об исконном единстве Русской земли. Задача эта выполнена летописцем с необыкновенным тактом и художественным чутьем. Широкий замысел сообщил спокойствие и неторопливость рассказу летописца, целеустремленность и твердость его суждениям, художественное единство и монументальность всему произведению в целом. Начало «Повести временных лет» посвящено событиям всемирной истории, предшествующим сложению Киевского государства. Летописец вводит Русь на мировую историческую арену, сообщая самые разнообразные сведения — географические, этнографические, культурно-исторические. Неторопливо раскрывает летописец ту историческую обстановку, в которой родилось Русское государство, рассказывает сперва о народах мира, затем о древнейших судьбах славянского племени и «словенского» языка. Просто и наглядно дает летописец географическое описание Руси, путей, связывающих ее с другими странами, с замечательной последовательностью начиная свое описание с водораздела рек Днепра, Западной Двины, Волги. Далее летописец описывает древнейший быт русских племен, рассматривая их как единый народ, и не забывает при этом упомянуть о соседящих с ними мере, черемисах, муроме и мордве. Летописец обращает внимание на происхождение русского языка, как на главный признак русской народности. Он выступает первым в русской истории и в истории славянства вообще защитником идеи общеславянского единства: «бе бо един язык Словеньск; а Словеньск язык и Русьскыи един есть…, аще и поляне зъвахуся, но Словеньска речь бе; полями же прозъвашася, зане в поли седяху, а язык Словеньск бысть им един».98 Чтобы придать особую значительность христианскому просвещению на Руси, составитель «Повести» включил в нее легенду о путешествии апостола Андрея через Русскую землю. Андрей благословил Киевские горы, а в Новгороде посмеялся банному обычаю: «како ся мыють и хвощются [хлещутся] младыми прутьями» и обливаются «квасом уснияным».99 «И того ся добьють, егда влезуть ли живи и облеются водою студеною и тако оживуть. И то творять мовение себе, — прибавляет Андрей, — а не мучение».100 В этом сочетании торжественного с комическим проявился подлинный художественный Темперамент летописца, не боящегося заставить апостола произносить каламбуры. Собственно русскую историю летописец дополнил договорами русских с греками, взятыми им из княжеского архива, включил легенду о сожжении Ольгой Искоростеня, о белгородском киселе и др. Обильно отразились в «Повести» произведения устного народного творчества. С русскими былинами роднит «Повесть» главным образом основная, общая им тема — оборона Русской земли от восточных кочевников. Так же, как и русские былины, летописец воспевает богатырство, силу, доблесть и подвиги русских воинов. Поединщики-богатыри по-былинному решают в летописи исход войны единоборством перед войсками. Один из редких подвигов былинного характера отразился в летописном рассказе о поединке юноши-кожемяки с печенежским богатырем перед лицом двух войск — русского и печенежского. Летопись рассказывает, как русские, вызванные на единоборство, тщетно искали поединпщка, который смог бы противостать печенежскому богатырю, как затем начал «тужить» князь Владимир и как, наконец, объявился некий старый муж я сказал Владимиру: «Князь, есть у меня один сын — меньшой — дома; с четырьмя вышел я сюда, а тот дома остался. Из детства никто еще не мог его победить: однажды я его журил, а он мял кожу, так в сердцах он разорвал ее руками». Услышав это, князь Владимир обрадовался и послал за младшим сыном старика, кожемякой. Приведенный к князю, неказистый на вид, юноша просит предварительно испытать его и привести ему большого и сильного быка. Быка привели, раздразнили его горячим железом и пустили бежать. Когда бык бежал мимо, юноша-кожемяка схватил быка рукой за бок и вырвал ему кусок кожи с мясом. Видя это, Владимир разрешил юноше бороться с печенежским богатырем. На следующее утро печенеги выпустили своего превеликого и страшного богатыря, а русские — своего. Увидел его печенежин и посмеялся, потому что русский богатырь был мал ростом. Полки размерили место для поединка, и богатыри сошлись. Юноша-кожемяка так сильно сжал печенежина руками, что удавил его и бросил его на землю. Раздался крик в полках, и устрашенные печенеги бежали. Обрадованный Владимир заложил на месте поединка город, а скромного кожемяку сделал «великим мужем».101 В этом рассказе «Повести» впервые отразилась мысль, ставшая затем излюбленным мотивом русской литературы вплоть до наших дней, о скромности настоящего героизма, о силе народного духа в незаметных внешне героях (Пушкин, Лермонтов, Л. Толстой, Достоевский и др.). Невысокий ростом ремесленник, пятый сын своего отца, которого даже не берут в поход, а оставляют дома, побеждает превеликого и страшного богатыря-печенежина, против которого не решался выйти никто из профессионалов-воинов. Спустя короткий срок, в 1116 г., потребовалась новая переработка летописи. Причина, побудившая к этой переработке, заключалась в том, что «Повесть», торжественная и патетичная вначале, не давала ответов на вопросы современной ей политики в известиях, касавшихся княжения Владимира Мономаха. На этот раз летописание было перенесено по воле Мономаха в Выдубецкий Михайловский монастырь, державшийся политической ориентации Мономаха. Сторонник Мономаха — игумен Сильвестр — особенно придирчиво переработал последние летописные статьи с 1093 г. по 1110 г., идеализировал Мономаха за его походы на половцев, за властную политику, за ум, за смелость и заботу об общенародных интересах. Сильвестр не скупится приводить программные речи Мономаха, в которых последний призывал к единству Руси, к твердому отпору наступающей степи: «Почто губим Русьскую Землю, сами на ся котору деюще, а Половци землю нашу несуть розно и ради суть, иже межю нами рати; да ноне отселе имемся в едино сердце и блюдем Рускые земли».102 C сочувствием передает Сильвестр возражения Мономаха дружине, не хотевшей итти в поход на степь, чтобы не губить по весенней распутице лошадей смердов: «дивно ми, дружино, — говорит им Мономах, — оже лошадий жалуете, ею же кто ореть [пашет]; а сего чему не промыслите, оже то начнеть орати [пахать] смерд, и приехав половчин ударить и [его] стрелою, а лошадь его поиметь, а в село его ехав иметь жену его и дети его, и все его именье. То лошади жаль, а самого не жаль ли».103 С тою же целью возвеличения общенародных устремлений Мономаха введен в «Повесть» драматичный рассказ попа Василия об ослеплении в междоусобной борьбе с родичами князя Василька Теребовльского. Множество бытовых подробностей и реалий делает этот рассказ одним из самых живых в летописи киевского периода. С потрясающей силой развертывает рассказ Василия картину феодальных раздоров. Подробно и не торопясь повествует поп Василий, как заманили Василька на именины, как постепенно оставили ею одного в комнате, как схватили и везли затем на телеге в Белгород, где бросили в «истобку [избу] малу». Оглядевшись Василько догадался, что хотят с ним сделать, стал кричать и плакать. Вошли конюхи, разостлали ковер и хотели повалить на него Василька. Василько отчаянно отбивался. Конюхи позвали подмогу. Василька схватили и связали, а затем сняли с печи доску, положили ему на грудь и сели по концам. Но Василько и тут сопротивлялся так отчаянно, что сняли с печи и вторую доску и придавили ею «яко персем троскотати [трещать]». Кончив точить, нож, овчарь Святополка подошел и ударил им в глаз Василька, но сначала промахнулся и перерезал ему лицо: «И есть рана та Василька и ныне».104 «По семь же вверте ему ножь в зеницю и изя зеницю, по сем в другое око въврьте ножь и изя другую зеницю».105 Ослепленного, едва живого Василька снова взвалили на телегу я повезли во Владимир Волынский. Трогателен путевой эпизод с окровавленной сорочкой Василька, которую ослепители, остановясь для обеда в Воздвиженске, дали постирать попадье. «Сего не бывало есть в Русьскей земьли ни при дедех наших, ни при отцих наших, сякого зла»,106 — сказал ужаснувшийся при известии об ослеплении Василька Владимир Мономах и послан за Давидом и Олегом Святославичами сказать: «поидета к Городцю, да поправим сего зла, еже ся створи се в Русьскей земьли и в нас, в братьи, оже ввержен в ны ножь: да аще сего не правим, то болшее зло встанеть в нас, и начнетъ брат брата закалати, и погыбнетъ земля Руская, и врази наши, половци, пришедше возмуть земьлю Русьскую».107 Сознание необходимости единения перед лицом внешней опасности, возмущение моральной низостью современных летописцу русских князей, их раздорами, составляют основную мысль летописи в описании феодального разброда конца XI в. Не было «сякого зла» в Русской земле, не такие были русские князья в прежние времена, не разоряли они населения поборами, обороняли Русскую землю, советовались во всем со своей дружиной, в ладьях на холстинных парусах ходили на самую Византию, гнушались золотом и паволоками, любя одно оружие. «Отци ваши и деди ваши трудом великим и храбрьством, побарающе по Русьской земли, ины земли приискываху, а вы хочете погубити землю Русьскую»,108 — в этом обращении к русским князьям в 1097 г. ключ к историческим воззрениям на события своего времени составителя «Повести временных лет». Есть и сейчас князья, подобные древнему Святославу — это Владимир Мономах; его держитесь, как бы хочет сказать выдубецкий летописец. Своим призывом на борьбу со степью, к прекращению междоусобий и к сплочению вокруг Владимира Мономаха выдубецкий летописец внес последний штрих в «Повесть временных лет», сделав ее цельным и законченным произведением, отразившим глубокое понимание национальных задач и точно отвечавшим политическим запросам своего времени. Впоследствии, когда составлялись новые летописи, «Повесть временных лет» всегда переписывалась в их начале. «Повесть» как бы служила политическим введением к разного рода городским, княжеским, митрополичьим летописям и идеи ее (идеи защиты родины) резко отражались в последующем летописании. В тяжкие годы татаро-монгольского ига бесчисленные списки «Повести временных лет», открывавшие собою местные, городские и княжеские летописи, напоминали русскому народу о временах его независимости, о былом могуществе его родины, о необходимости объединения для борьбы о грозным степным врагом. Призывы «Повести» к борьбе со степными кочевниками — половцами — воспринимались в те годы как призывы к борьбе с татарами и сыграли значительную роль в пропаганде идеи свержения татаро-монгольского ига на Руси. Такова была замечательная русская летопись, созданная по повелению Владимира Мономаха. >3 Богатое разнообразными литературными фактами время Владимира ярче всего характеризуется произведениями самого Мономаха— талантливого и начитанного писателя. Сохранившееся в единственном списке Лаврентьевской летописи 1377 г. «Поучение» Мономаха (в испорченном состоянии) распадается на два произведения: «грамотицу» Мономаха к своим детям («поучение» в собственном смысле этого слова)и послание Мономаха к князю Олегу Святославичу черниговскому, в котором он оплакивает своего сына Изяслава, убитого в 1096 г. под Муромом в сражении с войсками этого Олега, и просит отпустить захваченную им сноху — вдову Изяслава. Идеологическое содержание «Поучения» Мономаха не ограничивается призывом сыновей и всех, «кто прочтет» его «Поучение», к единению, к прекращению междоусобий, к соблюдению общенациональных интересов. Идея борьбы с братоубийственными междоусобиями заключена была еще в завещании Ярослава I: «имейте в себе любовь, понеже вы есте братья единого отца |и матере». Мономах дает в автобиографической части своего «Поучения» образ мужественного, деятельного, смелого, неутомимого правителя, горячего печаловника о Русской земле, который «ночь и день, на зною и на зиме, не дал себе упокоя». Мономах приглашает заботиться о смерде, о челяди, о «хрестьяных душах» и «убогих вдовицах», призывает к строгому соблюдению крестных целований, осуждает междоусобия и особенно пользование военной помощью чужеземцев, поляков и половцев, которых наводили князья на Русскую землю для решения своих династических споров. «Не вдавайте сильным погубити человека», — пишет Мономах в «Поучении» и, вместе с тем, приглашает не лениться в учении, не лениться в дому своем и на молитве, не лениться «на войне и на ловех». «На войну вышед, не ленитеся, не зрите на воеводы; ни питью, ни еденью не лагодите [не предавайтесь], ни спанью; и стороже сами наряживайте, и ночь, отвсюду нарядивше около вои, тоже лязите, а рано встанете; а оружья не снимайте с себе вборзе, не разглядавше ленощами, внезапу бо человек погыбает».109 Таков своеобразный воинский устав Мономаха. Политическая программа Мономаха находит себе объяснение в событиях его времени. Мономах в общенародных интересах энергично стремился к смягчению феодальной эксплоатации, достигшей в конце XI в. чрезвычайно жестких форм, к установлению на Руси твердой и единой великокняжеской власти и к активному наступлению на степь. Свой образ князя-патриота Мономах дополнил личным примером. Мономах описывает в «Поучении» свои «пути» и «ловы», т. е. военные и охотничьи подвиги, всюду, наряду с христианским идеалом воздержания от греха, молитвой, уважением к старшим и духовным лицам, проповедуя идею деятельной, жизни, неустанного труда на пользу родины, отваги и энергичной защиты интересов своего народа. «А из Чернигова до Киева нестишь [около 100 раз] ездих ко отцю, днем есмь переездил до вечерни; а всех путий [походов] 80 и 3 великих, а прока [прочих] не испомню меньших. И миров есм створил с половечьскыми князи без единого 20… А се тружахъся ловы дея… конь диких своима рукама связал есмь в пущах 10 и 20… Тура мя 2 метала на розех и с конем, олень мя один бол… вепрь ми на бедре мечь оттял… лютый зверь скочил ко мне на бедры и конь со мною поверже…».110 Реальным изображением княжеского поведения — походов, сражений, охот, заключений договоров, каждодневного, неустанного соблюдения народных интересов и т. д. — Мономах дополнил свои патриотические наставления, дал нарочитый образец для подражания. Мономах не стремился составить в своем поучении законченную автобиографию или законченный автопортрет, а передавал лишь цепь примеров из своей жизни, которые он считал поучительными и в которых постоянно акцентируется им общественно-идейная сторона. В этом уменье выбрать из своей жизни то, что представляло не личный, а гражданский, общенациональный интерес, заключается замечательное своеобразие автобиографии Мономаха, резко противоположной эгоцентрической автобиографий протопопа Аввакума или автобиографическим отрывкам в переписке Курбского с Грозным — двум другим автобиографическим произведениям в древней русской литературе. Образ Мономаха выступает в «Поучении» как бы помимо его воли, чем достигает особенной художественной убедительности. «Поучение» Мономаха давало жизненный идеал князя-патриота, администратора, хозяина, воина, отвечало на конкретные запросы русской жизни. Можно предполагать, что «Поучение» имело значительный резонанс в русской действительности. Не случайно Владимир Мономах был впоследствии идеализирован русской летописью. >4 Времени Мономаха принадлежит первое из дошедших описаний паломничеств — «Хождение» Даниила, также отразившее патриотические идеи эпохи. Средневековые паломничества в «святую землю» имели существенное познавательное значение, способствовали международному обмену культурными ценностями, приучали к терпимости и, вместе с тем, развивали в паломниках здоровое национальное чувство. Замечательною чертою Даниила является отсутствие в нем каких бы то ни было узко местных тенденций. Всюду, куда он ни попадает, он чувствует себя представителем всей Русской земли в целом. Он называет себя «русские земли игуменом», у гроба Господня ставит «кандило» «от всея русьскые земли», отличается терпимостью к чуждым верованиям (латинству и магометанству) и умеет всюду внушить к себе уважение, не вмешиваясь в распри сарацин и крестоносцев. Даниил свел — знакомство со «старейшиной срацинъским» и иерусалимским королем Балдуином I, Фландрским (1110–1118) и побывал там, куда не пускали других. Наши представления о литературе времени Мономаха далеко неполны, но и то, что мы знаем, свидетельствует о тех широких и разнообразных путях, на которые вступила в это время культура Киевского государства, черпавшая свои идейные силы в защите общенародных интересов, в идее единения перед лицом внешней опасности. В литературе этою периода нет той стройности и торжественности, которая была в литературных произведениях времени Ярослава, но она ближе к русской жизни, она разнообразнее, как разнообразнее были и запросы эпохи, она неспокойна и тревожна, как тревожны были события того времени. >IV КУЛЬТУРА И НАРОД НАКАНУНЕ ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ >Начавшийся с конца XI в. распад Киевского государства был связан с ростом его отдельных частей, с развитием производительных сил на местах, с образованием новых областных центров, городов, с подъемом активности городских масс населения. Этот процесс политического дробления Киевского государства и роста областных центров имел первостепенное значение в интенсивном культурном развитии Руси XII и начала XIII вв. Русская культура, которая в эпоху расцвета «империи Рюриковичей» была по преимуществу культурой Киева, с конца XI в. дробится и концентрируется вокруг многочисленных культурных областных гнезд: Новгорода, Чернигова, Полоцка, Смоленска, Владимира-Волынского, Галича, Ростова, Суздаля, Владимира Залесского и др. Все эти областные центры обнаруживают с конца XI в. решительное стремление к политической самостоятельности и культурному отъединению. «Каждая из обособившихся земель обращается в целую политическую систему, со своей собственной иерархией землевладельцев (князей и бояр), находящихся в сложных взаимных отношениях. Эти разрозненные ячейки, все больше замыкаясь в тесном пространстве своих узких интересов по сравнению с недавним большим размахом международной политической жизни Киевского государства, заметно мельчали. Однако внутренняя жизнь этих политически разрозненных миров текла интенсивно и подготовила базу для образования новых государств в восточной Европе и самого крупного из них — Московского».111 Это образование отдельных местных и областных культур с их своеобразными, индивидуальными чертами было связано с другой характерной чертой культурного развития XII–XIII вв. — интенсивным влиянием на утонченную культуру верхов русского общества многовековой местной народной культуры, восходящей своими корнями к древней культуре скифов и антов, издавна введенной в сферу влияния античности. Эти местные народные черты могут быть без труда вскрыты еще в первых произведениях каменного зодчества Руси,112 в ее книжности113 и в прикладном искусстве. С конца же XI в. и на протяжении XII и начала XIII вв. киевская культура испытывает особенно существенное изменение под воздействием местной народной культуры и сама широко распространяется в городских и сельских слоях населения. На почве этого взаимопроникновения создается новая высшая культура Руси XII в., тесно связанная с народом, местными традициями и государством. Канун татарско-монгольского нашествия был периодом чрезвычайно значительной, но подспудной, внутренней работы, чреватой величайшими последствиями. Мало заметная вначале, эта работа приводит к ощутимым результатам уже со второй половины XII в., когда, в противовес общей децентрализации русской жизни, начинают сказываться и обратные идейные стремления к объединению князей, княжеств, — гораздо раньше, чем аналогичные тенденции возникли на Западе. >1 Личное летописание Мономаха, выдубецкую переработку «Повести временных лет», продолжает его старший сын Мстислав, внук по матери последнего англо-саксонского короля Гаральда. Именно Мстиславу адресовал Мономах свое знаменитое «Поучение» к детям. Мстислав воспринял его, точно следуя отцовским заветам и в своей политической деятельности и в заботах о книжности и летописании. Подобно своему отцу, Мстислав заботился о продолжении летописания и сам был, повидимому, незаурядным писателем.114 Летописание Мстислава имело огромное значение для всего последующего развития летописного дела на Руси. Выполненный по его указанию и при его участии летописный свод (так называемая 3-я редакция «Повести временных лет») лег в начало летописания Новгорода, где одно время княжил Мстислав, затем в начало княжеского летописания Переяславля Южного, где также княжил Мстислав, и наконец — Киева, куда Мстислав перешел княжить после смерти отца. Из Переяславля Южного «Повесть временных лет» в 3-й редакции (редакции Мстислава) передалась на северо-восток — во Владимирско-Суздальскую землю. Три отростка когда-то единого ствола общерусского летописания — новгородский, переяславский и киевский — стали наиболее мощными ветвями, которые в первой четверти XII в. дало летописание мономаховичей. Вслед затем летописание дробится более и более, многочисленными побегами охватывая все наиболее значительные княжества Руси. Князья стремятся обзаводиться личными и семейными летописями. Их имели Ольговичи черниговские (Святослав и его сын Игорь Святославич, герой «Слова о полку Игореве»), Мономаховичи переяславские (особенно известен летописец Владимира Глебовича), Ростиславичи смоленские, князья владимирские и ростовские. Новые формы летописания и исторического повествования, которые с такою интенсивностью развиваются в XII в., выросли из непосредственных потребностей самой русской жизни, из тех явлений, которые имели место на русской почве еще до принятия ею христианской цивилизации Византии. Византийская историческая литература не знала семейных и родовых летописцев. Это — явление чисто русское; оно должно быть поставлено в связь с теми устными родовыми преданиями, существование которых мы предполагаем на основании некоторых фрагментов их в летописи. Летописание на Руси становится жизненной необходимостью, бытовым явлением. Князья заинтересованы в нем как в политическом документе своих прав и притязаний и решительно озабочены своевременным ведением летописных записей. Однако не одни князья и монастыри ведут свои летописи. Рядом с личным и родовым летописанием князей начинает развиваться летописание городское. Изгнание в 1136 г. новгородского князя Всеволода, внука Владимира Мономаха, восставшим ремесленным и сельским населением грозит прекращением княжеского летописания мономаховичей в Новгороде. Поэтому новое новгородское правительство с Нифонтом во главе берет летописание в свои руки. В 1136 г. по приказу Нифонта доместик новгородского Антониева монастыря Кирик составляет работу по хронологии, подсобного для ведения летописи характера, — «Учение, им же ведати числа всех лет» — и в том же 1136 г. принимает участие в широко задуманном пересмотре всего предшествующего княжеского летописания Новгорода. Летопись мономаховичей (с «Повестью временных лет») отбрасывается из начала новгородского летописания и заменяется резко антикняжеским Киево-Печерским сводом 1093 г. Составляется тот «Софийский временник», который затем продолжается в Новгороде до самого его присоединения к Москве. «Софийский временник» открывался предисловием, полным горьких упреков князьям в «ненасытстве», в алчности, в притеснении людей вирами и «продажами», налогами и поборами. Упреки эти были как нельзя более своевременны в Новгороде в середине XII в., когда одни за другими отбираются у новгородского князя его доходы, урезываются права, конфискуются земли. Можно думать, что такие же городские летописи велись и по другим областям: в Полоцке, в Ростове, в Галицко-Волынской области. Дробление летописания на этом не остановилось. Насколько распространенным было ведение летописей в XII в., показывает наличие в течение двух столетий (XII и XIII) интенсивного летописания при незначительной новгородской церкви Якова в Неревском конце, воздвигнутой на месте победы новгородцев над полоцким князем Всеславом, происшедшей в день Якова, «брата Господня». Первый летописец этой церкви — Герман Воята — ведет свою летопись в 40-х—80-х годах XII в. почти, как личный дневник. Часто он делает свои записи от первого лица; во многих из них он проявляет интересы городского обывателя, сообщающего городские слухи (Новгородская летопись по Синодальному списку, 1138), сведения о погоде (1145), об уличных происшествиях, о сене, о дровах, об урожае, о состоянии воды в Волхове (1145), о поломках и починках моста через Волхов (1142, 1143), о раннем громе (1138), о поздно стоящей дождливой погоде (1143), наконец, о собственном поставлении в попы (1144) и т. д. Летопись Германа Вояты наглядно свидетельствует, насколько развитым и распространенным было в XII в. ведение летописей, насколько сильным и всеобщим было в XII и XIII вв. стремление к историческому осмыслению событий. Летописание, которое в XI в. в основном держалось мощной поддержкой Киевской митрополии или Киево-печерского монастыря, отражало традиции византийской императорской историографии, отныне становится достоянием княжеских семей, городских церквей, превращается в повседневное бытовое явление. В XII в. широкой струей вливается в язык летописи и исторического повествования дипломатическая, деловая, военная терминология и бытовое просторечие. В новгородскую летопись проникают местные диалектизмы, разговорные обороты с пропуском сказуемого или подлежащего, в ней почти отсутствуют книжные, церковно-славянские обороты речи. Записи Германа Вояты в составленной им летописи ведутся запросто, с употреблением чисто просторечных выражений: «бысть гром велий, яко слышахом чисто в истьбе седяще» (Новгородская летопись по Синодальному списку, 1138), «стояста 2 недели пълне, яко искря жгуце, тепле вельми, переже жатвы; потом найде дъжгь, яко не видехом ясна дни ни до зимы; и много бы уйме жит и сена не уделаша; а вода бы больши третьего лета на ту осень; а на зиму не бысть снега велика, ни ясна дни, и до марта» (1145). Летописец сообщает, как посадника Якуна сбросили с Волховского моста, «обнаживъше, яко мати родила» (1141), в просторечной манере говорит о граде, выпавшем величиной «яблъков боле» (1157) и т. д. и т. п. Грандиозное по исполнению отдельных сводов в XI в., летописание в XII в. становится не менее грандиозным по широте своего распространения, по многочисленности отдельных сводов, по глубине проникновения в народную жизнь. Однако потребность в историческом осмыслении происходящего не ограничивается в XII в. только составлением многочисленных летописцев и летописных сводов. Те же потребности вызывают появление в XII в. обширной и разнообразной литературы повестей о междукняжеских отношениях. В повестях этих рассказывается о наиболее важных моментах княжеских распрей, нарушениях крестных целований, братоубийственных войнах, ослеплениях, политических убийствах и т. д. Авторы этих повестей ставили себе целью доказать правоту одних и виновность других. Знаменательно то, что при том же Владимире Мономахе, со времени которого начинает развиваться родовое и личное летописание князей, составляется и первая повесть этого типа, повесть попа Василия об ослеплении Василька Теребовльского. Затем следует многочисленный ряд повестей с аналогичным содержанием: повести об убиении Игоря Ольговича, послужившем поводом для распри Святослава Ольговича черниговского и Изяслава Мстиславича киевского, повесть киевлянина Кузмища об убиении Андрея Боголюбского, повесть боярина Петра Бориславича о клятвонарушениях и смерти Владимира галицкого и ряд других. Повести эти пространные, изящно написанные, насыщенные бытовыми подробностями, дышащие азартом междукняжеской борьбы своего времени, составлялись обычно непосредственными участниками событий, чаще всего послами (поп Василий, Петр Бориславич, киевлянин Кузмище); они наполнены драматическими подробностями, точно передают содержание переговоров, речи князей и послов, насыщены дипломатической терминологией своего времени. Повестей этих особенно много в летописях Киевской, Галицкой и Волынской, благодаря чему вместивший все эти летописи Ипатьевский список кажется особенно пространным и литературным. Жанр исторических повестей о междукняжеских отношениях также возник из потребностей русской жизни и получил самобытные черты своего внешнего выражения. Повести эти резко разрушают византийские средневековые литературные каноны, обнаруживая поразительную свежесть восприятия, свидетельствующую о своеобразных реалистических тенденциях в русской литературе XII в. Поразительна своими реалистическими тенденциями повесть Петра Бориславича — связный литературно-развитой рассказ, имеющий своей целью убедить читателей в правоте киевского князя Изяслава Мстиславича, описать с точки зрения сторонника Изяслава историю борьбы Киевского и Галицкого княжеств. Подробное описание смерти разбитого параличом Владимирка составляет эффектную развязку, доказывающую правоту Изяслава. В повести детально фиксированы речи при переговорах, насмешки «многоглаголивого» Владимирка, возражения Петра, точно отмечено время, в которое совершались те или иные события (к вечеру, до обеда, к ночи, до кур и т. д.), точно сказано, где происходили события (на сенях, на переходах, на степени, во дворе и т. д.), отмечены одежды действующих лиц (клобуки, мятли), описаны переживания самого Петра Бориславича (его обиды, тревоги, недоумения). Замечательно, что во всех этих повестях о междукняжеских отношениях продолжает жить представление о Русской земле, как о целом. Эта идея живет и в сознании враждующих князей, стремящихся оправдать свои притязания доводами защиты попранных прав и старых установлений и необходимостью восстановления утраченного единства Русской земли. Таким образом, исторические жанры — летопись и повести о междукняжеских отношениях — с необычайной интенсивностью распространяются по всей Русской земле. Они становятся явлениями русской жизни, развиваются параллельно распространению книжности вообще. Несомненно, что обильные культурные всходы XII в… были выражением постепенного углубления процесса феодализации, роста производительных сил страны, а вместе с тем роста народной культуры и потребностей в историческом осмыслении событий. >2 То же проникновение народных, местных начал отчетливо сказывается и в искусстве периода феодальной раздробленности Руси. Чрезвычайное развитие городов, ремесел, появление многочисленных артелей строителей, живописцев приводит к проникновению в высокое искусство Руси местных традиций, вкусов непосредственных исполнителей, вносивших в свои произведения черты народного искусства. Княжение Владимира Мономаха стоит на переломе двух эпох не только в области литературы, но также и в области зодчества. C одной стороны, княжение Владимира Мономаха завершает собою период монументальных и обширных сооружений, которыми был богат XI в., с другой — оно начинает собою длинный ряд сооружений XII — начала XIII вв., в которых с нарастающей силой проявляются местные народные вкусы. Как указывает проф. Н. Н. Воронин, при Владимире Мономахе народные формы архитектуры заявляют о себе в строительстве Владимира Мономаха в Вышгороде, где новые строительные приемы оформляют созданный на Руси культ первых русских святых Бориса и Глеба. При Владимире Мономахе же Новгород создает первых замечательных русских зодчих, построивших в начале XII в. такие грандиозные, поражающие своей монументальностью, лаконичностью форм и прочно найденными пропорциями сооружения, как Николо-Дворищенский собор (1113), собор Антониева монастыря (1116) и Георгиевская церковь в Юрьевом монастыре (1119), — из этих зодчих известен мастер Петр. Асимметричное трехглавое здание Георгиевской церкви Юрьева монастыря с ритмично вытянутыми в высоту мощными стенами является одним из лучших произведений русской архитектуры XII в., далеко отошедшей в Новгороде от византийских прототипов. Из Новгорода уже очень рано начинают выписывать мастеров, в частности для строительства в далеком Киеве стен Выдубицкого монастыря и др. (Коров Яковлевич, посадник Милонег). Особенно заметным это проникновение местных народных начал в искусство Новгорода становится с середины XII в., когда городские организации уличан, концов и сотни начинают играть значительную роль в новгородском государстве. Чрезвычайно существенным для всего новгородского культурного развития представляется то, что улицы и концы выступают с половины XII в. в качестве инициаторов различных культурных предприятий: в 1165 г. «шестициници», т. е. уличане Шестичинской улицы, ставят церковь «святые троицы»;115 в 1185 г. «лукиници», т. е, жители Лукиной улицы, ставят церковь Петра и Павла на Синичьей горе («Сильнищи»)116 и т. д. Организации уличан принимают активное участие в развитии книжности и в переписывании рукописей. Так, например, Пролог 1390 г. имеет следующую запись: «написаны быша книгы сия, глаголемые пролог, ко св. чудотворцома Козьмы и Дамьяну… повелением… всех бояр и всей улицы Кузмодемьяне». Создаются и новые формы осуществления общественных предприятий. Начиная с середины XII в. в Новгороде все более или менее крупные предприятия осуществляются «дружинами» — артелями. Эти «дружины» существуют, прежде всего, при дворе новгородского епископа и населяют его «слободы» в окрестностях города и поблизости Детинца (новгородского кремля). Члены этих «дружин» носят название «владычных паробков» или «владычных ребят». «Паробки» и «ребята» переписывают священные книги, составляют артели строителей и расписывают церкви. Характерно, что замечательный памятник русского искусства XII в. — церковь Нередицы — расписывало не меньше 10 мастеров одновременно. В связи с этим заметно иные, более «демократические» формы приобретает и живопись и в особенности новгородская архитектура XII в. Новгородское строительство второй половины XII в. вырабатывает новый тип четырехстолпного, квадратного в плане, укороченного храма, более упрощенного типа и меньших размеров, сравнительно с грандиозными княжескими соборами предшествующей поры. В отличие от церквей княжеской постройки с резким разделением молящихся на привилегированных, «избранных», и остальную массу молящихся, новые церкви не разделяют молящихся на категории. Князья строили церкви с обширными, сильно освещенными каменными хорами, на которых слушали богослужение княжеская семья и приближенные. Новые же, возводимые со второй половины XII в. церкви имеют скромные деревянные хоры служебного значения. Сокращение размеров вновь воздвигаемых храмов отнюдь нельзя рассматривать, как упадок зодчества: княжеские постройки предшествующей поры сравнительно редки, церквей же нового типа воздвигается огромное количество. Новгород, который в начале XII в. имеет всего 5–6 каменных храмов, правда грандиозных по размерам, из которых храм Софии остался непревзойденным но величине во всё последующее время, в середине XII в. обрастает многочисленными каменными церквами, организующими его своеобразный архитектурный облик. Еще более самобытными чертами отличаются постройки Пскова (собор Спасо-Мирожского монастыря и др.). Аналогичные процессы в области архитектуры происходят в XII в. в Киеве, Чернигове, Полоцке и др. В Смоленске в конце XII в. кн. Давид строит церковь Михаила Архангела, отличавшуюся резко своеобразными, народными приемами своей архитектуры. Огромное значение для живописи в XII в. имело вытеснение дорого стоившей мозаики широко развившейся фресковой живописью, со сравнительно свободной техникой, более дешевой, резче мозаики способной отразить индивидуальную манеру исполнителей. Стиль тех фресок новгородской Нередицы (1199), которые были выполнены русскими мастерами, свидетельствует о народных вкусах их исполнителей. Таковы в особенности бытовые подробности в композиции Крещения (фигуры сбрасывающего рубашку и плывущего в Иордане) и изображение Страшного Суда на западной стороне церкви. Народные начала сказываются и в стиле рисунков на страницах рукописей XII в. Черты быта проникают в псковские и новгородские рукописи XII в. (изображения гусляров, пешехода с корзиной, отдыхающего земледельца и проч.). Проникновение местных народных начал в искусство XII в. не означало, однако, создания какого-то единого нового народного стиля. Каждая из областей, каждый город имеет свои характерные и неповторимые черты культурного развития, свои местные, областные черты искусства, местные литературные манеры. Такими резко своеобразными чертами обладают искусство и литература Галицко-Вольшского, Владимиро-Суздальского, Киевского, Новгородского, Полоцко-Смоленского и других княжеств. Культура второй половины XII и начала XIII вв. дробится между множеством областей и обилием в них противоречивых тенденций. Киев, Владимир, Новгород, Смоленск, Туров, Галич, Владимир-Волынский — каждый из этих городов, составляет самостоятельный культурный центр. Рафинированная городская культура предшествующей поры подвергается в них всюду различному воздействию народной стихии. Широкое проникновение народных, демократических начал в книжность, в архитектуру, в живопись XII — начала XIII вв., так же как и рост вечевых собраний с конца XI в., говорит о том, что широкие массы населения все более осознают свое значение в общей жизни страны. Отсутствие в середине XII в. единого общерусского летописания и таких значительных исторических произведений, как «Повесть временных лет», отнюдь не свидетельствует еще об упадке в XII в. исторического и народного самосознания. >3 Местные, областные тенденции развиваются в XII в. параллельно росту объединительных стремлений русского парода. И центробежные и центростремительные силы, одновременно действуя, одновременно же способствуют развитию культуры русского народа. В XI в. киевские летописные своды стремились к ясному изображению единого развития Русского государства. «Откуда есть пошла Русская земля», такую задачу ставил себе не только составитель «Повести временных лет», но и предшествующие ему киевские летописцы. Эта идея единства Русского государства оплодотворяла собою литературу, архитектуру, живопись. Эта идея единства Руси, с такою настойчивостью проведенная во всех киевских сводах XI — начала XII вв., была искусно подкреплена летописцами оригинальной теорией единства княжеского рода. Именно в этих целях составитель летописи внес в нее легенду о призвании родоначальников «рюриковичей», трех братьев-варягов, подчинив этой легенде всё изложение истории Руси.117 Именно в этих целях летописец стремился доказать, что междукняжеские войны — братоубийственны, что все русские князья «одного деда внуки». Это летописное доказательство единства Руси, как единства княжеского рода, претерпело жестокое поражение в междукняжеских распрях XII в. Вот почему идея единства Русской земли в этой своей форме почти исчезает из летописей середины XII в. Однако распри князей не уничтожили в народе Стремления к единению. Распалась лишь излюбленная летописная идея о единстве княжеского рода, как о предпосылке и основе единства русской государственности. Именно этой идее был нанесен жестокий удар междоусобной борьбой князей. Уже к 70-м — 80-м годам XII в. относятся попытки нового подъема в литературе идеи единства Руси, на этот раз на иной, более глубокой основе. Предпосылкой этого нового подъема явилась половецкая опасность, тяжелой тучей нависшая над Русью во второй половине XII в. С 70-х годов XII в. начинается «рать без перерыва». Натиск половцев разбивается об ответные наступательные походы русских князей. Однако после ряда поражений половцы объединяются под властью хана Кончака. Половецкие войска получают великолепную организацию и хорошее вооружение. В их армии появляются и катапульты, и баллисты, и «греческий» («живой») огонь, огромные передвигавшиеся «на возу высоком» луки-«самострелы», тетиву которых натягивало более 50 человек. Под влиянием усилившихся в 70-х и 80-х годах XII в. набегов половцев идея необходимости объединения вспыхнула с новой силой. Идеи единения находили себе дорогу к реальной политической жизни, несмотря на утрату единства экономических интересов, поддерживавших в XI в. объединительную политику Киева, несмотря на то, что углубление процесса феодализации привело к общей децентрализации когда-то единого Киевского государства. В 80-х годах XII в. встает мираж объединения перед окончательным распадением Руси на ряд отдельных земель-княжеств, связь которых в единое целое фактически уже не могла осуществиться. На юге Руси состоялось соглашение Ростиславичей и Ольговичей. Святослав Ольгович, отец героя «Слова о полку Игореве», «получает „старейшинство и Киев“ и 13 лет сидит на Киевском столе в почетной роли слабосильного патриарха».118 Совершается и ряд других попыток примирения отдельных враждующих групп. В 1134 г. объединенными усилиями русских князей половцы были разбиты. Захвачены были «военные машины», отбиты пленные, попал в плен сам хан Кобяк и «басурменин», стрелявший «живым» огнем. Эти объединительные тенденции перед лицом нависшей половецкой опасности не замедлили отразиться в летописи. Именно в 80-х годах XII в. летописание Владимира Залесского привлекает в свой состав известия летописей Переяславля Южного, стремясь расширить рамки своего летописания и превратить его в летописание общерусское.119 Именно в 70-х—80-х годах новгородское летописание делает попытки выйти из узких пределов только новгородского летописания и использует какую-то киевскую летопись, стремясь охватить и события Южной Руси.120 Аналогичным образом внимательный анализ Ипатьевского списка выясняет чрезвычайно значительную попытку создания в 90-х годах XII в. общерусского летописного свода в Чернигове при дворе черниговского князя Игоря Святославича — героя «Слова о полку Игореве».121 В основу этого летописания кладется родовой летописец Святослава Ольговича черниговского и его сына Игоря Святославича. Этот летописец дополняется летописцем черниговского епископа. Поход Игоря Святославича на половцев (1185), в котором участвовали войска Владимира Глебовича переяславского, исконного врага черниговских князей, создает почву для привлечения к летописанию Ольговичей богатого летописания Переяславля Южного, широко охватившего события южнорусской жизни. Известия этого летописания Переяславля Южного и сейчас читаются в составе Ипатьевского списка в сильной черниговской переработке. К черниговскому летописанию привлекается и киевское, также подвергшееся в Чернигове основательной переработке в духе примирения двух враждующих групп — Ольговичей и Мономаховичей. Идейное обоснование необходимости этого примирения составляет замечательную особенность черниговского летописания 80-х—90-х годов. Именно ради этого в Черниговский свод была включена переяславская версия повести об убийстве в Киеве Игоря Ольговича, чья кровь, павшая на киевского князя, мешала примирению двух основных враждующих княжеских группировок: Мономаховичей и черниговских Ольговичей. Эта переяславская повесть об убиении Игоря Ольговича, составленная при дворе переяславского епископа Евфимия, заинтересованного в примирении Изяслава Мстиславича и Святослава Ольговича, стремилась изобразить убийство Игоря Ольговича как несчастный случай, как дело рук киевской толпы, совершившей его в разрез с желаниями Изяслава. Как рассказывает повествователь, брат Изяслава — Владимир — собственным телом прикрыл Игоря Ольговича, принимая на себя удары убийц. Сам Изяслав безутешно плачет по Игоре; дружина утешает его и свидетельствует его очевидную непричастность к преступлению. Таким образом, создание в Чернигове общерусского свода идет под знаком примирения междоусобных войн. Узкое летописание черниговских князей прерывает свой тип родового летописца и пытается вернуться на широкую дорогу общерусского летописания. Но не только в летописании делаются серьезные попытки отражения общерусских интересов: меняется и самый тип исторических повестей. Эти исторические повести, как это мы видели выше, имели с конца XI в. своими сюжетами, главным образом, междукняжеские отношения, раздоры князей между собой. В 80-х годах делается первый значительный опыт создания самостоятельной исторической повести о борьбе русских князей с внешним врагом. Знаменательно, что эта попытка делается одновременно в двух враждебных лагерях и имеет своей общей темой поход (1185) Игоря Святославича новгород-северского. Составившаяся первоначально на юге — в Переяславле Южном, историческая повесть о походе Игоря Святославича сделалась известной во Владимире и в Чернигове. В Чернигове составляется самостоятельная повесть о событиях похода, несчастных для русских; она замечательна опять-таки тою же примирительной тенденцией, которой придерживается и черниговская летопись. Автор этой повести вкладывает в уста Игоря Святославича покаянный счет своих княжеских преступлений, знаменующий собою необычайно смелый в тех условиях отказ от предшествующей политики черниговских князей. В этом покаянном счете главное место занимает раскаяние Игоря Святославича в разорении переяславского города Глебля, до крайности ожесточившем вражду переяславских и черниговских князей: «помянух аз грехы своя перед господом богом моим, яко много убийство, кровопролитие створих в земле крестьяньстей, яко же бо аз не пощадех хрестъян, но взях на щит город Глебов у Переяславля; тогда бо не мало зло подьяша безвиньнии хрестьани, отлучаеми отець от рожений своих, брат от брата, друг от друга своего, и жены от подружий своих, и дщери от материй своих, и подруга от подругы своея, и все смятено пленом и скорбью тогда бывшею, живии мертвым завидять, а мертвии радовахуся, аки мученици святеи огнем от жизни сея искушение приемши… и та вся сотворив аз, рече Игорь…».122 Здесь же в Чернигове в 1174–1175 гг. создается, посвященное памяти князей, братьев Бориса и Глеба, «Слово о князьях», резко обличавшее братоубийственные междоусобия своего времени. Таким образом, в последней четверти XII в. с разных сторон, а по преимуществу в черниговском летописании и в черниговской школе книжников делаются попытки примирения княжеских распрей, попытки создания общерусского летописания и нового типа исторической повести о борьбе с внешним врагом. Естественно, однако, что старые жанры не могли в полной мере отвечать новым задачам, которые ставились историческому повествованию в 80-х годах XII в. В этих условиях становится понятным создание в 80-х годах XII в. такого значительного произведения древнерусской литературы, как «Слово о полку Игореве». Нам понятно теперь, почему именно в конце XII в. с такой силой проявились в русской литературе великая идея родины, чувство родины, народный патриотизм. По-своему грандиозная летописная идея единства Руси, как единства княжеского рода, отмерла, но идея единства Руси, основанная на глубоком чувстве любви к родине, продолжала жить. Идея эта потребовала для своего выражения создания нового жанра поэтической повести, в которой с поразительной силой сказались народные основы патриотизма, опирающегося на живое чувство любви к родине, как к живому существу. Литература XI — начала XII вв. в произведениях Илариона, Нестора, Мономаха, в летописи и в житиях создала торжественный и героический образ Русской земли — обширной, могущественной и славной в иных странах. Но во второй половине XI в. это чувство гордости за свою родину окрашивается тонами лирической скорби о ее страданиях. Лирический образ родины, ощущение ее как живого и страдающего существа особенно остро проявилось в гениальном произведении XII в. — «Слове о полку Игореве», этом наивысшем выражении ведущих тенденций культурного развития Руси второй половины XII в. «Слово о полку Игореве» — песнь о всей Русской земле в целом. Лирический образ ее воссоздан в «Слове» с изумительной силой чувства. Небольшое по объему (2875 слов, не многим более ¼ печатного листа) «Слово» чрезвычайно обширно по своей теме. В зачине к «Слову» автор говорит, что он собирается вести свое повествование «от старого Владимира (Мономаха) до нынешнего Игоря». Излагая историю несчастного похода на половцев князя Игоря, автор охватывает события русской жизни за полтора столетия и ведет свое повествование, «свивая славы оба полы сего времени», — постоянно обращаясь от современности к истории, сопоставляя прошлые времена с — настоящим. Автор вспоминает века Трояновы, годы Ярославовы, походы Олеговы, времена старого Владимира (Мономаха). В своеобразной перекличке, которую устраивает автор русским князьям участвуют и его современники и их предшественники. Широкому хронологическому охвату повести соответствует и широта ее территориального охвата. Едва ли в мировой литературе есть произведение, в котором были бы одновременно втянуты в действие такие огромные географические пространства. Половецкая степь («страна незнаема»), Дон, Черное и Азовское моря, Волга, Рось и Оула, Днепр, Донец, Дунай, Западная Двина, Стугна, Немига, а из городов — Корсунь, Тмутаракань, Киев, Полоцк, Чернигов, Курск, Переяславль, Белгород, Новгород, Галич, Путивль, Римов и др., — вся Русская земля находится в поле зрения автора, введена в круг его повествования. При этом автор «Слова» не выключает Русскую землю из среды окружающих ее народов, заставляя прислушиваться к происходящим в ней событиям немцев и венецианцев, греков и моравов, а литву, финнов, половцев, ятвягов и деремелу (литовское племя) втягивает непосредственно в ход русской истории. Подобно Ярославу галицкому, прозванному за свой политический ум Осмомыслом, престол которого господствует над Венгрией и Киевом, откуда он обозревает происходящее, автор «Слова» видит Русь как бы с идеальной высоты. Огромность Русской земли подчеркивается одновременностью действия в разных ее частях: «девицы поют на Дунае, вьются голоса через море до Киева»; «трубы трубят в Новегороде, стоят стяги в Путивле»; «кони ржут за Сулою, звенит слава в Киеве» и т. д. Таким же, как у него самого, обостренным слухом и зрением, способным прозревать пространство, наделяет автор и своих героев: когда Всеславу в Полоцке позвонят к заутрене рано у святой Софии в колокола, он в Киеве уже звон слышал, а когда князь Олег Уступал в золотое стремя в городе Тмутаракане, тот звон слышал давнишний великий Ярославов сын Всеволод, а Владимир (Мономах) всякое утро уши себе закладывал в Чернигове. Широкое пространство действия объединяется гиперболической быстротой передвижения в ней действующих лиц. В обширных пространствах Руси сами герои «Слова» приобретают гиперболические размеры: Владимира Мономаха нельзя было пригвоздить к горам киевским; галицкий Ярослав подпер горы угорские своими железными полками, загородив королю путь, затворив Дунаю ворота. Такою же грандиозностью и острым ощущением родины, как единого большого и живого существа, отличается и пейзаж? «Слова», всегда тем не менее конкретный и взятый как бы в движении: перед битвой с половцами кровавые зори свет поведают, черные туча с моря идут… быть грому великому, итти дождю стрелами с Дону великого… Ветер, солнце, грозовые тучи, в которых трепещут синие молнии, утренний туман, дождевые облака, щекот соловьиный по ночам и галочий крикутром, вечерние зори и утренние восходы, море, овраги, реки составляют титанический фон, на котором развертывается действие «Слова». В радостях и печалях русского народа принимает участие вся русская природа. Понятие родины — Русской земли — объединяет для автора ее историю, «страны» (т. е. сельские местности), города, реки и всю природу. Солнце тьмою заслоняет путь князю — предупреждает его об опасности; Див вопит на вершине дерева, велит послушать земле незнаемой — половецкой степи, морю (Сурожу), Волге, Приморью, Посулью, Корсуни и Тмутараканскому болвану на Керченском полуострове; Донец стелет бегущему из плена Игорю постель на зеленом берегу, одевает его теплым туманом, сторожит чайками и дикими утками. Чем шире охватывает автор Русскую землю, тем конкретнее и жизненнее становится ее образ, в котором оживают реки, вступающие в беседу с Игорем, наделяются человеческим разумом звери и птицы, принимают участие в судьбе Русской земли даже стены городов, унывающие при поражении русского войска. По точному определению академика А. С. Орлова, героем «Слова» является не какой-нибудь из князей, а вся «Русская земля, добытая и устроенная трудом великим всего русского» народа».123 Таким образом, «Слово о полку Игореве» — это поэма о всей Русской земле, образ которой, ее природа и история очерчены автором широкою и свободною рукою. Новое ощущение родины как грандиозного живого существа, как совокупности всей русской истории, культуры и природы, с такой силой сказавшееся в «Слове», несомненно обязано той народной стихии, которая определила во многом и самую художественную форму «Слова о полку Игореве» — народную и фольклорную. Замечательно, что именно в этом живом чувстве родины находит себе опору «призыв русских князей к единению»,124 составляющий основную задачу и основной смысл поэмы. Этот широкий образ Русской земли пронизывает русскую литературу на всем протяжении ее развития. Теми же широкими приемами, что и в «Слове о полку Игореве», описана в «Слове о погибели Русскые земли» XIII в. «светло-светлая и украсно украшена земля Руськая», изобилующая озерами многочисленными, реками и колодцами местнопочитаемыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами чистыми, полями дивными, зверями различными, птицами бесчисленными, городами великими, селами дивными, садами монастырскими, домами церковными, грозными князьями, честными боярами и вельможами многими. Тот же широкий образ «светлой» Руси повторяется в житии Александра Невского, в поздних летописях и историческом повествовании, вплоть до XVII в., приобретя традиционные черты. В последние годы в работах: некоторых реакционных западноевропейских ученых неоднократно повторялось утверждение, что «Слово о полку Игореве» ничем не связано с общей культурой и идейной жизнью Руси XII в., что возникновение его в 80-х годах XII в. случайно и ничем необусловлено. Утверждение это основано на невежественных представлениях о русской идейной жизни XII в. На самом деле «Слово о полку Игореве» создано на богатой почве культуры Руси второй половины XII в. Оно тесно связано с ней и идейно и общим для всей культуры второй половины XII в. обращением к живительным народным началам. >4 Одной из своих тенденций «Слово о полку Игореве» имеет ближайшее отношение к Владимиро-Суздальской Руси. Идея необходимости единения перед лицом внешней опасности соединена в «Слове» с идеей сильной княжеской власти. Не бессилие русских князей отмечает «Слово», а их силу и могущество. Великий Всеволод суздальский так силен, что мог бы «Волгу веслы раскропити, а Дон шеломом выльяти». Будь он на юге, «была бы чага по ногате, а кощей по резани».125 Галицкий Ярослав Осмомысл «высоко» сидит «на своем златокованнем столе, подпер горы угорьскыи своими железными полкы», заступил пути королю венгерскому, затворил ворота к Дунаю, суды рядя до Дуная. Несчастие русского народа не в том, что Русская земля бессильна и князья в ней слабы. Беда Руси в том, что никто из русских сильных князей не слышит призыва загородить полю ворота своими острыми стрелами. Идея единства Руси неотторжима в «Слове о полку Игореве» от идеи сильной княжеской власти. Именно эта идея необходимости сильной княжеской власти дает реальную весомость идее необходимости единения. Эта идея сильной власти князя была особенно прочна на северо-востоке Руси во Владимиро-Суздальской области. Она нашла себе отчетливое выражение во всех сторонах культуры этой области. Спокойная и сильная архитектура владимиро-суздальских храмов, с их стенами, богато украшенными снаружи импозантными геральдическими изображениями львов, барсов, грифов, кентавров, всадников, святых и т. д., выражает идею силы и могущества их строителей. Та же идея отражена в летописи и литературных произведениях владимиро-суздальской Руси. Особенно характерно в этом отношении «Моление Даниила Заточника». Восхваляя князя Ярослава, Даниил заявляет себя сторонником сильной княжеской власти. Многочисленными афоризмами Даниил стремится обосновать необходимость неограниченной власти своего князя, подчеркивая ее «естественный», изначальный характер: «женам глава муж, а мужем князь, а князем Бог»; «орел-птица — царь над всеми птицами, а осетр — над рыбами, а лев — над зверями, а ты, княже, — над переяславцы. Лев рыкнет, кто не устрашится; а ты, княже, речеши, кто не убоится»; «гусли строятся персты, а град наш твоею [князя] державою» и т. д. В заключительной части своего «Моления» Даниил обращается к Богу с просьбой: «силу князю нашему укрепи», и повторяет слова митрополита Илариона, как бы непосредственно вводя нас в обстановку надвигающегося нашествия монголов: «Не дай же, господи, в полон земли нашей языком [народом], не знающим Бога, да не рекут иноплеменницы: где есть Бог их…». >5 Развитие русской культуры в XI — начале XIII вв. представляет собою непрерывный поступательный процесс, процесс, который, накануне татаро-монгольского нашествия достиг своего наивысшего уровня: в живописи — новгородские фрески, в архитектуре — владимиро-суздальское зодчество, в литературе — летописи и «Слово о полку Игореве». Проникновение в культуру высших классов общества народных начал делает вторую половину XII в. и начало XIII в. особенно значительными в истории русской культуры. Вопреки реакционным утверждениям некоторых немецких историков искусства о том, что русская культура до татаро-монгольского завоевания находилась на очень низком уровне развития, что росток византийской культуры, пересаженный на русскую почву, не развивался, а хирел, — вопреки этим утверждениям следует признать, что вся история русской культуры до татаро-монгольского завоевания свидетельствует о необычайной творческой силе русского народа, о ее все нарастающем поступательном движении. Только исключительно тяжелым гнетом татаро-монгольского ига может быть объяснена та задержка в культурном развитии Руси, которая наступила с середины XIII в. — с того самого времени, когда как-раз особенно интенсивным становится культурное развитие Европы, защищенной русской кровью от опустошительного урагана с Востока. Татаро-монгольское нашествие не «завершило собою естественного процесса постепенного упадка», наоборот, оно внешней силой, искусственно, катастрофически затормозило интенсивное развитие древнерусской культуры. Именно поэтому татаро-монгольское нашествие было воспринято на Руси, как космическая катастрофа, как вторжение потусторонних сил, как нечто невиданное и непонятное. «Явишася языци [народы], ихже никто же добре ясно не весть, — кто суть и отколе изидоша, и что язык их, и которого племени суть, и что вера их; и зовут я татары, а инии глаголют таурмени, а друзии печенези, ини глаголють ясно се суть, о них же Мефодий Патарский епископ свидетельствует… яко к скончанию времен явитися тем, яже загна Гедеон, и попленять всю землю от Востока до Ефранта и от Тигра до Понетьского [Черного] моря, кроме Ефиопья», — так выразил свои впечатления от первого появления татар на границах Руси автор летописной повести о Калкской битве. То же впечатление от татаро-монгольского завоевания, как от мировой катастрофы, скорбь и горе от гибели величайших культурных ценностей русского народа отразились в многочисленных литературных и летописных откликах на нашествие Батыя. «Величьство наше смирися, красота наша погыбе, богатство наше онем [т. е. врагам] в корысть бысть, труд наш погании наследоваша, земля наша иноплеменным в достояние бысть», — писал знаменитый русский проповедник середины XIII в. Серапион Владимирский. Недаром Серапиону Владимирскому приходили на память образы землетрясения; он говорит о том, что земля не терпит грехи людей. Бог, как дерево, трясет землю, и опадают листья. Катастрофические события второй четверти XIII в. действительно могут быть уподоблены землетрясению: многие города были разрушены до основания, лучшие произведения русского зодчества лежали в развалинах, земля была покрыта пеплом сожженных деревень. Однако дух русского народа не был уничтожен. Своеобразные «геологические» сбросы повели к обнажению в русской жизни многих задатков будущего, таившихся в глубине и вскрытых катастрофой под внешними наслоениями. В ослепительной чистоте заблестели идеи единства Руси, беззаветная любовь к родине, чувство родины, как реального, живого существа. «Слово о погибели Русскыя земли», светская повесть о мужестве Александра Невского, повести о рязанском разорении с остатками былины о Евпатии Коловрате, летописные повести о взятии Владимира, Киева и др. полны образами и идеями, предвещающими будущую идейную направленность литературы великой собирательницы Русской земли — Москвы. Самый тип великого русского князя этой поры — Александра Ярославича Невского, его военная и дипломатическая деятельность представляют собой как бы прототип будущих московских великих князей, властных и могущественных, сочетающих в себе таланты дипломатов и военачальников с глубоким знанием интересов русского народа в целом. Однако то, чего не смогла сделать татарская сабля в первый натиск на Русь Батыя, сделали долгие годы «томления» и «муки» татаро-монгольского ига; книжность угасала, зодчество почти оборвалось. Тем не менее в эти годы под навалившейся тяжестью иноземного ига продолжала теплиться жизнь. Русский народ сохранял интерес к своему прошлому, летописание продолжалось по городам. Русская культура, достигшая своего весеннего цветения накануне татаро-монгольского ига, придавленная копытами татарской конницы, сохраняла силы для будущего развития. Народные начала, вошедшие в нее накануне татаро-монгольского ига, заложили прочные основы для последующего образования национальных культур трех великих братских народов: русского, украинского и белорусского. >V ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ И ПОБЕДА НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ >Образованию Русского национального государства при Иване III предшествовала широчайшая идеологическая подготовка, своеобразное культурное возрождение русского народа; оно началось еще с 80-х годов XIV в., вслед за Куликовской битвой. Именно вслед за победой на Куликовом поле, явившейся перовым этапом свержения татаро-монгольского ига, возник тот подъем народного самосознания, который еще в конце XIV в., а особенно резко в первой половине XV в. привел к серьезному подъему творческих сил русского народа. >1 Ко второй половине XIV в. относится расцвет новгородской фресковой живописи. Наблюдение природы, которое внесли в свое искусство мозаичисты и — фрескисты Византии, а вслед за ними Чимабуэ, Джотто и Дуччио в Италии, естественный ландшафт, натуральные человеческие фигуры в сильном движении, элементы перспективы и светотени, появление сложных повествовательных сюжетов и попытки изобразить человеческие переживания— все это характерно для новгородских фресок второй половины XIV в. — для фресок церкви Спаса Преображения, Федора Стратилата, Болотова, Рождества на Кладбище, Михайло-Сковородского монастыря, Ковалева, То немногое, что мы знаем об искусстве Москвы второй половины XIV в., позволяет говорить об аналогичном подъеме в живописи и в этом городе. В Москве по-настоящему созрела национальная школа живописи, высшим представителем которой на рубеже XIV–XV вв. выступает гениальный русский художник Андрей Рублев. В 1405 г. А. Рублев известен уже как вполне зрелый сорокалетний мастер, расписывающий вместе со знаменитым Феофаном Греком и старцем Прохором из Городца кремлевский Благовещенский собор.126 Работы Рублева не стояли одиноко на рубеже XIV и XV вв. Многочисленные реставрации икон той поры, произведенные после Великой Октябрьской социалистической революции, и многочисленные новые находки икон конца XIV — начала XV вв. говорят о необычайно высоком уровне русской живописи того времени. Можно с несомненностью утверждать, что эпоха объединения русского народа вокруг Москвы была одновременно и эпохой высшего расцвета древнерусской живописи. Слава русских художников той поры была настолько велика, что их приглашали работать далеко за пределы родины. Особенно много остатков фресок древнерусских мастеров сохранилось в Польше, где в эпоху королей Ягелла и Казимира русские иконописцы работали в Кракове, в Святокрестецком монастыре на Лысой горе, в Люблине и Гнезне.127 Новгородские фрески частично сохранились в г. Висби на острове Готланде. Новгородских мастеров приглашали расписывать церкви Ганзейской колонии в Новгороде. Русские мастера ездили работать в Золотую Орду. С конца XIV в. значительное движение вперед наблюдается в русской письменности. Первые признаки зарождающегося индивидуализма отличают русскую книжность так же, как живопись конца XIV — начала XV вв. В противоположность безыменности большинства литературных произведений предшествующих веков, в конце XIV — начале XV вв. впервые появляется иное отношение к авторству. Авторы житий много говорят о себе, пишут обширные предисловия, в которых рассказывают о причинах, побудивших их приняться за перо, раскрывают свои намерения, пишут о своих личных отношениях к святым, что показалось бы в предшествующие века верхом греховного самовосхваления. Изложение проникается лиризмом и субъективизмом. Индивидуалистически настроенные писатели начала XV в. (Епифаний Премудрый, Пахомий Серб) относятся с видимым интересом к внутреннему миру своих героев. Впервые, хотя еще примитивно и схематично, толкуют писатели начала XV в. о психологических переживаниях действующих лиц своих произведений, о внутреннем религиозном развитии святых. Самые картины природы, интерес к которой постепенно растет, служат образцами для изображения душевного состояния святых. Характерная для эпохи зарождающегося гуманизма любовь к слову отразилась в русских житиях этого периода обилием длинных речей, многочисленностью риторических прикрас, так называемым «плетением словес», ритмической организацией речи, введением ассонансов, внутренних рифм, свидетельствующих о высоком литературном мастерстве русских авторов. Это высокое литературное мастерство в значительной мере поддерживалось живым культурным общением Руси с Византией и южнославянскими странами, особенно интенсивным с конца XIV в. Целый поток югославянских рукописей нахлынул на Русь во второй половине XIV в. Вместе с тем русские рукописи проникают в югославянокие страны, вызывая здесь подражания. Сербский монах Доментиан подражает «Слову» митрополита русского Илариона. Общение книжное увеличивалось непосредственным общением людским. На Русь приезжают болгарские и сербские книжники (Григорий Цамблак, Киприан, Пахомий Серб), а сами русские образуют целые колонии на Афоне и в Константинополе, занятые переписыванием книг, вмешиваются во внутреннюю жизнь и оказывают влияние на культуру югославянских стран. Русский боярин Иван на службе у болгар в правление царя Михаила с 3 тысячами конницы чуть было не овладел Константинополем.128 Насколько основательным было влияние русских книжников, живших на Афоне и в Константинополе, можно заключить хотя бы из того что Константин Костенчский в своем сочинении о правописании называет русский язык «красивейшими тончайшим», ставит его в образец другим славянским языкам и сообразует с ним свои правила орфографии. Русский язык оказывает существенное влияние на болгарский язык XIV в.129 Но самым важным явлением русской культуры конца XIV — начала XV вв. был возродившийся интерес к истории Русской земли. Вся русская культура конца XIV — начала XV вв. пронизана духом историзма, духом любви к славному прошлому своей родины. Как мы увидим ниже, темами русской истории увлечены не только русские книжники: к прошлому Руси обращаются и русская живопись и русская архитектура. Центральное место в этом возродившемся интересе к родной истории, ко временам русской независимости, к домонгольскому периоду русской истории принадлежит Москве. В конце XIV — начале XV вв. работа московских летописцев стала важнейшим государственным делом. Ведя политику собирания Русской земли в единое целое, Москва нуждалась в идеологическом обосновании своих действий, в реальном возрождении исконной летописной идеи о единстве Русской земли. Московские митрополиты и великие князья свозили в Москву различные областные летописи и широко пользовались ими в своем летописании. Московская летопись из узкой, областной становилась благодаря этому общерусской, приобретала общенародный характер и невиданный ранее размах. Эта работа московских летописцев, соединивших в самом конце XIV — начале XV вв. разрозненное летописание отдельных областей, значительно опережала реальный политический рост Москвы. Характер московского летописания, по выражению крупнейшего исследователя русских летописей академика А. А. Шахматова, «свидетельствует об общерусских интересах, о единстве земли русской в такую эпоху, когда эти понятия едва только возникали в политических мечтах московских правителей».130 В самом конце XIV в. в Москве был составлен первый большой летописный свод, названный «Летописцем великим русским». По одним предположениям (А. А. Шахматов), «Летописец» этот возник в 1396 г., по другим (М. Д. Приселков) — в 1389 г.131 Попытки выйти за пределы узко московских интересов еще очень слабо ощущаются в этом своде. Однако чрезвычайно серьезным новшеством, наложившим резкий отпечаток на всё последующее московское летописание, было то, что в начало этого свода была включена «Повесть временных лет». «Повесть временных лет» была тем произведением древнерусской исторической мысли времени Владимира Мономаха, которое живо хранило идейные традиции литературы домонгольской Руси, сознание единства княжеского рода и Русской земли. Отсюда московские летописцы могли заимствовать идею служения князя народу, свободную критику действий князей, идею обороны Русской земли от кочевников соединенными усилиями русских княжеств. Именно с момента включения «Повести временных лет» в качестве составной, вступительной части в московские летописи мы видим в них не безразличное к политическому смыслу происходящего наименование татар половцами, татарской степи — половецкой, и, наоборот, половцев и печенегов — татарами; очевидно, что «Повесть временных лет» не только переписывалась в это время, но и усиленно читалась, и события, изображенные в ней, применялись в определенном смысле к событиям современности. Призывы «Повести временных лет» к борьбе с половцами воспринимались как призывы к борьбе с татарами. И летописец не без умысла менял эти названия, сопоставляя тех и других как общих врагов русской независимости. Первый общерусский свод, по-настоящему поднявшийся над узкими местными интересами — тверскими, московскими, суздальско-нижегородскими, ростовскими, рязанскими, новгородскими — и осветивший русскую историю с точки зрения единства Русской земли, был составлен в Москве в 1408 г.132 Инициатива составления этого свода принадлежала митрополиту Киприану. Он превратил Москву в религиозный центр всей Руси и фактически подчинил московской митрополии церковные организации отдельных русских областей, в том числе и тех, которые входили еще в состав Литвы. В самые последние годы своей жизни Киприан собрал с различных концов Руси местные летописи, действуя в этом отношении через подчиненную ему церковную организацию. К своду были привлечены новгородская летопись, рязанская — княжеская, суздальская, тверская, некоторые местные московские летописи (например серпуховская) и предшествовавший московский «Летописец великий русский». Кроме того, в свод Киприана впервые были включены известия по истории Литвы, так как и в Литве находились русские земли, на которые претендовала Москва. Составленная таким образом летопись (окончание работы над нею относится уже ко времени после смерти Киприана) известна под названием Троицкой. Летопись эта сгорела во время московского пожара 1812 г., выдержки из нее сохранились в приложениях к «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина. Существенным моментом в Киприановской летописи явился ее учительный, публицистико-назидательный характер по отношению к московским великим князьям. Следующий за Киприановским сводом свод Фотия не только удержал, но и развил именно эту учительную по отношению к московскому великому князю тенденцию. Критическое отношение к московскому великому князю за недостаточно решительные, по мнению летописца, действия против Орды составляло отныне одну из самых «боевых» сторон московской летописи. Она ориентировалась на «Повесть временных лет», на возрожденные традиции киевского летописания. Свод Фотия отразил в своем составе всё летописное богатство древней Руси. Он соединил в себе в обширных извлечениях летописи тверскую, новгородскую, ростовскую, ярославскую нижегородскую и т. д. Эти местные летописи не были здесь обезличены: они сохранили, иногда в неизменном виде, местные симпатии и политические устремления. Свод Фотия стремится вести историческое повествование беспристрастно и объективно. Сглаживается изложение борьбы Москвы с соперничающими центрами, опускаются некоторые узко московские известия, сведения семейно-княжеского характера и т. д. Изъятию подверглись пренебрежительные выпады против новгородцев, тверичей, суздальцев. Такая переработка летописных известий, несомненно, была вызвана тем, что в своей борьбе с областными центробежными силами Москва стремилась опереться на местное демократическое население, была заинтересована в прекращении областной вражды и ощущала себя носительницей идеи единства Руси. Решительною новостью со времени «Повести временных лет» явилось использование в своде народных эпических преданий о богатырях Владимирова цикла и о гибели богатырей на Калке. В летописи рассказывалось о богатырском подвиге Демиана Куденевича, о Рагдае Удалом, который один выходил на триста воинов, об Александре Поповиче и слуге его Торопе. Упоминались и многие другие богатыри, как, например, Добрыня Рязанич Златой Пояс, Андриан Добрянкович Храбрый, Ян Усмошвец, одержавший победу над половцами вместе с Александром Поповичем, и др.133 Москва явно стремилась придать летописанию общенародный характер. Соединение в единую летопись разрозненных летописей множества разобщенных областей свидетельствует о вполне созревшей уже мысли о единстве Руси. Мысль эта сочеталась пока с бережным использованием местной литературы, местных, иногда демократических тенденций и не диктовала еще, как позднее, сурового сокращения и цензурования местных памятников. Наоборот, московская летопись в эти годы явно начинала занимать все более и более демократическую позицию, выдвигая роль горожан в защите Руси от кочевников. Иную трактовку получила, например, в новом своде повесть о Тохтамыше.134 В предшествующем летописном своде главная роль в защите Москвы от войск Тохтамыша принадлежит внуку Ольгерда Остею,135 заменившему ушедшего в Кострому великого князя Дмитрия Ивановича. Гибель этого литовца сломила, якобы, сопротивление Москвы. В новой редакции этой повести о Тохтамыше в своде Фотия с особенным вниманием рассказывается о московских купцах-гостях — «сурожанах» суконниках и др. Они названы поборниками земли Русской; против них, главным образом, направлена ненависть татар. Литовский князь Остей не выступает уже защитником Москвы от Тохтамыша, как в своде Киприана: сами горожане оберегают город. В повествование введен новый рассказ о подвиге суконника Адама, который, заметив с Фроловских (Спасских) ворот кремля важного татарского князя, попал ему из самострела прямо «в сердце его гневливое». Взять Москву Тохтамышу удалось лишь при помощи измены в русском стане и ложными, вероломными обещаниями. Демократический характер этой переделки несомненен. Версия эта носит следы фольклорного происхождения: былины знают горького пьяницу Василия Игнатьевича, который в Киеве со стены города поражает стрелами трех знатнейших татарских вельмож. Таким образом, идея единства Руси вошла в московские летописные своды вместе с демократическими тенденциями. Действия великого князя московского обсуждаются в них с точки зрения соответствия их задачам общенародной политики. В этом последнем отношении чрезвычайно показательна неясная по своему происхождению, возможно составленная в Твери, пространная и витиеватая повесть о походе на Москву татарского хана Эдигея (1408). Повесть резко заострена против политики московского великого князя, пригласившего к себе на помощь татар и приютившего «ляха» Свидригайло. Когда пограничные отряды Эдигея пришли, чтобы помочь русским против Витовта, «сгарци же сего не похвал шла, глаголюще: „Добра ли се будеть дума юных наших бояр, иже приведоша половець на помощь?“».136 Летописец осуждает князей, которые наводят на Русь половцев-татар. Но особенному осуждению подвергся в летописи великий князь Василий Дмитриевич за то, что отдал Свидригайлу, «ляху верою», кафедральный город митрополита всея Руси — Владимир. В повесть вставлена похвальная характеристика города Владимира как стола Русской земли, «мати градом» русским, города пречистой богоматери, в котором «князи велиции Русстии первоседание и стол земли Русскыя приемлють».137 Резкому осуждению подвергнуты в повести и нерешительные действия русских войск. По поводу оставления великим князем Москвы вставлена цитата из псалма, не оставляющая никаких сомнений в цели ее применения: «добро есть уповати на Господа, нежели уповати на князя».138 Замечательно, что, желая оправдать свою резкую критику действий князя, летописец под конец повести ссылается на «начального летословца Киевского», который «временна богатства земская не обинуяся показуеть», и на великого Селивестра (одного из редакторов «Повести временных лет»), «не украшая пишущего». Ссылается летописец и на первых властодержцев русских, повелевавших без гнева «вся добрая и недобрая прилучившаяся написовати»,139 Эта небольшая приписка к повести об Эдигее, полной укоров и обличений, лучше всего показывает, какого широкого взгляда держался московский летописец на свою работу, какая острота политического обличения влагалась им в летописные своды начала XV в., и каким авторитетом пользовалась «Повесть временных лет». Со времени ее написания работа исторической мысли еще не была так интенсивна, как в этот период. Никогда еще работе летописцев и историческим концепциям не придавалось такого исключительного значения — значения государственной важности. Общенародный господствующий характер обращения после Куликовской битвы (1380) к временам независимости, к Киеву, к «Повести временных лет», к Владимиру как к городу, овеянному воспоминаниями, связанными с эпохой независимости Руси, ярко выступает не только в книжности. Сопоставление летописной работы начала XV в. с тем, что происходило в это время в области живописи и архитектуры, ярче всего демонстрирует, какого грандиозного размаха достигли в начале XV в. восстановительные тенденции. Конец XIV — начало XV вв. могут рассматриваться как эпоха возрождения, связанного с особым интересом к родной истории и к памятникам прошлого. Резкий перелом в области московского искусства наступил именно в княжение Дмитрия Донского. Архитектурные формы постепенно обнаруживали стремление к внешнему блеску, к пышности и богатству, как бы отражающим общий подъем народного самосознания после первых побед над татарами. С княжения Дмитрия Донского впервые в русской истории началась реставрация памятников, связанных с воспоминаниями об эпохе независимости Руси. Очевидно, что именно в княжение Дмитрия Донского Успенский собор во Владимире (1158) капитально ремонтировался и стал княжеским собором. Реставрационные работы особенно усилились в начале XV в. В 1403 г. обновлялся собор 1152 г. в Переяславле Залесском. В 1408 г. знаменитый русский живописец Андрей Рублев восстановил по приказанию московского великого князя древнюю домонгольскую живопись Успенского собора во Владимире.140 Реставрационные работы над памятниками домонгольской поры велись в Ростове, в Твери, в Звенигороде и т. д. Полоса этих реставраций тянулась вплоть до Ивана III, когда итальянский зодчий Аристотель Фиораванти построил центральную святыню нового русского государства — Успенский собор московского кремля, по образцу владимирского Успенского собора 1158 г. Тот же интерес к произведениям домонгольского периода характеризует и русскую книжность. Составлялись новые и вновь редактировались старые переводы произведений, известных еще с XI–XII вв.; во множестве создавались новые исторические сказания и повести, главным образом касающиеся борьбы с татарами. В течение всего XV в. мы встречаем усиленное подражание литературным произведениям эпохи независимости. Это обращение во всех областях культурной жизни Руси конца XIV — начала XV вв. ко временам независимости вызвало к жизни оригинальную историческую теорию, символически противопоставившую начало и конец татаро-монгольского ига. Читая и перечитывая «Слово о полку Игореве», как перечитывались в конце XIV в. «Повесть временных лет», «Киево-Печерский патерик», «Сказания о рязанском разорении», подвергшиеся в это время существенным переделкам, древнерусский книжник усмотрел в событиях «Слова» начало татаро-монгольского ига. Немалую роль в этом имело самое отожествление половцев и татар, типичное для московских летописных сводов.141 Такой взгляд на «Слово о полку Игореве», как на произведение о начале татаро-монгольского ига, побудил вскоре же после Куликовской победы противопоставить ему произведение о конце татаро-монгольского ига. Таким своеобразным «ответом» на «Слово о полку Игореве» явилась «Задонщина». Автор «Задонщины» имел в виду не бессознательное использование художественных сокровищ величайшего произведения древней русской литературы — «Слова о полку Игореве», не простое подражание его стилю (как это обычно считается), а вполне сознательное сопоставление событий прошлого и настоящего, событий, изображенных в «Слове о полку Игореве», с событиями современной ему действительности. И те и другие символически противопоставлены в «Задонщине». Чтобы пояснить читателю эту идею, автор «Задонщины» предпослал ей предисловие, составленное в эпически-былинных тонах. На пиру у воеводы Микулы Васильевича великий князь Дмитрий Иванович обращается к «братии милой» с предложением пойти на юг, взойти на горы киевские, посмотреть на славный Днепр «и оттоле на восточную страну, жребий [удел] «Симов», от которого родились татары: «те бо на реце на Каяле одолеша род Афетов [русских], оттоле Русская земля сидит невесела, от Калатьския [Каяльская] рати до Мамаева побоища тугою и печалию покрышася, плачущися, чады своя поминаючи». «Снидемся, братия и друзи и сынове русские, составим слово к слову, возвеселим Русскую землю, возверзем печаль на восточную страну, в Симов жребий» [т. е. на татар], — приглашает автор «Задонщины» в начале своего произведения. Дальнейшее описание событий битвы на Дону имеет в виду именно это — «возвеселить Русскую землю», «ввергнуть печаль» на страну татар. В «Слове о полку Игореве» грозные предзнаменования сопровождают поход русских войск: волки сулят грозу по оврагом, орлы клёкотом зовут зверей на кости русских, лисицы лают на щиты русских. В «Задонщине» те же зловещие знамения сопутствуют походу татарского войска: грядущая гибель татар заставляет птиц летать под облака, часто граять воронов, говорить свою речь галок, клекотать орлов, грозно выть волков ж брехать лисиц. В «Слове» — «дети бесови [половцы] кликом поля перегородиша»; в «Задонщине» — «русские же сынове широкие поля кликом огородиша». В «Слове» — «чрьна земля под копыты» была посеяна костьми русских; в «Задонщине» — «черна земля под копыты костьми татарскими» была посеяна. В «Слове» — кости и кровь русских, посеянные на поле битвы, всходят «тугою» «по Русской земли»; в «Задонщине» — «уже бо восстона земля татарская, бедами и тугою покрыся». В «Слове» — «тоска разлияся по Русской земли»; в «Задонщине» — «уже по Русской земле простреся веселие и буйство». В «Слове» — «а погании с всех стран прихождаху с победами на землю Русскую»; в «Задонщине» же сказано о татарах: «уныша бо царей их веселие и похвала на Русскую землю ходити». В «Слове» — готские красные девы звенят русским золотом; в «Задонщине» — русские жены «восплескаша татарским златом». «Туга», разошедшаяся в «Слове» после поражения Игоря по всей Русской земле, сходит с нее в «Задонщине» после победы Дмитрия. То, что началось в «Слове», кончилось в «Задонщине». То, что в «Слове» обрушилось на Русскую землю, в «Задонщине» обратилось на ее врагов. Итак, начало того исторического периода, с которого Русская земля «сидит невесела», автор «Задонщины» относит к битве на Каяле, в которой были разбиты войска Игоря Севзрского. «Задонщина» повествует, следовательно, о конце этой эпохи «туги и печали», о начале которой повествует «Слово о полку Игореве». Отсюда преднамеренное противопоставление в «Задонщине» конца — началу, битвы на Дону — битве на Каяле, победы — поражению, и преднамеренное сопоставление Каялы с Калкой, половцев с татарами. Отсюда внешнее сходство произведений, проистекающее из исторических воззрений автора «Задонщины», типичных для своего времени. Обращение к стилю «Слова о полку Игореве» входит, следовательно, в самый замысел «Задонщины», как идеологическое освещение тех событий, начало которых автор «Задонщины» видел в битве на Каяле— Калке, а конец — в битве на Дону. Таким образом, стилистическая близость «Слова о полку Игореве» и «Задонщины» не является результатом творческого бессилия автора «Задонщины» — это вполне сознательный прием: на фоне стилистического единства «Слова» и «Задонщины» ярче и острее должно была казаться самое противопоставление двух событий — прошлого и настоящего. Куликовская битва рассматривается, следовательно, в «Задонщине» как реванш за поражение, понесенное войсками Игоря Святославича на реке Каяле, сознательно отожествляемой автором «Задонщины» с рекой Калкой, поражение русских на которой в 1224 г. явилось первым этапом завоевания Руси татарами. Эта идея реванша, как и самая идея обращения ко временам независимости Руси, сказавшаяся и в письменности, и в архитектуре, и в живописи, и в политике, имела глубоко народный характер. В этом убеждает русский былевой эпос, русские былины, где эти же идеи сказались в полной мере. Есть основание полагать, что сложение русского былевого эпоса в единый киевский цикл произошло не позднее середины XV в. Хотя главные сюжеты былинных песен о князе Владимире относятся еще к домонгольским временам (например сюжеты, связанные с Добрыней, исторически засвидетельствованные «Повестью временных лет»), однако присоединение к ним сказаний рязанских, тверских, муромских, ростовских не могло совершиться до объединения этих областей в единое государство. В то же время создание этого цикла явно не могло произойти и после присоединения Новгорода к Москве, так как новгородские былины составили особый цикл, вернее они не вошли ни в какой цикл: новгородские былины остались без того объединяющего лица, которое получили былины киевские, ростовские, рязанские, московские, сгруппировавшиеся вокруг «старого Владимира» «Красного Солнышка». Следовательно, сложение киевского цикла не могло произойти и позднее 1479 г. — года воссоединения Новгорода и Москвы. Косвенное указание на время расцвета русского былевого эпоса и создания киевского цикла былин дают московские летописные своды XV в., в которые были включены отражения различных былинных сюжетов. В частности, чрезвычайно показательны отражения в московских летописных сводах сюжетов, героем которых был ростовский богатырь Александр (Алёша) Попович. Первоначально Александр Попович, поскольку это выясняет анализ летописных сюжетов с его участием, — один из «храбров» Всеволода Большое Гнездо. Александр — житель Ростова, со смертью Всеволода он переходит на службу к его сыну Константину. Боевые подвиги Александра связаны с борьбой за наследство Всеволода между его сыновьями. Он — главный герой Липецкой битвы. Сказания о нем, сложившиеся до XIV в., тесно связывают его имя с урочищами Ростова. Эти сказания, повидимому, первоначально распространялись только в Ростово-Суздальской земле. С ослаблением центробежных областнических, узко местных тенденций в конце XIV — начале XV вв., с ростом сознания общерусского единства Александр Попович теряет черты местного ростовского герой и становится героем общерусским. Параллельно реальному политическому объединению русских земель создаются произведения, объединяющие русских богатырей, начинающих служить общерусским интересам. Создается сюжет об отъезде Александра Поповича из Ростова во главе других русских храбров, отказывающихся от служения местным князьям. Александр Попович и все русские князья приезжают в Киев — мать городов русских — и служат «единому» русскому князю Мстиславу Романовичу, а затем гибнут в Калкской битве. В летописном своде Фотия (1418 или 1423), в известии о смерти в битве на Калке Александра Поповича и «инех» 70 храбрых можно видеть древнейшее отражение в средневековой письменности эпического сюжета о гибели богатырей. Это один из древнейших этапов сложения былин в единый цикл, один из основных и первоначальных сюжетов, рисующих объединение богатырей (объединение, правда, перед лицом смерти, объединение в гибели за общерусское дело). Недовольство княжеской властью в конце XIV и начале XV вв. (эпоха усобиц) нашло отражение в летописи в резко отрицательном изображении киевского князя Мстислава Романовича (см. так называемый Тверской сборник). Однако рост политического значения княжеской власти в XIV и XV вв., выдающаяся роль московских великих князей в политическом объединении Руси приводят к переосмыслению роли и личности князя в былинных сюжетах. Соответственно этому уже во второй половине XV в. в былинных сюжетах об Александре Поповиче место ничтожного князя Мстислава Романовича занимает идеализированный русской летописью, книжностью и народом в целом — Владимир Мономах, собиратель русских богатырей и официальный родоначальник московских великих князей, собирателей Русской земли. Александр Попович на службе у Владимира Мономаха удачно обороняет Киев от половцев (Никоновская летопись под 1103 г.). Последний этап создания сюжетов об Александре Поповиче, засвидетельствованный летописью для первой половины XVI в., застает Александра Поповича при главной притягательной силе Киевской Руси — Владимире I Святославиче, совместно с другими русскими богатырями защищающим Киев от печенегов. К 1550-м годам (время составления Никоновской летописи) этот цикл развития былинных сюжетов об Александре Поповиче может считаться завершенным. Таким образом, исторические предания об Александре Поповиче и по характеру своей распространенности и по характеру своих сюжетов развиваются от узко местного эпоса к общерусскому. Местные сказания, приуроченные к определенным ростовским урочищам, превращаются в общерусские героические сюжеты с весьма обобщенным содержанием. Развитие былинных сюжетов об Александре Поповиче идет параллельно развитию и росту общенародного самосознания. Это положение справедливо и для истории ряда других былинных сюжетов. История сюжетосложения былин об Александре Поповиче наглядно убеждает в том, что процесс циклизации былинных сюжетов вокруг Киева и Владимира «Красное Солнышко» отнюдь не являлся механическим процессом, подчиненным бессознательным законам народной памяти. Историческая школа в изучении былин (Вс. Миллер, М. Халанский, Н. Дашкевич, А. Лобода, А. Марков, Б. Соколов и др.) ставила себе целью связать русские былины с подлинными историческими фактами, с определенными историческими лицами. Вся последующая история былинных сюжетов, в том числе и циклизация их вокруг Киева, рассматривалась исторической школой, как постепенное обесценивание и затухание памяти об этом историческом ядре — историческом факте, легшем в основу былины. Анализ исторического развития былинных сюжетов, поскольку оно отразилось в летописи, позволяет говорить об обратном: не о ниспадающей линии развития эпоса, а о восходящей. Возникнув на основе местного исторического припоминания, сюжет героического эпоса постепенно поднимается до обобщающих представлений об исторических судьбах родины и выходит за пределы своей местности, становясь достоянием всего народа. Это объясняется в первую очередь тем, что развитие эпоса самым тесным образом связано с историческими воззрениями народа. Эта мысль была в свое время отчетливо выражена таким непревзойденным знатоком русского эпоса и древней русской письменности, как Ф. Буслаев: «… русский народный эпос служит для народа неписанною традиционной летописью, переданной из поколения в поколение в течение столетий. Это не только поэтическое воссоздание жизни, но и выражение исторического самосознания народа».142 Таким образом, историческая концепция русского эпоса отнюдь не случайна: ее создание диктовалось исторической необходимостью; она представляла собой живой отклик народа, активно воспринимавшего события своего времени, на судьбы родины. Исторический эпос — «исторический не в том смысле, что в нем выведены действительные исторические лица, а в том, что в формах прошлого он выразил народное настроение настоящего».143 История сюжетосложения былин — история постепенного вхождения их в киевский цикл. Она наглядно показывает, что в киевском цикле отразилась прежде всего идея единства Руси, идея единства русского народа. И князь Владимир и Киев, в котором собираются все местные русские богатыри, являются в нем символами русского единства и русской независимости. На службе у князя Владимира русские богатыри, Илья Муромец, Добрыня Рязанич, ростовский житель Александр Попович и др., обороняют Русскую землю от степных кочевников, стоят на пограничной заставе, зорко всматриваясь в степную даль, и неизменно одерживают победы над врагами Руси. Объединение местных областных сказаний в единый киевский цикл вокруг князя Владимира совершилось в былинах на почве того же культа Киева и его князя Владимира, который заставлял москвичей на рубеже XIV и XV вв. восстанавливать домонгольские здания, реставрировать домонгольскую живопись, подновлять и давать новые редакции произведениям Киевской Руси, возводить генеалогию московских князей к «старому Владимиру» и т. д. Объединение русских былин в киевский цикл было, следовательно, вполне аналогично объединению областных летописей в грандиозных московских летописных сводах с киевской «Повестью временных лет» во главе. Культ Киева и его князя Владимира был культом национальной независимости и в русской книжности и в фольклоре. Подобно тому как «Задонщина» была вся проникнута идеей реванша и мести за нанесенные русским поражения, русские былины, воспевавшие неизменные победы русских богатырей над татарами, жили той же идеей мести и реванша. Смешение половцев и татар, как общих врагов Руси, в книжности и фольклоре далеко не случайно: и книжность и фольклор жили в основном единой мыслью в эпоху объединения русских областей и борьбы с татаро-монгольским игом. >VI ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА С МОСКВОЮ НОВГОРОДА И ТВЕРИ >Наряду с подъемом объединительных идей в Москве, росло и идеологическое сопротивление ей отдельных русских областей. Чем круче была политика Москвы, тем ожесточеннее было это сопротивление. Но знаменательно, что, противопоставляя Москве свои политические теории, области вынуждены были считаться с достижениями исторической мысли Москвы и безоговорочно принимали некоторые из ее идей. Чем ярче разгоралась борьба Москвы с Новгородом и Тверью, тем яснее становилась победа идеи общерусского единства. Под конец борьба шла уже не между центробежными и центростремительными силами в русской жизни: боролись областные центры с Москвою за возглавление того общерусского единства, которое уже всеми считалось одинаково необходимым. В идейной борьбе Новгорода и Твери с Москвою рождались новые исторические произведения, необычайно рос интерес к родной истории. Так, в самом сопротивлении Москве рождались предпосылки для объединения с нею. >1 Объединительная политика Москвы встретила чрезвычайно сильное сопротивление новгородского боярства, опасавшегося потерять свои обширные земельные владения, и крупного новгородского купечества, боявшегося конкуренции Москвы в торговле с Западом. Новгородское государство становилось всё более и более реакционной силой в русской жизни, сопротивлявшейся объединительной политике московских великих князей. Новгородское ушкуйничество нарушало московскую торговлю севера и северо-востока; неспокойная новгородская политика грозила постоянными неожиданностями. Однако в самом Новгороде, как и в других русских областях, увеличивалось «в населении количество таких элементов, которые прежде всего желали, чтобы был положен конец бесконечным, бессмысленным войнам, чтобы прекращены были раздоры феодалов, приводившие к тому, что внутри страны шла непрерывная война даже в том случае, когда внешний враг был в стране, чтобы прекратилось это состояние непрерывного и совершенно бесцельного опустошения, которое неизменно продолжало существовать в течение всего средневековья».144 Демократические низы Новгорода явно тяготели к Москве, к сильной великокняжеской власти, в которой надеялись найти опору против боярства. В разное время сторонники подчинения Москве находили себе в Новгороде путь к власти, но в полной мере ни партия новгородских сепаратистов (так называемая литовская), ни партия сторонников Москвы не смогли возобладать на зыбкой почве новгородского «народоправства». Конец XIV в. характеризуется крайним обострением борьбы Москвы с Новгородом. Эта борьба стала особенно напряженной в 90-х годах XIV в., в связи с отказом новгородцев выезжать на суд к московскому митрополиту. По старому, испытанному еще в XII в. пути, новгородское боярство посылало послов с жалобой в Константинополь, угрожало Москве переходом в латинство, клялось на вече не судиться у митрополита. Только после того, как войска великого князя захватили Торжок и начали опустошать новгородские волости, новгородцы изъявили покорность. Новый перевес дало новгородской литовской партии замешательство в церковных делах первой половины XV в., приведшее к образованию двух враждебных митрополий: московской и киевской. Оно позволило новгородскому боярству вести двойную политику и постоянно добиваться от Москвы уступок угрозами подчиниться киевскому митрополиту. С этой поры церковный вопрос в Новгороде приобрел первостепенное политическое значение. Пользуясь смутою в церковных делах, Евфимий II Новгородский получил «поставление» в Смоленске у киевского митрополита Герасима, и это дало Новгороду независимость от московской церкви. В Новгороде приобрели значительную силу антимосковские настроения. Архиепископ Евфимий II активно способствовал западному влиянию и оказывал покровительство иностранцам. «От странных же или чуждых стран приходящих всех любовию приимаше, всех упокоиваше, всех по достоинству миловаше», — говорит о нем Пахомий Серб. Показателем новгородской политики служит то, что в Новгороде находили убежище противники московского великого князя — Дмитрий Шемяка и Василий Гребенка. Новгородское боярство обращалось к прошлому Великого Новгорода, чтобы в нем найти опору в борьбе против Москвы. Так же, как и в Москве, это обращение к прошлому сказалось в усиленном развитии летописания, в целом ряде реставрационных работ, в попытках оживить историческое предание, связанное с героическими страницами в жизни родного города. Во второй четверти XV в. началась беспокойная строительная деятельность архиепископа Евфимия II. Он обстроил новыми зданиями владычный двор Детинца, строил на Софийской и Торговой сторонах, строил в Старой Руссе, в Вяжищах, в Хутыне и т. д. Ко времени Евфимия II относятся здания светского и промышленного назначения, церкви и правительственные палаты. Особое место в строительной деятельности Евфимия II занимало возрождение новгородских архитектурных форм XII в. — века наибольшего расцвета новгородской торговли и внешнего могущества. В 1454 г. Евфимий II реставрировал церковь Ивана на Опоках (братчины Иванщины), первоначальной постройки 1127–1130 гг. В 1455 г. он строил «на старой основе» церковь Ильи на Славне, первоначальное здание которой относилось к 1198–1202 гг. В 1442 г. Евфимий II «на старой основе» 1198 г. ставил Преображенский собор в Старой Русое. На старой же основе XII в. восстанавливались церкви Бориса и Глеба (1445), Жен-мироносиц (1445), Борогодицы на Торгу (1458) и др.145 Евфимий II возродил строительные приемы монументальной архитектуры XII в., напоминавшие своими выразительными и внушительными формами о былом величии Новгорода. Разнообразной строительной деятельностью Евфимия II восхищался Пахомий Серб, в восторженных выражениях описавший выстроенные Евфимием храмы Детинца, которые «яко звезды или горы» стоят вокруг Софии. Массовое восстановление Евфимием II старых церквей XII в. связано с одновременным установлением культа «преждеотшедших» новгородских архиепископов, с возрождением летописного дела, с созданием цикла литературных произведений об архиепископе Иоанне, при котором новгородцы в 1170 г. отбили от стен Новгорода войска северо-восточных княжеств, что в XV в. служило как бы символом неприступности Новгорода для посяганий Москвы. Около 1432 г. был составлен в Новгороде обширный летописный свод «Софийского временника», который должен был дать новую историческую концепцию, поставив в центр русской истории историю Великого Новгорода. Однако, вскоре после составления свода 1432 г. «Софийского временника», в Новгороде стал ясен и его основной недостаток, не позволявший ему конкурировать с обширными московскими летописными сводами начала XV в. В то время как московское летописание было в подлинном смысле этого слова общерусским, объединяло в своем составе известия самых разнообразных областей и освещало историю всего русского народа в целом, новгородский «Софийский временник» но составу своих известий оставался все же летописью узко новгородской. Поэтому при том же Евфимии II в 1448 г. было предпринято составление нового летописного свода. Свод 1448 г. был первым новгородским сводом с ярко выраженным общерусским характером. Это далеко уже не узкая местная летопись, редко выходящая за пределы родного города, какой была новгородская летопись в предшествующие столетия. Свод 1448 г. описывает судьбу русского народа в целом, хотя преимущество попрежнему отдает Новгороду и в нем видит, очевидно, центр событий русской истории. Знаменательно, что в основном этот общерусский характер свод 1448 г. приобретает в результате заимствования общерусских известий из московского летописного свода Фотия 1418 или 1423 г. Стремясь создать историческую и политическую концепцию, противостоящую московской, Новгород все же опирался на Москву, на ее книжность, считался с достижениями ее исторической мысли и принимал общерусский характер ее трактовки предшествующего летописания. Так, идеи Москвы находят себе признание даже у ее врагов. Однако, в противоположность московским летописцам конца XIV — начала XV вв., нередко оценивавшим события с точки зрения демократических городских слоев населения, составитель свода 1448 г. во многих случаях проявил себя как представитель интересов боярской партии — владычнего двора. Он с осуждением отнесся к черному люду — к «голодникам», «ябедникам»146 и к городским волнениям. Свод 1448 г. имел обширный успех в русском летописании. В Новгороде на его основе создается еще ряд сводов. Историческая мысль работала с чрезвычайной интенсивностью. Летописные своды с настойчивой последовательностью создавались один за другим, но самостоятельной и законченной новгородской исторической концепции, подобно московской, всё же не получилось. Содержание новгородских летописей, стремившихся соединить достижения исторической мысли Москвы с антимосковскими тенденциями правящей верхушки Новгорода, осталось таким же противоречивым, как противоречива была и сама новгородская жизнь. >2 Попытки новгородского боярства опереться на прошлое Великого Новгорода, возродить старые, еще домонгольские традиции нашли себе место не только в новгородском летописании. В 1436 г. в церкви Усекновения главы в Новгородском Детинце упавший сверху камень пробил «велию скважину», в которой обнаружилось «нетленное» тело неизвестного святого. Известили Евфимия. «Убедившись» в нетленности мощей, Евфимий начал молить Бога: «да явит имя, кто есть». В ту же ночь «явился» Евфимию архиепископ Иоанн, открылся, что мощи принадлежат ему, и велел «праздновать себя» каждое 4 октября. Иоанн (1163–1186) — первый официальный новгородский архиепископ. Он был известен в Новгороде, главным образом, как лицо, при котором в 1170 г. произошло «чудесное» спасение города от подступивших к нему войск северо-восточных княжеств, отожествлявшихся в Новгороде в XV в. с Москвой. Само собой разумеется, что открытые так кстати упавшим камнем мощи Иоанна были торжественно водворены в Софийском соборе, и почитание этого новоявленного святого приобрело формы почти политической демонстрации. Вокруг архиепископа Иоанна и «чуда» спасения Новгорода от войск суздальцев возник цикл легенд, своего рода культ новгородской независимости. Основание культа новгородских святых и возвеличение новгородского прошлого подкреплены были несколько позднее и другой легендой. Под 1439 г. летопись сохранила сказание пономаря Аарона.147 В одну из ночей пономарь Аарон увидел, как в церковь Софии «прежними дверьми» (очевидно теми, которыми перестали пользоваться) вошли все «преждеотшедшие» новгородские архиепископы, молились в алтаре и пред иконою Корсунской божьей матери. Пономарь рассказал о своем видении Евфимию, и тот «бысть радостен о таковом явлении», повелел служить панихиду по всем новгородским архиепископам, а затем установил и более регулярное чествование своих предшественников. Выходило так, что не Евфимий II насаждал почитание новгородских святых и воскрешал память о забытых временах новгородского расцвета, а само прошлое напоминало о себе. «Преждеотшедшие» архиепископы молились за Новгород, объявляли свои мощи и т. д. Новгородская боярская партия настойчиво искала в новгородском прошлом опоры для своих притязаний на независимость и отъединенность от Москвы. Евфимий II пригласил с Афона знаменитого ритора Пахомия Серба и заказал ему литературное изложение легенды о чудесном спасении Новгорода при архиепископе Иоанне от войск суздальцев в 1170 г. Простую и непосредственную новгородскую легенду Пахомий «удобрил» витиеватым красноречием, придав ей пышность и назидательность, усилив элемент чудесности. Заканчивалось описание «чуда» спасения Новгорода от войск северо-восточных княжеств в изложении Пахомия молитвой, трафаретные заключительные строки которой должны были звучать особенно остро в политической обстановке половины XV в.: молитва завершалась прошением об избавлении «града нашего [Новгорода] от глада, губительства, труса [землетрясения], потопа и нашествия иноплеменников».148 В этот первый свой приезд в Новгород Пахомий написал, кроме того, службу новгородскому святому Варлааму Хутынскому, похвальное слово ему же и житие Варлаама. Культ новгородских святых обставлялся, как видим, необходимой пышностью. Таким образом, торжественное восстановление авторитета родной старины, начатое Москвою, было подхвачено ее политическим противником — Новгородом, новгородским боярством. Чем ожесточеннее была идеологическая борьба Москвы и Новгорода, тем яснее становилась победа общерусского сознания, тем ближе в конечном счете становилась и идейная победа Москвы, как наиболее последовательного носителя общенациональных традиций. >3 Но уже и в самом Новгороде идеи Москвы находили всё большее число сторонников. К концу 50-х годов XV в., в результате победы московского великого князя над новгородским ополчением и заключения невыгодного для новгородского боярства мира, перевес Москвы настолько определился, что представителям боярской партии в Новгороде приходилось думать только о политике отсрочки, по существу, неизбежного конца новгородской независимости. Росло и сочувствие демократических слоев населения Новгорода Москве. Роль заступника и постоянного ходатая за Новгород перед московским великим князем принял на себя избранный после смерти Евфимия II архиепископ Иона, искусно лавировавший между крайностями литовской боярской партии и энергичным натиском Москвы. Иона ознаменовал свое архиепископство целым рядом предприятий, клонившихся к закреплению мирных отношений с Москвой. В житии Ионы отмечено, что «московьстии князи много любяху его и со благоговением почитаху, и писания множицею посылаху к нему и от него въсписания желанно приимаху».149 Иона установил в Новгороде культ московского святого Сергия Радонежского, выстроил ему церковь (1463), ездил в Москву, где слезно заступался за новгородцев перед великим князем. При Ионе вторично прибыл в Новгород Пахомий Серб. Иона, как и Евфимий II, заказал Пахомию различные церковные службы и при этом, наряду со службами новгородским святым заботился и о службах святым, имевшим общерусское значение. Особенный интерес имеет заказанное Ионой Пахомию «Сказание о чуде преподобного Варлаама Хутынского» (1460). «Чудо это, случившееся в первый же год архиепископства Ионы, было весьма симптоматично. Во время приезда в Новгород московского великого князя Василия Васильевича умер его постельничий Григорий Тумган. Привезенный ко гробу новгородского святого Варлаама, постельничий «воскрес». Так же, как и открытие мощей архиепископа Иоанна при Евфимии II, инсценировка воскрешения постельничего московского великого князя у гроба новгородского святого не была случайной: новое «чудо» знаменовало собой временный перелом в новгородской политике и стояло в связи с новгородской дипломатией, стремившейся расположить к Новгороду великого князя Василия Васильевича. Заказывая описание этого «чуда», Иона имел в виду внушить московскому князю уважение к новгородским святыням, примирить его с Новгородом. Предназначенное для такой цели «Сказание» написано в духе московских взглядов. Оно именует Василия Васильевича «благочестивым и благоверным великим князем володимерским и московским и новгородским и всея Руси», а Новгород — вотчиной великого князя. Впоследствии, когда отношения Новгорода с Москвой вновь обострились, послушный исполнитель воли своих заказчиков Пахомий Серб переделал свое произведение согласно с требованиями момента: пышное титулование московского великого князя было замшено более простым — «благочестивый великий князь», а место, в котором говорилось о Новгороде, как о вотчине великого князя, было опущено. К эпохе усиления московских тенденций в Новгороде (в самой средине XV в.) относится житие яркого представителя московской демократической партии в Новгороде — Михаила Клопского. Москвич по происхождению, родственник московских великих князей, Михаил избрал местом своего монашеского пребывания небогатый новгородский Клопский монастырь, игумена которого Феодосия низы новгородского населения одно время даже избрали в архиепископы. Житие, демократическое по своим тенденциям, обильно эпизодами враждебного отношения монастыря к посадникам, к укрывавшемуся в Новгороде неудачному конкуренту московского великого князя Дмитрию Шемяке, и вместе с тем, в отличие от велеречивых и витийственных произведений Пахомия, выполнявшего заказы боярской партии, носит демократический, просторечный характер со следами влияния фольклора. О новгородском князе Михаиле Олельковиче, ставленике Литвы, Михаил Клопский говорит: «то у вас не князь — грязь», советует покориться московскому великому князю, «предрекает» торжество Москвы. Таким образом, еще до завоевания Новгорода Москвою в Новгороде зрели идеи общерусского единения под верховенством Москвы. Сама новгородская старина, вызванная к жизни сторонниками литовской боярской партии, восставала на новгородскую независимость. Разбуженный интерес к родной истории подсказывал идею общерусского единства. >4 В эпоху походов Ивана III ожесточение борющихся партий в Новгороде — литовской и московской — достигло крайней ступени. Новгородское летописание утратило свою организованность и систематичность. Летописи велись по инициативе представителей обеих враждующих партий, дополнявших и расширявших списки, начатые их предшественниками. В этих дополнениях нет единства между отдельными летописцами ни в политических взглядах, ни в круге отмечаемых ими событий, ни в стиле и манере изложения. Летописцы то ограничивались одними лишь новгородскими событиями, то вводили сведения общерусского значения; иногда эти известия кратки и сдержанны, но иногда же речисты и витийственны. Те части новгородской летописи, которые отличаются традиционным новгородским лаконизмом стиля, лишены, однако, чеканности летописного языка XII–XIII вв. Летописец терял присущее ему спокойствие тона, как только подходил к предметам, близко касавшимся его политических убеждений, и разражался в этих случаях многословными тирадами против своих политических врагов всюду, где находил это возможным. Летописец, дополнивший один из списков Новгородской IV летописи (Строевский), так отчитал сторонника московского великого князя Упадыша, забившего железом пять новгородских пушек при приближении к Новгороду московского войска: «како не вострепета, зло мысля на Великий Новъгород, не сытый лукавъства? не мъзды ли ради предаеши врагом Новъгород, о Упадышче, сладкого брашна вкусил в Великом Новеграде? О, колика блага не намятив, недостаточное ума достигл еси!.. Уне бы ты, Упадыше, аще не был бы во утробе матерьни: не бы был наречен предатель Новуграду…»150и т. д. Не на одного Упадыша сетует летописец. Он осуждает «владычнь стяг» (полк новгородского архиепископа), который не хотел ударить на московскую княжескую рать, ссылаясь на то, что «владыка нам не велел на великого князя руки подынути». Осуждает летописец и тех новгородцев, которые перед битвой, с москвичами «вопили» на «больших людей», не желая сражаться: «Яз человек молодыи, испротеряхся конем и доспехом».151 «И бысть в Новегороди молва велика, и мятежь мног, и многа лжа неприазнена, сторожа многа но граду и но каменным кострам [башням] на переменах день и нощь. И разделишася людие: инии хотяху за князя [московского], а инии за короля, за Литовьского»,152 так описывает летописец волнения, вызванные поражением новгородского войска на Шелони. Иной характер носили дополнения Новгородской IV летописи по списку Дубровского. Помимо обилия в них московских и общерусских известий, список включил в свой состав такие направленные против новгородской независимости произведения, как «Словеса избранна от святых писаний»153 на новгородцев, «Послание митрополичье»154 против них же, московский рассказ о присоединении Новгорода с резкими выпадами против новгородцев и характерным заключительным проклятием новгородским «смутьянам»: «И та земская их беда и вся людцкая кровь да будетъ изысканна от Бога вседержителя, по писанному: Господи! зачинающих рать погуби. И то все на тех главах на изменных и на их душах, в сем веце и в будущем, аминь».155 Военные действия против Новгорода, а затем и борьба в Новгороде с остатками боярско-литовской партии внесли ненадолго черты озлобления и полемичности в произведения обеих партий. Эта борьба по мелочам, по текущим вопросам была лишена той широкой историко-философской аргументации, которой обладала литература предшествующего периода. >5 Московские порядки были введены в Новгороде в 1478 г. после вторичного похода, которому Иван III придал характер защиты русских интересов от изменников — новгородских бояр. Этот поход Ивана III был обставлен с чрезвычайной пышностью. Ни один из московских походов ни в прошлом, ни впоследствии не сопровождался такой усиленной пропагандой, таким обилием всяческих посланий, как новгородские походы Ивана III. Идеологическое состязание Новгорода и Москвы достигло в 70-х — 80-х годах XV в. особенной напряженности. Везя в обозе своих войск летописи и книжника, умевшего «говорить по летописцам русским» (новгородца Стефана Бородатого),156 Иван III готовился к сложной идеологической борьбе с Новгородом. Наступая на Новгород, Иван III явно не опешил, принимал по дороге перебежчиков и затягивал переговоры, очевидно, выжидая, чтобы московские интересы сами взяли верх в Новгороде. К этому у него были веские основания: так называемая литовская партия, составлявшая крайнее меньшинство, орудовала в Новгороде путем подкупов и террора, которые становились недейственными при одном приближении громадного войска великого князя. Чем ближе подступала к Новгороду великая рать московская, тем больше перебегало к ней новгородцев, обещавших служить великому князю верой и правдой. Присоединение Новгорода к Москве не сопровождалось стремлением к разрушению его культурных ценностей. Уничтожая новгородскую независимость, москвичи не считали себя завоевателями, точно так же, как и представители московской партии в Новгороде не рассматривали себя как врагов родного города. Уничтожение новгородской независимости понималось не как завоевание, а как воссоединение исконных русских земель под державой «боговенчанного» монарха «всея Руси». Сознание значительности одного из старейших русских городов постоянно ощущается в отношениях Москвы к Новгороду. Москва широко использовала новгородские летописи, приглашала к себе новгородских иконников и каменщиков, подчеркивала славу и величие великого Новгорода, исконную зависимость его от московских великих князей, усматривая новгородскую измену лишь в «последних летех». Постепенно Москва обстраивала новыми стенами Новгородский Детинец (кремль), возвратила в Новгород Софийскую казну, увезенную было Иваном III, перепланировала город, расширяя улицы, упорядочила городскую жизнь, наконец всячески пользовалась книжными традициями и богатствами Новгорода. В первой половине XVI в. в Новгороде наблюдалось возрождение организованной работы над летописью. В 1520 г. при архиепископе Макарии — будущем участнике «избранной рады» Грозного — здесь была составлена особая редакция Хронографа. В 1539 г. был создан новый свод новгородской летописи.157 При Макарии же в Новгороде составлялось грандиозное собрание житий русских святых, так называемые макарьевские Четьи-Минеи в 12 обширных томах. Стремясь найти в новгородском прошлом опору для нового порядка, Москва поддерживала культ представителя московской демократической партии в Новгороде — Михаила Клопского. Политическое значение этого культа видно хотя бы из того, что впервые в истории: древнерусской книжности составление нового жития этого святого было поручено светскому лицу — московскому чиновнику, сыну боярскому и «храброму воину» Василию Тучкову, который значительно усилил московский антипосаднический дух жития. В течение всего XVI и XVII вв. в Новгороде осуществлялся целый ряд общерусских культурных предприятий. Москва поддерживала книжность Новгорода, и сам Новгород в целом придерживался общерусской позиции; однако кое-какие отголоски идей боярско-литовской партии в церковной трансформации (новгородская церковная организация менее всего пострадала при разгроме Новгорода), как, например, идея совершенной самостоятельности новгородской церкви (легенда о белом клобуке), идея превосходства «священства» над «царством» и т. д., еще долго сказывались и в новгородской книжности и в новгородской жизни на протяжении всего XVI и XVII вв. >6 Идейное движение в Твери XV в. во многом аналогично идеологической борьбе Новгорода с Москвой. Так же, как и в Новгороде, в Твери происходит возрождение местных исторических традиций. Так же, как и Новгород, Тверь стремится создать свое местное патриотическое движение, противостоящее Москве, пытается найти опору своим сепаратистским устремлениям в своем прошлом. В Твери, как и в Новгороде, усиленно восстанавливаются старые, еще домонгольские постройки и возрождаются исторические предания эпохи национальной независимости. Однако в отличие от Новгорода, ограничивавшего круг своих исторических интересов местными преданиями, Тверь вслед за Москвой возрождает общерусские исторические традиции Киева. Тверские книжники втечение всего XV в. неоднократно обращаются к литературным произведениям Киевской Руси, переделывая их, редактируя их, переписывая и заимствуя из них для собственных сочинений отдельные образы и целые отрывки. Тверская литература обращается к патриотическому воодушевлению «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона, к широте исторической мысли «Повести временных лет», к оказаниям о князьях Борисе и Глебе, чей культ на протяжении многих веков связывается с политическими идеалами общерусского единства, к произведениям Кирилла Туровского и Киево-Печерскому патерику, пересоставленному в Твери в начале XV в. в новой, так называемой Арсеньевской редакции. Вместе с тем, тверская литература усваивает московские литературные произведения конпа XIV — начала XV вв. и опирается на достижения московской исторической литературы. Вслед за Москвой, в Тверском княжестве — усиленно ведется летописная работа. В 1409 г. составляется свод, пропагандировавший идею единства «Тверской земли» и необходимости примирения тверских и кашинских князей — наследников тверского великого князя Михаила Александровича. В 1455 г. по приказанию тверского великого князя Бориса Александровича составляется «Летописец княжения тверского». Главное и преобладающее внимание уделено в нем тверским событиям и пропаганде идеи самодержавности тверского князя Михаила Александровича. Он — «от богосадного корени доброплодная отрасль», он — «храбрость показа многу и грады многы взем: покоривыися любовию, а непокоривыа мечем». В своем политическом развитии Тверь значительно опережала Новгород. Политическая борьба тверских великих князей с сепаратистскими стремлениями кашинских князей воспитала в Твери мысль о политических преимуществах сильного единодержавного правления. Тверской свод 1455 г. весь проникнут мыслью о необходимости крепкой княжеской власти, о необходимости прекращения феодальных раздоров. И в этом отношении Тверь не только следовала за Москвою, но в некоторых своих идеях опережала ее. Так, раньше чем в Москве, в Твери создается теория самодержавной власти великого князя. Пользуясь временной слабостью Москвы в годы междоусобной борьбы за московское великое княжение, Тверь стремится взять на себя роль защитницы общерусских интересов, а тверской князь пытается быть представителем в Западной Европе всей Русской земли, как ее глава. Эта идеология ярко отразилась в замечательном похвальном «Слове» инока Фомы тверскому князю Борису Александровичу. Историческую обстановку создания «Слова» отчетливо обрисовал академик Н. П. Лихачев в своем труде «Инока Фомы слово похвальное» (1908, стр. IX–X): «В половине XV столетия еще продолжалось давнее соперничество Москвы с Тверью. Идея о царстве и царском наследии коснулась и Тверской области. Был как-раз необыкновенно благоприятный момент. Москва раздирается усобицами, законный князь то в плену, то изгнан, потом ослеплен. Только помощью Твери утверждается он на прародительском столе, заключив союзный и брачный договоры. Во главе княжества Тверского стоит деятельный и талантливый человек [Борис Александрович]. Временное процветание Твери оживляет заглохшую былую славу. Даже послы великой „Шавруковой“ орды идут в Тверь и минуют Москву. Из Византии же приходят печальные вести; после морального падения на нечестивом латинском соборе распространяются слухи о постепенном утеснении Царьграда агарянами [турками. 29 мая 1453 г. Царьград пал, православная вселенская монархия кончилась. Есть у латинян цари, сильные царства, но не может благодатное наследие царя Константина перейти к впавшим в ересь. Только на одной Руси сияет православие; кому же в Русской земле принадлежит наследие царства?.. Не князь московский, а боговенчанный царь Борис Александрович тверской настоящий наследник Византийской империи и „второй Константин“, благоверный православный самодержец…». Такова главная мысль «Слова». «Слово» инока Фомы подчеркивает величие и славу «Тверской земли». Тверская земля — богоизбранная страна, «Новый Израиль»; ее князь — «второй Константин». Имя тверского князя Бориса Александровича славимо повсюду — «от Востока и до Запада и до самого царствующего града». Авторитет тверского князя стоит высоко среди европейских монархов. Иноземные цари возносят ему хвалу. Инок Фома восхваляет храбрость Бориса Александровича и «дерзость сынов Тферскых». Борис Александрович — государь и «защитник наш». Фома подчеркивает силу княжеской власти Бориса, его единодержавство и утверждает богоустановленный характер княжеской власти, что впоследствии настойчиво станут проводить московские книжники. Великий князь Борис Александрович называется в «Слове» царствующим самодержавным государем, что само по себе было решительной новостью в русской политической мысли того времени. Борис Александрович «царскым венцем увязася» и сравнивается с Августом, с Львом Премудрым, с царем Птоломеем Книголюбцем, с Константином Великим, с царем Феодосием. Фома превозносит строительную деятельность Бориса Александровича, устройство им нового Тверского кремля и называет его «новым Ярославом» (Мудрым), что уже само по себе должно было говорить о стремлении Бориса Александровича сосредоточить в своих руках объединение Руси. «Слово» Фомы недвусмысленно выражало идею единства Руси, идею необходимости сильной монархической власти, впервые по-новому названной «царской». Сами по себе эти мысли «Слова» были глубоко прогрессивны; свидетельствуя о вполне созревшей повсюду мысли о необходимости создания единого национального государства. Но Москва имела большие исторические права на возглавление этого государства. Вскоре спор о том, кому стоять во главе объединенной Руси, был решен военной рукой Москвы. Тверской князь нарушил мирный договор с великим князем московским и вступил в переговоры с Литвой. В 1485 г. Иван III осадил Тверь, тверские бояре перешли на службу к Ивану III, тверской князь бежал в Литву, а тверичи целовали крест Ивану III. >VII РОССИЯ И ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В XVI в. >С конца XV в. объединенное Русское государство становится лицом к лицу с Литвой, Польшей, Ливонией, Швецией, Турцией, Ираном. Москва завязывает непосредственные отношения с европейскими странами: Австрией, Венгрией, Венецией, Римом, Германией, Данией. Русское правительство вступает в различные союзы со странами Западной Европы; оно вызывает архитекторов, ремесленников, горноделов, оружейных мастеров, которые вместе с русскими участвуют в общем прсмышленном подъеме страны. Деятельные сношения Русского государства с другими странами вызывают рост национального чувства, чувства гордости за свою родину. Тверской купец Афанасий Никитин, на 25 лет раньше западно-европейских путешественников проникший в Индию (1466–1472) и составивший о ней обстоятельные и умные записки, повидав многие страны, писал: «Да сохранит Бог землю Русскую! боже, сохрани ее! в сем мире нет подобной ей земли. Да устроится земля Русская».158 Русских путешественников и дипломатов, ездивших в Западную Европу в конце XV и XVI вв., всегда отличала крепкая уверенность в себе, в своем достоинстве представителей России. Русские дипломаты умело пользуются своею историческою ученостью и создают сложную теорию власти московских государей, высоко поднимавшую авторитет русского монарха над остальными европейскими королями и правителями. Это была творческая политическая идеология, направлявшая политику Русского государства по пути защиты национальных интересов, национальной культуры в сложной среде европейской цивилизации. Такова ведущая линия отношений России к Западной Европе в XVI в. >1 Не только Россия была заинтересована в конце XV–XVI вв. в деятельных сношениях с европейскими странами. Сами западно-европейские государства наперерыв стремятся к союзу с могущественной страной на Востоке Европы. Необычайные военные успехи Турции во второй половине XV в. вселили ужас и смятение в среду европейских народов. В 1453 г. после двухмесячной ожесточенной осады пал Константинополь. В 1459 г. была завоевана Сербия и обращена в турецкий пашалык. В 1460 г. турки завоевали Афинское герцогство и вслед за ним всю Грецию. В 1462 г. они захватили Лесбос и Валахию, в 1463 г. — Боснию, в 1467 г. — Албанию, а затем Герцеговину. В 1476 г. турки опустошили Молдавию, а в 1479 г. заключили победоносный мир с Венецией и Неаполем. Расцвет турецкого могущества на Востоке совпал с ростом силы и международного престижа молодого Русского государства. Иван III деятельно сносится с западно-европейскими государствами, и западные властители усиленно стремятся польстить самолюбию восточного государя обещаниями королевского титула и признанием за ним прав на константинопольское наследство. Западно-европейские государства всячески стремятся вселить Ивану III мысли о владычестве на Востоке, столкнуть Москву с Турцией и тем самым сделать Русское государство послушным орудием своей политики. Одно из первых мест в этих завязавшихся сношениях Западной Европы с Москвою принадлежало папе. Маня и соблазняя Ивана III византийским наследством, римская курия стремилась вовлечь Москву в общеевропейский союз для борьбы с исламом. Именно для этого и был задуман в Риме брак Ивана III с Софией Палеолог — племянницей последнего византийского императора Константина VIII. В пути византийскую принцессу сопровождал легат папы. В Риме надеялись приобрести в супруге царевны не только нового союзника против Турции, но и, возможно, нового члена католической церкви. Вскоре после брака Ивана III и Софии Палеолог сениория Венеции, всегда точная и осторожная в своих решениях, писала Ивану III, что Византия «за прекращением императорского рода в мужском колене должна принадлежать вашему высочеству в силу вашего благополучнейшего брака».159 Но Иван III не был склонен к войне с турками. В 1495 г. в Константинополе появились московские послы, чтобы обеспечить русским купцам беспрепятственную торговлю с Турцией. Попытки соблазнить Москву константинопольским наследием и вовлечь Русское государство в войну с Турцией особенно усилились при Василии III. В 1519 г. магистр прусского ордена сообщал Василию III через своего посла Дитриха Шонберга о желании римского папы «наияснейшаго и непобедимейшаго царя всеа Русии короновать в христьянского царя»160 с тем только, чтобы Василий III принял участие в антитурецком союзе. В ходе переговоров Шонберг говорил о союзе против «християнского врага Турка, кой держит наследие царя всеа Русии».161 Однако московские бояре отвечали Шонбергу, что Василий «хочет вотчины своее земли Русские»,162 и не приняли во внимание «костянтинополскую отчину»,163 на которую указывал им Шонберг. Ни Иван III, ни Василий III, ни Иван IV не были склонны к войне с Турцией из-за византийского наследия. Властители Запада напрасно обольщали себя надеждой общего с Москвою крестового похода против ислама. В Москве иначе смотрели на константинопольское наследие и нисколько не заботились о земельных приобретениях в Турции. Грозный не дал ответа австрийскому императорскому посольству 1576 г. на предложение «цесарства греческого» и титула «всходного цесаря» (царя Востока); он не дал его, несмотря ка все свое ревнивое отношение к признанию своего царского титула на Западе. Несмотря на состоявшийся брак Ивана III с Софией Палеолог, расчеты папской курии на то, что московские государи отныне будут считать себя наследниками византийских императоров, не оправдались. Московские государи ни разу не заявили своих прав на императорский титул, несмотря на то, что германский император Максимилиан I сам называл Василия III императором, и ни разу не обнаружили притязаний наследовать права Софии Палеолог на Византию. Пересматривая многочисленные доказательства прав, которые предъявляли московские великие князья на царский титул, мы нигде не найдем ссылок на получение этих прав через брак Ивана III с Софией Палеолог. Обращаясь к восточным патриархам за утверждением царского титула, Иван IV говорит о своем родстве с византийскими императорами, но ни разу не вспоминает своей бабки Софии Палеолог. Не упоминает о родстве московских великих князей с византийскими императорами через Софию Палеолог и официальная литература Москвы XVI в. — «Сказание о князех Владимирских», повести о Мономаховых регалиях и дипломатическая переписка Москвы. Это молчание официальной литературы XVI в. о правах Московского престола, полученных через брак Ивана III с Софией, находит себе соответствие в той крайней нелюбви народа к Софии, о которой единогласно свидетельствуют летописи, Курбский, Берсень-Беклемишев и даже иностранец С. Герберштейн. В Москве склонны были видеть в Софии царственную сироту, нашедшую себе приют в могущественном государстве, а не могущественную наследницу держанных прав Империи. В Софийской II и Воскресенской летописях, после описания похода Ивана III на Угру, летописец поместил воззвание к потомкам хранить независимость своего отечества. Это воззвание заключалось явным намеком на отца Софии — Фому Палеолога и на его сыновей, один из которых (Андрей) дважды безрезультатно приезжал на Русь торговать правами византийских императоров: «О храбрии, мужественной сынове Русьстии! потщитеся сохранити свое отечество, Русьскую землю, от поганых; не пощадите своих голов, да не узрят очи ваши пленения, и грабленное святым церквем и домом вашим, и убиения чад ваших, ж поругания женам и дщерем вашим. Якоже пострадаша инии велиции славнии земли от Турков, еже Волгаре глаголю к рекомии Греци, и Трализонь, и Амория, и Арбанасы, и Хорваты, и Боша, и Манкуп, и Кафа и инии мнозии земли, иже не сташа мужественней пошбоша и отечьство свое изгубиша н землю и государьство, и скитаются по чюжим странам беднл во истинну и странни, и много плача и слез достойно, укоряема н повоошаеми и оплеваеми, яко не мужествензии… Тако ми бога видех своима очима грешнима великих государь, избегших от Турков со имением и скитающиеся яко странни и смерти у бога просящих яко мздовъздаяния от таковыя беды».164 Ясно, кажется, что «избегшие от турков» и «смерти у бога просящие» родственники византийских императоров не могли упрочить блеск русских государей и что не на родстве с ними основывалась величественная идеология Русского государства. >2 Идею «греческого наследия» внушали русскому правительству не только западные державы. Сами греки, часто приезжавшие на Русь после падения Константинополя, греческие церковные власти, обращавшиеся на Русь за материальной поддержкой, проводили в своих домогательствах ту же «греческую идею». Суть ее в общих чертах заключалась в том, что с гибелью императорской власти в Византии единственным защитником православия и греков остается московский великий князь, к которому и должны были перейти все права и обязанности императора второго Рима — Византии. Греки — турецкие послы всячески стремились расстроить мирные отношения русских с Турцией; так было при султане Селиме и Сулеймане Великолепном. Особенно известен был этой своей изменнической по отношению к Турции политикой турецкий посол, грек по происхождению, Скиндер. Русские требовали смены Скиндера, но греческая партия была сильна в Турции: Скиндер оставался на своем посту и сыграл исключительную роль в провале идеи союза, что подтвердилось после его смены в Москве в 1529 г. Максим Грек систематически проводил идею освобождения Греции военной силой Русского государства. Он побуждал великого князя тем, что «бог грекам от отеческих престол наследника покажет»,165 т. е. тою же мыслью о правах московских князей на константинопольское наследство. Не чужда была той же идеи и среда русского духовенства, издавна воспитанная в политических представлениях византинизма. Именно в этой среде, близкой к грекам, зрела с конца XV в. мистическая теория движущегося Рима. Эта теория, возникшая на почве византийской теории всемирной супрематии императора второго Рима (Византии), пыталась перенести на московских государей византийские представления об императорской власти и рассматривала великих князей московских как законных и единственных наследников императоров Вечного Рима. Суть этой теории сводилась к следующему: в мире существует только одно христианское богоизбранное государство, которое не может пасть до скончания века — Вечный Рим. Но Рим этой теории — не неподвижный Рим, связанный с определенной территорией. Первый Рим пал, уклонившись в нечестие, потеряв чистоту христианской религии; второй Рим — Византия, примкнув в Флорентийской унии к первому, был завоеван турками. Отсюда родилась мысль, что Вечный Рим живет в каком-то новом государстве, оставшемся верным православию. И его искали то в Твери,166 то в Новгороде и, наконец, в Москве, необычайно быстрый рост которой совпал по времени с гибелью Византии. Естественно, что вся всемирно-исключительная роль, которая отводилась в Византии императору второго Рима как защитнику церкви и главе всех христиан, переходила теперь, с падением второго Рима, к главе третьего Рима — великому князю московскому. Эту теорию неоднократно внушали Василию III представители церкви. Дважды ее изложил в своих посланиях к Василию III старец Елеазарова монастыря Филофей, который, соответственно обычному титулу византийских, императоров «святой», называет Василия III167 «освященная глава»168 и применяет к нему другие обычные титулы византийского императора: «браздодержатель святых божиих церквей», «святыя православныя христианскыя веры содержатель» и др. Видя в Василии III главу всех ромеев, Филофей пишет ему: «един ты во всей поднебесной христианом царь»;169 а в другом послании: «един [есть] православный русский царь во всей поднебесной». Еще резче идея всемирной власти великого князя московского выражена Максимом Греком. Василия III Максим Грек называет «благочестивейший царю не токмо Русии, но всея подсолнечный».170 Однако теория, предложенная Филофеем Василию III, была резко отлична от творческой политической теории, направлявшей меч великокняжеской власти. В противоположность наименованию московских великих князей «едиными государями во всей подсолнечной», официальная терминология точно и определенно называла их великими князьями (или царями) «всея Руси». «Блестящее марево всемирной власти», которое пытались открыть перед московскими государями в заманчивой дали сторонники теории «Москва — третий Рим», никогда не прельщало московское правительство, неуклонно стремившееся к единой близкой и конкретной цели воссоединения «всея Руси».171 Русские великие князья упорно настаивали на своих извечных правах на царство и не желали принимать свой царский авторитет из Византии, позорно утратившей свою независимость. Не по наследству, не по милости греков получили русские монархи царский титул. Русские князья «изначала государи на своей земле». Эти идеи проводятся во всех официальных документах XV–XVI вв. в дипломатической переписке, посланиях, завещаниях, официальных речах и соборных постановлениях. Не случайно Иван Грозный говорил Поссевину: «Мы верим не в греков, а в Христа; мы получили христианскую веру при начале христианской церкви, когда Андрей, брат апостола Петра, пришел в эти страны, чтобы пройти в Рим, таким образом мы на Москве приняли христианскую веру, в то же самое время как вы в Италии, и с тех пор доселе соблюдали ее ненарушимою».172 Официальная литература московского правительства осталась чужда теории третьего Рима, как осталась она чужда и идее византийского наследства через Софию Палеолог. Мечта о Москве — третьем Риме никогда не была движущей силой московской дипломатии. Недаром Максим Грек упрекал русских в том, что они только «своих си ищут, а не яже вышняго».173 Особенно резкие различия в воззрениях греков и русских на значение царской власти сказались в придворных обрядах, выражавших несходные представления о власти обеих стран. Русские великие князья не назывались «святыми», они не принимали участия в богослужении в качестве духовных лиц, они допускали, чтобы во время обряда венчания на царство рядом с ними сидел митрополит, а впоследствии патриарх. Между тем, в Византии императору троекратно возглашалось «свят» во время обряда венчания, он занимал определенное место в богослужении, как духовное лицо, и в качестве такового благословлял народ и кадил в церкви. Он считался выше патриарха, стоявшего при нем во время обряда венчания. В византийском обряде не было обмена речами между иерархом и монархом. Между тем, в русском обряде венчания митрополит (а впоследствии патриарх) и государь обменивались речами, содержание которых знаменательно: после возглашения клиром многолетия венчанному государю митрополит (или патриарх) поучали царя «о полезных» — об обязанностях царя к Богу, к церкви, к царской власти и по отношению к народу. >3 В течение всего XIV и XV вв. для всех русских людей прекращение татарской зависимости и крепкое противоборство татарам были заветным желанием. В договорных грамотах между собой и в княжеских завещаниях, начиная с Дмитрия Донского, постоянно читалось: «переменит бог Орду», или татар.174 Летописи свидетельствуют, что когда Иван III колебался в решимости бороться с Ахматом (1480), мать и дядя великого князя, митрополит и все бояре «молиша его великим молением, чтобы стоял крепко за православное христианство против бесерменству».175 Уничтожение Иваном III зависимости от татар было тем грандиозным и долгожданным событием, с которым связан рост политической теории Русского государства. Сознание собственного достоинства, независимости от какой-либо земной власти и равноправия всем великим державам мира глубоко проникает в дипломатическую практику и политическую теорию русской монархии. Именно после прекращения зависимости от Орды (1480), а не после брака с Софьей Палеолог, начинает Иван III употреблять титул царя в международных отношениях с Любеком, Нарвою, Ревелем и магистром Ливонии.176 Послу германского императора Николаю Поппелю, вторично явившемуся в Москву в 1489 г. с предложением королевского титула, Иван III велел ответить: «мы божиею милостью государи на своей земле изначала, от первых своих прародителей, а поставление имеем от бога, чтобы нам дал бог и нашим детям и до века в том быти, как есмя ныне государи на своей земле, а поставления, как есмя наперед сего не хотели ни от кого, так и ныне не хотим».177 Перед иностранными властителями предстал государь, полный сознанием достоинства своей страны. Именно с года прекращения татарской зависимости растет пышность церемониала московского, появляются новые придворные должности,178 новый посольский обряд. Растет и забота Ивана III о том, чтобы русские послы ни в чем не роняли достоинства Русского государства. Послы Ивана III Плещеев, Голохвостов, Кутузов держат себя при константинопольском дворе не по-азиатски, не становятся на колени перед султаном, и султан разрешает им вести себя так, в то время когда другие европейские послы вынуждены преклонять колена, подвергаются оскорблениям и побоям. Ревниво оберегая честь Русского государства, Иван III внимательно следит за полным равенством отношений с другими европейскими государствами и оказывает иноземным послам такой же прием, какой оказывался русским послам при дворах иноземных государей. Так создавался новый посольский обряд, основанный не на заимствованиях из Византии, а на дипломатической практике. Дипломатические отношения России с западно-европейскими государствами развивались в тесной связи с политической теорией Русского государства. Отсюда под влиянием живых потребностей государственного строительства создается теория исконного величия России и ее правящей династии. Московские дипломаты тонко учитывают ренессансный интерес Западной Европы к античности, сказавшийся не только в искусстве и литературе, но и в политике. Они создают теорию родства московских великих князей с императорами древнего Рима, теорию, подчеркнувшую древность и княжеского рода и управляемой им страны. Отсылая Юрия Грека послом к «цесарю», Иван III дал ему наказ, в случае, если от «цесаря» последует предложение выдать дочь Ивана III за племянника «цесаря», отвечать отказом, так как это не соответствовало достоинству московского государя: «во всех землях то ведомо, а надеемся, что и вам ведомо, что государь наш, великий государь, уроженый изначала от своих прародителей; а и наперед того от давних лет прародители его по изначальству были в приятельстве и любви с передними Римскими цари, которые Рим отдали папе, а сами царствовали в Византии».179 Историческая легитимация власти, долженствовавшая утвердить царское достоинство московских государей, была предпринята в весьма широких масштабах. При том же Иване III было предпринято и создание официальной родословной московских великих князей. Эта родословная, оформленная в «Сказание о князех Владимирских», представляет собою родословную роспись всех известных в истории царей и властодержцев. Она начинается с рассказа о разделе земли между потомками Ноя, продолжается перечнем великих властителей, центральное место в котором занимают сведения об императоре Августе, к которому в средние века и, в особенности, в начале эпохи Возрождения все европейские владетельные роды возводили свое происхождение. Чтобы высоко поднять авторитет московских великих князей, «Сказание» также говорит об их родстве императору Августу, через его брата Пруса, которого Август посадил управлять на побережье Вислы. По имени этого Пруса земля на Висле, как известно издревле населенная славянскими и литовскими племенами, стала называться «Прусская земля». Сюда к племени пруссов, по совету Гостомысла, пришли послы новгородцев искать себе князя. Здесь они нашли Рюрика «суще от рода римска цесаря Августа», положившего затем основу династии русских князей. Заканчивалось «Сказание» рассказом об отвоевании знаков царского достоинства Владимиром Всеволодовичем у Константина Мономаха. После победоносного похода Владимира Всеволодовича во Фракию, побежденный Константин Мономах прислал ему дары — крест «от самого животворящего древа, на нем же распятся владыка Христос», «венец царский», «крабицу сердоликову, из нее же Август кесар веселяшеся», ожерелье, «иже на плещу свою ношаше», и др. «И с того времени, — сообщало «Сказание», — князь великий Владимир Всеволодович наречеся Мономах, царь великие России. И оттоле и доныне тем царским венцом венчаются великие князи владимирские, егда ставятся на великое княжение российское».180 Итак, согласно «Сказанию», московские великие князья ведут свое происхождение от того же римского императора Августа, от которого вели свое происхождение и главнейшие европейские царствующие дома. Русские князья получили свое царское достоинство не по наследству из Византии после ее падения в 1453 г.: они — исконные «государи на своей земле», и их царское происхождение восходит еще ко временам античности. Царские регалии, всегда по праву принадлежавшие русским князьям, возвращены им Владимиром Мономахом силою оружия. Таким образом, эта теория всячески подчеркивала исконное, а не приносное со стороны право русских князей на царский титул, древнюсть и достоинство их рода. В отличие от теории «Москва — третий Рим», не вышедшей за пределы церковных кругов по преимуществу, фантастическая генеалогия русских князей и рассказ о происхождении царского достоинства великих князей от Владимира I и Владимира Мономаха имели широкое распространение в дипломатической практике XVI в. Успех этих идей развивается по мере того, как усложняются иностранные сношения России, по мере дипломатических встреч и посольств к иноземным государям, перед которыми московские великие князья никогда не хотели казаться худородными. Сведениями о родстве великих князей и о венчании Владимира Мономаха полны все официальные памятники XVI в.: Четьи-Минеи митрополита Макария (под 20 сентября), Степенная книга, Воскресенская летопись, Казанский летописец, Царственный летописец и т. д. Повесть о Мономаховых регалиях была вырезана на дверцах царского места в Успенском соборе (1551). Генеалогию русских князей переводят на латинский язык, явно предназначая ее для распространения заграницей. Ссылками на нее пестрят дипломатические памятники XVI в. >4 Были и особые причины, заставлявшие русское правительство с особенною настойчивостью возводить принятие царского титула ко временам Владимира I и Владимира Мономаха. Почти половина русских земель принадлежала в XVI в. Польско-Литовскому государству. Древнейшие русские города — Киев, Чернигов, Полоцк, Смоленск — находились вне русских пределов. Официальная правительственная теория Русского государства выросла в значительной мере из потребностей окончательного объединения Русского государства, присоединения к нему земель, когда-то принадлежавших «прародителям» московских государей — Владимиру I и Владимиру Мономаху. Согласно официальной правительственной теории XVI в., не признававшейся поляками, московские великие князья были наследниками киевских, а Москва выступала в ней наследницей Киева — «вторым Киевом». Под знаком этой борьбы за киевское наследство проходят все дипломатические отношения Русского государства с Польско-Литовским. Пропагандируя свои права на наследство Владимира Мономаха, московские великие князья требовали тем самым признания себя боговенчанными монархами «всея Руси», а следовательно, и тех исконно русских земель, которые находились еще под властью Польско-Литовского королевства. Этим объясняются настойчивость, с которой добивалась московская дипломатия признания русской правительственной теории, и упорство Польско-Литовского государства в отказе признать право московских великих князей на царский титул. Как видно из грамоты папы Сикста IV, написанной в 1484 г. польскому королю, в Польше серьезно опасались, чтобы папа не дал Ивану III титула императора или короля «всея России» («…Imperialem sive regalem dignitatem in, tota Ruthenica natione…»), что явилось бы санкцией на собирание московским государем русских земель.181 В грамоте 1493 г. к литовскому великому князю Александру Иван III впервые в своих сношениях с Литвою назвал себя государем «всея Русии» и велел своему послу Дмитрию Загряжскому титуловать себя так во всех речах к литовскому князю. В случае вопросов о том, почему Иван III титулует себя государем «всея Русии», когда ни он, ни кто-либо из его предков не именовали себя так в сношениях с Литвою, Загряжскому наказано было отвечать: «государь мой со мною так приказал, а кто хочет то ведати, и он поедь на Москву, там ему про то скажут».182 Во второй половине XVI в. уверенность московского правительства в праве на киевское наследство настолько возросла, что московским послам не приходилось более зазывать к себе на Москву иностранных дипломатов для объяснений. Отправляя в 1549 г. послов в Литву для присутствия при обряде крестного целования короля на перемирных грамотах, Иван Грозный наказал им передать королю: «милостию бога вседержителя и родитель наших благословением, на своем государстве царем есмя венчались прежде бывшим венчанием прародителя нашего царя и великого князя Владимера Мономаха».183 В следующем 1550 г., отправляя к королю посла Якова Остафьева, Иван IV дал ему подробный наказ. На вопрос короля о титуловании Остафьев должен был отвечать: «наш государь учинился на царстве по прежнему обычаю, как прародитель его великий князь Владимер Манамах венчан на царство Русское, коли ходил ратью на царя греческого Костянтина Манамаха, и царь Костянтин Манамах тогды прародителю государя нашего, великому князю Володимеру, добил челом и прислал к нему дары, венец царьский и диядиму, с митрополитом ефесским кир [господин] Неофитом, и иные дары многие царьские прислал, и на царство митрополит Неофит венчал, и от [того] времени царь и великий князь Владимер Манамах; и государя нашего ныне венчал на царство Русское тем же венцом отец его Макарей митрополит, занже ныне землею Русскою владеет государь наш один».184 В 1554 г. в наказе послам — боярину Василию Юрьевичу, казначею Федору Сукину и дьяку Ивану Бухарину — снова стояли требование признания царского титула и подробное обоснование этих требований в виде повести о Мономаховых регалиях. Еще раз в 1554 г., отправляя посольство к королю с извещением о завоевании Астраханского царства, Иван IV наказал напомнить королю, что мир между ними возможен только в случае признания его царского титула.185 Снова было наказано послу говорить, что предок царя, Владимир Мономах, венчался на царство, и царь венчался, следуя его примеру. Теория царского титула еще раз выступает в переговорах 1555 г.,186 затем в переговорах 1556 г.187 и т. д. Не было переговоров с Польско-Литовским государством, в которых не возник бы вопрос о царском титуловании, в которых русские не ссылались бы на родство своих государей с Августом кесарем и на царское венчание Владимира Мономаха. Споры по этому вопросу продолжались при Федоре Иоанновиче, Борисе Годунове, Василии Шуйском, Михаиле Федоровиче. В искусстве и литературе конца XV — начала XVI вв. мы найдем все те три составляющие элемента, которые определяли собою и творческую и политическую идеологию Русского государства: широкий учет западно-европейского окружения, подчинение целого в первую очередь общенациональным интересам и постепенное выявление народных начал русской культуры. >5 Идеология Русского государства, его внешняя и внутренняя политика отложились резким отпечатком на внешнем облике Москвы, отныне столичного города большого европейского государства. В своих заботах о внешнем благоустройстве Москвы, московские великие князья стремятся придать ей национальный облик, воплотить в ней национальные идеалы красоты. В отличие от первых строителей Киева, стремившихся соперничать с Константинополем, как в планировке, так и в устройстве отдельных зданий (София в Константинополе и в Киеве, Золотые ворота в Константинополе и в Киеве и др.), Москва организуется как русский город, его строительство учитывает по преимуществу русские традиции. Конец XV в. отмечен объединением соперничавших между собой русских архитектурных школ. Объединительной политике московских великих князей и объединительной политике московских летописцев, соединивших в грандиозных сводах областное русское летописание, соответствуют объединительные тенденции в области московского искусства. В грандиозней строительной деятельности Москвы приняли участие зодчие из Пскова, Новгорода, Твери, Владимиро-Суздальского княжества. Кроме зодчих русских строительных школ, Москва также приглашает зодчих наиболее передовой в архитектурном отношении страны тогдашней Европы — Италии. В Москву приезжает бостонский архитектор и военный инженер Аристотель Фиораванти, затем Антон Фрязин, два Алевиза, Марко Руффо, Пьетро Антонио, Солар, Вон Фрязин и др. В Москве сосредоточивается обширный круг архитекторов эпохи Возрождения. Все эти архитекторы работают по созданию Московского Кремля. Но планировка Кремля была основана не на итальянских, а на чисто русских архитектурных принципах. Ансамбль Кремля по-русски строился открыто во внешнее пространство на крутом берегу р. Москвы. Здания, построенные москвичами, итальянцами, псковичами, стояли рядом, играя контрастирующими формами, группируясь по живописному принципу, чуждому ренессансной ясности соотношений. Знаменательно, что и болонец Аристотель Фиораванти и миланец Алевиз Новый подпали в Москве под мощное влияние русского искусства и сохранили в своих постройках лишь немногие новые для Руси архитектурные приемы. Выстроенный Аристотелем Фиораванти в Московском Кремле Успенский собор (1475–1479) развивал формы предшествовавшей ему русской архитектуры. Прежде чем приступить к постройке Успенского собора, Аристотель совершил обширное путешествие, по русским городам; в Успенском кремлевском соборе сильно отразилось воздействие архитектуры Успенского собора во Владимире и Софии новгородской. Русские формы Успенского собора, связь их с формами владимирского Успенского собора и Софии новгородской не случайны. Иван III строил в Москве центральную святыню объединенного Русского государства. Успенский собор должен был символизировать собою русскую церковь вообще так же, как София константинопольская — греческую, как храм Воскресения: в Иерусалиме — иерусалимскую и т. д. Здесь в Успенском соборе хранилась главная святыня Русского государства — покровительница Москвы икона Владимирской Божьей Матери. Здесь в Успенском соборе происходило венчание на царство московских государей и хиротония епископов всех областей; здесь при гробе митрополита Петра произносилась епископская присяга, и т. д. Иосиф Волоцкий называет Успенский собор «земным небом, сияющим, как великое солнце посреди Русской земли».188 Митрополит Филипп говорит об Успенском соборе, что он, как солнце, сияет благочестием «в всех рускых землях».189 В таких же выражениях говорит об Успенском соборе старец Филофей в своем послании Василию III, и др. Построение нового Успенского собора было отмечено составлением в 1479 г. грандиозного летописного свода, как новая эра в русской истории. Свод этот подробно описывает в последних своих частях новгородский поход Ивана III и присоединение Новгорода; он заканчивался описанием торжественного открытия нового центра вселенского православия. Исходя из идеи Успенского собора как религиозного центра «всея Руси», создаются и все окружающие его постройки. Успенский собор обстраивается целым «кустом» церквей и зданий, в построении которых принимают участие различные архитектурные школы. На месте обветшалых укреплений Дмитрия Донского возводятся новые стены и башни Московского Кремля. Стены были построены по последнему слову фортификационного искусства, сделавшего в XV в. большой шаг вперед в связи с изобретением пороха и огнестрельного оружия. В XV — начале XVI вв. Московский Кремль был сильнейшей крепостью Европы, уступая лишь Миланскому замку, законченному в 1459 г. Своими неприступными укреплениями он как бы символизировал силу и мощь Русского государства. Пышное величие и церемониальная торжественность Московского Кремля находятся в неразрывной связи с идеями государственной власти времени Ивана III. Черты Московского Кремля отразились в стенах Нижегородского Кремля и в укреплениях Серпухова, Тулы, Зарайска в многих других русских городов. Москва, став политическим центром объединенных ею областей, распространяет свое влияние и на искусство периферии. Однако заботы об общем национальном русском облике Москвы этим не ограничились. Национальные задачи, которые стояли перед Русским государством, выставили перед архитектурой проблему переноса в каменное зодчество форм народного деревянного зодчества. Русская архитектура XVI в. идет по пути создания каменного шатрового храма. Простой образец такого храма заключался в деревянной церкви, в которой сплошь и рядом восьмигранный сруб увенчивался высокою кровлею с одной главой наверху. Этот новый тип каменного храма, заимствовавший свои формы из народного деревянного зодчества, постепенно усложняясь, достигает необыкновенной декоративности, отвечавшей народным вкусам. Первые опыты переноса форм деревянной архитектуры в каменную относятся еще к очень давнему времени. Их, повидимому, можно было указать и в домонгольской Руси. Они были и в старой Москве (церковь Ивана Лествичника с колоколами наверху, 1329), и в Новгороде (круглая, «яко столп», церковь в Хутыне, 1445), и в Александровской слободе и др. Однако только в XVI в. это проникновение в каменную архитектуру форм народного деревянного зодчества приобретает широкие размеры и идейную целеустремленность обращения к народным началам. Каменный шатровый храм Вознесения в селе Коломенском, относящийся к 1532 г., — в полной мере русская, народная во всех своих формах архитектура. Храм произвел на современников сильнейшее впечатление. Освящение его было отпраздновано Василием III необычайно торжественно. Летопись отметила его красоту и «величество»: «допрежь такой не было на Руси». Высшее достижение этого народного шатрового стиля XVI в. — собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве (1550–1560), выстроенный русскими зодчими Посником и Бармой, как памятник покорения Казани. Народные формы его архитектуры не были случайностью в строительной практике Русского государства. Иван IV строил собор, «сотворив совет благ» с инициатором ряда культурных начинаний XVI в. — митрополитом Макарием. Очевидно, авторитетное мнение последнего было решающим в принятии нового типа храма. Собор представляет собой группу из 9 «столпов», частью увенчанных шатрами, и рассчитан не столько на пластическое, сколько на чисто живописное впечатление, требовавшее от зодчих особенно тонкого художественного чутья. Храм Василия Блаженного — образец необыкновенной высоты русского строительного искусства, особенно если принять во внимание, что в эпоху его создания ни в России, ни на Западе не были еще известны основы математического расчета устойчивости архитектурных сооружений. Построению каменного собора Василия Блаженного предшествовала (за 9 месяцев) постройка деревянной церкви его на том же месте.190 На этой своеобразной «модели» практически проверялось, очевидно, общее художественное впечатление постройки, силуэт шатров и глав. Построение этой деревянной церкви, за 9 месяцев до заложения каменного храма, отчетливо доказывает гипотезу, выдвинутую еще И. Забелиным, о происхождении форм храма Василия Блаженного из народного деревянного зодчества.191 Итак, и в политике, и в литературе, и в искусстве XVI в. русские стремятся утвердить свое национальное содержание, свои национальные интересы. Россия снова вошла в среду европейских государств как равноправное государство. >VIII „ЗЕМЛЯ“-НАРОД И ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ НАЧАЛА XVII в. >Эпоха крестьянской войны и борьбы с польско-шведской интервенцией представляет собою одну из самых важных страниц русской истории по исключительной сложности и глубине влияния на всю последующую русскую жизнь. Борьба с самозванцами и польско-шведскими интервентами приняла общенародный характер и высоко подняла чувство гражданской ответственности каждого за судьбу родины. >1 Активное участие всего русского народа в обороне родины не раз спасало Русь перед лицом внешней опасности. В 1016 г. население Новгорода потребовало от Ярослава I Владимировича, продолжения борьбы с польским королем Болеславом и изменником Святополком. Новгородцы порубили ладьи, в которых Ярослав пытался бежать за море, и собрали деньги для организации нового войска. В 1068 г. отказ великого князя киевского Святослава раздать оружие населению для борьбы с половцами вызвал восстание киевлян. В 1382 г. покинутые своим князем жители Москвы сами организовали оборону своего города от войск Тохтамыша. Случаев, при которых народ активно брал в свои руки организацию обороны, — не мало, но только в период национальной борьбы начала XVII в. было осознано первостепенное значение народа. Значение народа и, в частности, крестьянства в общей жизни страны получило уже отчетливое отражение в публицистических сочинениях XVI в., поразительных своим широким и свободным обсуждением самых основ государственного устройства. Забота об облегчении тягот крестьянства видна в сочинениях монахов-«нестяжателей», в произведениях Максима Грека, в известной «Беседе Сергия и Германа Валаамских чудотворцев» и, в особенности, в исключительном по оригинальности взглядов сочинении середины XVI в. — «Благохотящим царем Правительница». Здесь с редкой последовательностью проводилась мысль о том, что земледельцы — основа государства, что жизнь страны, ее экономическое и военное могущество целиком зиждутся на труде мирных пахарей. Труд ратаев дает хлеб, который приносится жертвой Богу в таинстве Евхаристии и питает всех от царя и до простых людей. Автор «Правительницы» всячески подчеркивал, что именно земледелие и крестьянство являются в России основой государственного благосостояния. Поэтому следует облегчить крестьянский труд и сообразовать с интересами земледельцев государственное управление. Знаменательно, что многочисленные произведения конца XV–XVI вв. открыто высказываются против рабства, принижающего гражданские и воинские добродетели населения (Иван Пересветов), противоречащего основам христианского человеколюбия. Нередко в публицистических сочинениях XVI в. проводится мысль о естественном равенстве всех перед Богом. Широко задуманные и далеко идущие публицистические сочинения XVI в., ясно сознающие необходимость для государства свободного и граждански сознательного населения, во многих отношениях были общи западно-европейской политической философии XVI в. >2 Идеи публицистических сочинений XVI в. не были пустыми размышлениями досужих книжников: они отражали реальную силу демократических слоев народа, его возросшую гражданскую сознательность и политическую активность. Освободительная борьба начала XVII в. ясно обнаружила глубокое развитие во всех слоях населения чувства гражданского долга, сознание личной ответственности каждого за судьбу всей Русской земли в целом. Жители городов и сельское население — нижегородцы, смольняне, ярославцы, владимирцы, москвичи и т. д. — с готовностью соглашались на всякие личные жертвы ради спасения родины. В своем знаменитом приговоре нижегородцы писали: «Стоять за истину всем безызменно, к начальникам быть во всем послушными и покорливыми и не противиться им ни в чем, на жалованье ратным людям деньги давать, а денег не достанет — отбирать не только имущество, а и дворы и жен и детей закладывать, продавать, а ратным людям давать, чтобы ратным людям скудости не было». На этом нижегородцы дали Богу души свои. Поднятое в Нижнем национальное движение сплотило русских людей. В национальной борьбе начала XVII в. оформилась идея суверенных прав народа в организации своей государственности, всей политической жизни страны и в выборе монарха. В тревожных обстоятельствах борьбы с самозванщиной и польско-шведскими интервентами для врагов и своих становилось ясным, что только тот возьмет верх, кто будет иметь на своей стороне сочувствие большинства русского народа. Отсюда стремление интервентов во что бы то ни стало склонить народ на свою сторону, обмануть его ложными договорами, громкими обещаниями или самозванцами. Отсюда же исключительное значение идеологической борьбы с самозванщиной и интервенцией. Бесчисленные грамоты, послания, обращения, исторические сочинения, политические памфлеты, сказания разъясняют смысл происходящего. Речами поднимает Авраамий Палицын казаков на помощь ополчению. Речами поднимает Минин и протопоп Савва нижегородцев на общенародное дело борьбы с интервенцией. Города сносятся грамотами, призывают друг друга «стояти заодно», «ожить и умереть вместе». С призывом к восстанию обращаются к москвичам жители осажденного польскими интервентами Смоленска. Смольняне просили москвичей переписать их грамоту и послать ее в Новгород, в Вологду, в Нижний. Москвичи и сами писали всем русским городам, призывая итти на выручку столицы. Жители Устюга писали в Пермь, в Новгород, в Холмогоры, на Вычегду, в Сольвычегодск. Нижегородцы писали вологжанам, ярославцам и т. д. Грамоты патриарха Гермогена и троице-сергиевских старцев читались в церквах. Вся страна была охвачена единым патриотическим порывом. Народ ясно осознал себя главной силой в определении исторических судеб родины. В исторических произведениях первых годов XVII в., в бесчисленных грамотах, посланиях и приговорах, всё более и более утверждается мысль о том, что «хранитель» целости и независимости «Московского государства» — сам народ, а не бояре и цари. Мысль эта, встречаемая еще в летописи, только в исторических произведениях о событиях «всеконечного разорения» — «Смуты» первых лет XVII в. — получает законченное выражение. Понятие «земли» как верховной власти ясно выступает уже в «приговоре» 30 июня 1611 г., низводившем «правительство» (Трубецкого, Ляпунова и Заруцкого) в положение подчиненной исполнительной власти, ограниченной в своих действиях ратным советом «всей земли». «Правительство» получало за свой труд жалование и в его руководство были даны точные указания. Реальные разногласия и антагонизм классов, выяснившиеся в земском приговоре 30 июня и в последующих земских соборах начала XVII в., не умаляют значения самой проявившейся в них идеи «всей земли». Народ — разумная среда, через которую проявляется воля божья. «Земля» имеет право избрать не только временное управление, но и «помазанника божья» — царя. Мысль эта была решительною новостью в политической жизни Руси, где в бесчисленных династических спорах XI–XVI кв. прочно утвердилось представление о наследственной княжеской и царской власти. Всего несколько десятков лет назад Грозный жестоко издевался в своих грамотах над Стефаном Баторием, избранным на польский престол «по многомятежному человеческому хотению». В новых обстоятельствах начала XVII в. мысль об избрании царя «всею землею» уже не вызывала возражений во всех слоях общества. Значение воли народа как верховной силы в жизни «земли» ясно подчеркнуто даже в титулах новых деятелей. Пожарский носил титул «по избранию всех людей» или «по избранию всее земли Московского государства всяких чинов людей». Козьма Минин именовался «выборный человек всею землею». Вместо старой приказной власти, явилось выборное начало, явился выборный человек, действовавший от лица «всей земли». Насколько необходимым казалось одобрение «земли», показывает хотя бы то, что нижегородское ополчение еще на походе собирало выборных по городам, заботилось о соблюдении гласности и добивалось единодушия всей земли в своих общерусских начинаниях. Апрельская грамота Пожарского, отправленная по городам, приглашала поскорее прислать в Ярославль «изо всяких чинов людей человека по два». >3 Идея «всей земли» и сознание значения народа, демократических слоев населения в жизни государства резко отразились в общих концепциях московской историографии. Сознание исторической активности народа перерабатывало средневековые представления о силах, движущих историю. В исторические произведения начала XVII в. постепенно входит представление, что историческими судьбами Русской земли руководит не божественное предопределение, а сам народ. Это было огромным шагом вперед в исторических воззрениях начала XVII в. По обычным представлениям средневековья, скорая небесная кара постигала всякий грех. Исторические сочинения XI–XVI в. и русская летопись твердо держались той мысли, что всякое народное несчастье — нашествие врагов, голод, моровое поветрие и т. д. — было божественным наказанием за грехи людей, за их отступление от заветов религии. «Всеконечное разорение» первых лет XVII в. также рассматривалось авторами исторических сочинений о «Смуте», как казнь за грехи. Однако в определении этих грехов авторы начала XVII в. резко расходились со своими предшественниками, выражали новую точку зрения на исторический процесс. «Грехи» русских людей, вызвавшие самозванщину и интервенцию, с точки зрения авторов исторических работ начала XVII в., не были личными грехами отдельных людей, обычными нарушениями христианской нравственности. Внимание авторов привлекают грехи общественные, недостатки гражданственности и общественного самосознания. Благодаря этому, понятие «греха» как основной причины исторических несчастий переносилось из сферы идеальной в сферу реальную. «Грехи» становились реальными причинами общественных бедствий, и в этом авторы сочинений о «Смуте» приближались к новому историческому восприятию причинно-следственной связи событий. Большинство авторов, писавших о «Смуте», подробно останавливалось на тех общественных «грехах» русского общества, которые привели в начале XVII в. к установлению самозванщины и вторжению иноземцев, В описаниях этих «црехов» сказались те новые и повышенные требования, которые предъявило новое народное самосознание к гражданским добродетелям населения. В летописях XI–XVI вв. неоднократно выражались требования соблюдения национальных интересов. Но требования эти обычно были обращены к князьям, к духовенству, к боярам, к дружине. «Смута» впервые предъявила суровые требования к каждому члену общества без исключения. Сами по себе эти требования говорят о новом общественном идеале, воспитанном в годы жесточайшей национальной борьбы. Изобличая общественные пороки, приведшие к «всеконечному разорению», первые писатели о «Смуте» имели в виду повысить чувство гражданской ответственности населения. Дьяк Иван Тимофеев, составивший свой «Временник» около 1619 г., видит начало всех зол в нарушении коренных начал русской жизни и в усилившемся влиянии иноземцев. Правители преклоняли уши свои к «ложным шепотам», придавали значение доносам, вследствие чего люди были «страховиты», «изменчивы», «нестоятельны», «словопревратны», «по всему вертяхуся, яко коло [колесо]». Враги Руси воспользовались этой «превратностью» русских, чтобы наслать к ним «лжецарей». Один из главных общественных грехов русских заключался в том, что в наиболее важные исторические моменты они были безгласны, как рыбы. При всеобщем молчании и попустительстве Борис Годунов преступлением добился престола: «онемеша бо языки их и уста затвориша ото мзды; вся же чувства каша паче страхом ослабеша». Тимофеев особенно выделяет именно этот недостаток «мужественные крепости» — пассивное и раболепное «бессловесное молчание» перед сильными мира сего.192 Еще резче об этом недостатке гражданской смелости говорил в своем «Сказании» Авраамий Палицын. Он называет его — «всего мира безумным молчанием» и в этом «безумном молчании» видит основной общественный порок, повлекший за собой ослабление государства.193 Авторы единодушно говорят о недостатке согласия у русских. Из-за своего «несогласия» и гражданского «немужества», — пишет Тимофеев, — русские не только допустили убийство царевича Дмитрия, но затем «бессловесно» сносили мерзости и тгечестие ииославных. «Разность» эта придала крепость врагам Руси. Враги разорили ее и надругались над ее святынями.194 «Не чуждии земли нашей разорители, но мы сами ее потребители».195 В руках народа — его судьба. Как причину «Смуты», авторы выдвигают и социальную несправедливость, разорение бедных богатыми, взяточничество и неправосудие. Неправедно собранными богатствами не искупить греха: излишни заботы богатых о красоте церквей, если она создалась из граблений и посулов. Бог не принял этой жертвы, и неправедная церковная красота подверглась разграблению иноверных. Настоящий храм божий — сам народ: «Писано бо есть, яко „вы есте храм бога жива“… храм — не стены камяны и древяны, но народ верных…»,196 — говорит Авраамий Палщын, выражая характерную для своего времени мысль о единственной и абсолютной ценности народа. В самом народе — источник его бедствий и его освобождения от иноземного ига. В этом осознании значения народа в исторической жизни страны — пафос эпохи. Авраамий Палицын приводит многочисленные случаи мужественной борьбы русских с иноземными захватчиками. Живо и талантливо рассказывает он об освобождении Москвы и о героической защите Троице-Сергиевой лавры, давая в своем изложении многочисленные примеры народного героизма. Так, например, Авраамий Палицын рассказывает о том, как возмущенный изменой брата простой воин Даниил Селев заменил его собой в рядах бойцов и пал в бою. Таким образом, писатели первой четверти XVII в., изобличая общественные пороки, а с другой стороны, показывая героизм простых и малозаметных людей, создавали новые идеалы гражданского служения родине. Итак, эпоха национальной борьбы с самозванщиной и интервенцией отчетливо выдвинула значение народа («земли») в исторической жизни страны. Это значение народа сказалось непосредственно в ходе событий и было осознано исторически. >4 Насколько глубоко проникли в народ новые исторические представления, показывает «Новая повесть о преславном Российском государстве», написание которой отноштся либо к концу 1610 г., либо к самому началу 1611 г. Она сохранилась в единственном списке; ее автор — какой-то приказный — безвестен; название ее — позднейшее, приписанное чужою рукою сверху. Это прокламация, «подметное письмо», брошенное на улицах Москвы с призывом восстать и изгнать из Москвы гарнизон польских интервентов. «А сему бы есте письму верили без всякого су мнения», — обращается автор к москвичам. Он просит не «таить» его письмо, а распространять среди верных людей: «И кто сие письмо возмет и прочтет, и он бы его не таил, давал бы рассмотряючи и ведаючи своей братии православным христианом прочитати вкратце, который за православную веру умрети хотят, чтобы было ведомо, а не тайно». Изменникам, которые «со враги соединилися», — тем бы «есте отнюдь не сказывали и не давали прочитати».197 Письмо написано со страстной убежденностью, ясным, простым и народным языком, частью прозой, частью стихами.198 «Приидите, приидите православни. Сами видите, — обращается автор письма к москвичам, — какое гонение и утеснение воздвигалось на русских: «Всегда многим смертное посечение, Описав злодеяния польских интервентов, автор восклицает: «То ли вам не весть, Автор не жалеет слов для изобличения бояр-изменников и среди них боярина Салтыкова и думного дьяка Андронова. Но письмо — не простой призыв к восстанию. Оно подробно и разумно освещает создавшуюся в стране обстановку. Автор ставит в пример москвичам граждан осажденного Смоленска, мужеством своим прославивших себя не только в России, но и в Литве, и в Польше, и до самого Рима. «И хотят славне умрети, нежели бесчестне и горько жити».206 На краю государства смольняне храбро отбиваются от врагов, которые под Смоленском, как и здесь в Москве, «на сердцах наших стоят». Если бы не Смоленск, войско Сигизмунда давно было бы в Москве. Русские в Смоленске держат короля не за голову, не за руку, не за ногу, а за самое сердце его злонравное и жестокое. Как русские в Смоленске, так в Москве один против всех отбивается патриарх Гермоген. Как эпический герой, патриарх, «исполин безоружный», поражает врагов словом своим и движет народом, сам оставаясь непоколебимым и неодолимым препятствием для врагов. Если он умрет и народ сам не встанет на свою защиту, то погибнут государство и православие. Автор «письма» приводит своеобразную политическую философию. Восстание на врагов — это «подвиг» и «радение». Только вооруженное восстание может искупить грехи русских людей, за которые Вог покарал русских испытанием иноземного ига. Эта точка зрения исключительна по религиозной смелости. Автор говорит о том, что польские интервенты боятся восстания русских. Они действуют осторожно, стремясь прельстить русских ложным уважением к их святыням. Они стоят с мечом над головою русских людей, постепенно стягивая подкрепления; закрыли кремлевские ворота, оставив для русских только узкие двери, в которых стоит шум и визг, как будто бы давят мышей. Польские интервенты хотят властвовать в Москве, но не имеют достаточных сил. Между тем народ могуществен и велик, как море. В этом «великом и недержанном мори» боятся потонуть интервенты. Поэтому хитростью и лестью они сдерживают его возмущение: «Видя зде в мире колебание «Новая повесть о преславном Российском государстве» — одно из первых в русской литературе выступлений средних классов населения. Ее содержание знаменательно. Ни одно из литературных произведений, вышедших из посадской и приказной среды во второй половине XVII в., не заявляет с такой определенностью о силе и могуществе народного «моря». «Смута» произвела глубокие изменения в политических представлениях русского общества. В момент наибольшей опасности для Руси, когда, казалось, иноземцы прочно укрепились в Москве, когда от Русского государства сохранились лишь кое-какие «останки», когда, наконец, русские сознавали, что не было еще в мировой истории «таково наказания ни на едину монаршию, ниже на царства и княжения, еже случися над превысочайшею Россиею», — в этот момент «последние люди» поднялись на защиту родины. В политических потрясениях «великой разрухи» родилась твердая уверенность в силе народа, родились мысли о «земском деле», о «всей земле»; сознание верховного значения народа и его интересов в государственной жизни страны. Это новое политическое сознание, выросшее в ужасах «последнего разорения», когда низшие и средние классы сделали отчаянное усилие для спасения Руси, — явилось предвестием нового времени. >Комментарии id="c_1">1 Доклад на Съезде советских писателей 17 августа 1934 г. id="c_2">2 Изд. 3, Л., 1939, стр. 5. id="c_3">3 А. А. Шахматов. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908, стр. 226 и др. id="c_4">4 См. об этом: Д. И. Прозоровский. Новые разыскания о новгородских посадниках. СПб., 1892, стр. 3. id="c_5">5 Лаврентьевская летопись под 985 г. id="c_6">6 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 377. id="c_7">7 Там же, стр. 378. id="c_8">8 Всев. Миллер. Очерки русской народной словесности, т. II. 1910, стр. 1–31. id="c_9">9 Марков. Беломорские былины. М., 1901, №№ 50 и 80. id="c_10">10 Астахова. Былины Севера, т. I. М.-Л., 1938, № 15. id="c_11">11 А. В. Марков. Из истории русского былевого эпоса, вып. 1. 1905, стр. 30–66. id="c_12">12 Повесть временных лет под 1061 г. Мотив загадывания загадки с последующим убийством неудачного отгадчика и др. id="c_13">13 Здесь и далее, слова в цитатах, взятые в прямых скобках, принадлежат автору настоящей работы Д. С. Лихачеву. id="c_14">14 Провар — то количество меда, которое можно сварить за один раз, — очевидно несколько ведер. id="c_15">15 Ипатьевская летопись под 964 г. id="c_16">16 Шелковые ткани. id="c_17">17 Ипатьевская летопись под 970 г. id="c_18">18 Там же под 971 г. id="c_19">19 Там же под 1201 г. id="c_20">20 Лаврентьевская летопись под 945 г. id="c_21">21 Там же. id="c_22">22 См. его Historia V, 7. Migne SGr. 133 col., 569–581. id="c_23">23 Пл. Соколов. Русский архиерей из Византии. Киев, 1913, стр. 12–13. id="c_24">24 В. Г. Васильевский, Труды, т. I, стр. 304. id="c_25">25 Аналогично смотрел на болгар Василий Болгаробойца, отказавшийся видеть в них воюющую сторону и тысячами ослеплявший пленных болгар, как бунтовщиков. id="c_26">26 Мы не останавливаемся на спорной проблеме Охридского архиепископата, в данном случае для нас несущественной. См. об этом: М. Д. Приселков. Очерки по церковно-долитической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 1913, стр. 33 и сл. id="c_27">25 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 539 и сл. Мы пользуемся гипотетическим восстановлением свода у Шахматова. Однако к какому времени ни относить составление свода Ярослава и в каком объеме его ни восстанавливать, — общий характер свода от этого не меняется. id="c_28">28 М. Д. Приселков. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 1913, стр. 82. id="c_29">29 Там же, стр. 84. id="c_30">30 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940. стр. 26. id="c_31">31 М. Д. Приселков. Очерки…, стр. 82. id="c_32">32 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 553. id="c_33">33 Там же, стр. 556–557. id="c_34">34 Там же, стр. 562. id="c_35">35 Там же, стр. 577. id="c_36">36 Там же, стр. 546–547. id="c_37">37 Там же, стр. 578. id="c_38">38 Там же, стр. 542. id="c_39">39 Там же, стр. 550. id="c_40">40 Там же, стр. 547. id="c_41">41 Там же, стр. 563. id="c_42">42 Там же, стр. 564. id="c_43">43 Там же, стр. 583–584. id="c_44">44 Там же, стр. 583. id="c_45">45 Акад. Б. Д. Греков. Развитие исторических наук в СССР за 25 лет. Под знаменем марксизма, 1942, № 11–12. id="c_46">46 Памятники древне-русской церковно-учительной литературы, под ред. А. И. Пономарева, вып. I. СПб., 1894, стр. 59. id="c_47">47 Там же, стр. 59. id="c_48">48 С. П. Шевырев. История русской словесности, ч. 2. Изд. 2, М., 1860, стр. 26. id="c_49">49 Памятники…, стр. 63. id="c_50">50 Там же, стр. 62. id="c_51">51 И. Н. Жданов, Соч., т. I, стр. 80. id="c_52">52 Памятники. стр. 66. id="c_53">53 Общее оптимистическое жизнерадостное содержание «Слова», настроение торжества, повидимому, свидетельствуют о том, что «Слово» возникло до похода Владимира Ярославича 1043 г. id="c_54">54 М. Д. Приселков. Очерки…, стр. 66 и сл. id="c_55">55 А. А. Шахматов. Сборник статей в честь В. И. Ламанского, Ч. II. СПб., 1906, и рец. Шестакова, Журнал Мин. нар. просв., нов. серия, ч. XIII, 1908, январь. id="c_56">56 И. Н. Жданов, Соч., т. I, стр. 19. id="c_57">57 Памятники…, стр. 67. id="c_58">58 Там же. id="c_59">59 Там же, стр. 68 (исправляю в тексте опечатки издания. — Д. Л.). id="c_60">60 Там же, стр. 69. id="c_61">61 Там же, стр. 69. id="c_62">62 Там же, стр. 69–70. id="c_63">63 Там же, стр. 70. id="c_64">64 Там же. id="c_65">65 Там же, стр. 70. id="c_66">66 Там же. id="c_67">67 Там же, стр. 70. id="c_68">68 Там же. id="c_69">69 Там же, стр. 72. id="c_70">70 Там же, стр. 73. id="c_71">71 Там же, стр. 75. id="c_72">72 Там же, стр. 78. id="c_73">73 Первоначально считали, что «Слово» было направлено против иудейского учения. Мнение это опроверг акад. И. Н. Жданов (Соч., т. I, 1872; стр. 1–80). id="c_74">74 В. М. Истрин. Очерк истории древнерусской литературы; т. II. 1922, стр. 131. id="c_75">75 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 398 и сл. id="c_76">76 М. Д. Приселков. Очерки…, стр. 98. id="c_77">77 Памятники…, стр. 74. id="c_78">78 Там же. id="c_79">79 Д. В. Айналов и Е. Редин. Древние памятники искусства Киева, т. X. 1899, стр. 5. id="c_80">80 Памятники…, стр. 60. id="c_81">81 А. А. Шахматов. Разыскания…, стр. 583. id="c_82">82 Памятники…, стр. 74. id="c_83">83 Д. В. Айналов и Е. Редин. Древние памятники…, т. X. 1899, стр. 39–40. id="c_84">84 Памятники…, стр. 65. id="c_85">85 Там же…, стр. 75. id="c_86">86 Памятники древней письменности, т. 81, стр. 25. См. об этом: Пл. Соколов. Русский архиерей из Византии. Киев, 1913, стр. 51. id="c_87">87 Акты и стар., I, № 78, стр. 128. id="c_88">88 См. выше в послании митрополита Феодосия 1464 г. id="c_89">89 Прибавления к творениям св. отец, т. II, стр. 255. id="c_90">90 Разыскания…, стр. 582. id="c_91">91 Акад. Н. К. Никольский. О древнерусском христианстве. Русская мысль, 1913, кн. 6, стр. 12. id="c_92">92 М. Д. Приселков. Борьба двух мировоззрений. Сб. «Россия и Запад», под ред. А. И. Заозерского. II, 1923. id="c_93">93 М. П. Петровский. Иларион, митрополит Киевский, и Доментиан, иеромонах хнландарский. Известия ОРЯС, 1908, кн. 4. id="c_94">94 История русской литературы, т. I. Изд. Инст. литер. Акад. Наук СССР, М.—Л., 1940, стр. 271 (гипотеза покойного В. Л. Комаровича). id="c_95">95 Лаврентьевская летопись под 1054 г. id="c_96">96 Ср. в «Слове о полку Игореве» — «земля незнаема» — половецкая степь. id="c_97">97 Лаврентьевская летопись под 1093 г. id="c_98">98 Там же, введение. id="c_99">99 Т. е. наваром из кислой травы, которым мылись в бане. id="c_100">100 Лаврентьевская летопись, введение. id="c_101">101 Там же под 992 г. id="c_102">102 Там же под 1097 г. id="c_103">103 Там же. id="c_104">104 Там же. id="c_105">105 Ипатьевская летопись под 1097 г. id="c_106">106 Лаврентьевекая летопись под 1097 г id="c_107">107 Там же. id="c_108">108 Там же. id="c_109">109 Там же под 1096 г. id="c_110">110 Там же под 1095 г. id="c_111">111 Акад. Б. Д. Греков. Киевская Русь. Изд. 3, M.-Л., 1939, стр. 277. id="c_112">112 Н. И. Брунов. К вопросу о самостоятельных чертах русской архитектуры X — ХII вв. Сб. «Русская архитектура», 1940. id="c_113">113 История русской литературы, т. I. Изд. Инст. литер. Акад. Наук СССР, М. — Л., 1941, стр. 212 и сл. id="c_114">114 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 44. id="c_115">115 Новгородская летопись по Синод. сп., изд. 1888 г., стр. 145. id="c_116">116 Там же, стр. 160. id="c_117">117 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 40. id="c_118">118 А. Е. Пресняков. Лекции по русской истории, т. I. 1938, стр. 239. id="c_119">119 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 64. id="c_120">120 А. А. Шахматов. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв., Л., 1938, стр. 131. id="c_121">121 Предлагаемая ниже характеристика черниговского летописца несколько расходится с построением истории русского летописания XII в. в работах А. А. Шахматова и М. Д. Приселкова. id="c_122">122 Ипатьевская летопись под 1185 г. id="c_123">123 Акад. А. С. Орлов. Слово о полку Игореве. Л., 1938, стр. 48. id="c_124">124 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXII, М.—Л., 1931, стр. 48. id="c_125">125 «Кощей» (от тюркского «кошчи») — конюх, обозный, раб, пленник. «Чага» (от арабского asaha) — невольница. «Ногата» и «резань» — древнерусские единицы. id="c_126">126 А. Рублев умер в 1427 или 1430 г., в возрасте около 60–70 лет. Следовательно, надо считать, что он родился в 60-х — 70-х годах XIV в. id="c_127">127 Н. Каринский. Русская надпись в люблинском тюремном костеле. Известия Археологической комиссии, вып. 55, Пгр., 1914; акад. А. Соболевский. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. Спб., 1910; он же. Русские фрески в старой Польше. М., 1916; F. Kopera. O malarstwie bizantyskiem w Polsce. Polski Muzeum, Z. VIII, Krakow. id="c_128">128 К. Иречек. История болгар. Одесса, 1878, стр. 984–986. id="c_129">129 И. Ягич. Исследования но русскому языку, т. I, стр. 396 и др. id="c_130">130 А. А. Шахматов. Общерусские летописные своды XIV и XV веков. Журнал Мин. нар. просв., 1900, т. IX, стр. 91. id="c_131">131 М. Д. Приселков. История русского летописания XI–XV вв. Л., 1940, стр. 113 и сл. id="c_132">132 Датировка М. Д. Приселкова (там же, стр. 128 и сл.). id="c_133">133 См. об этом подробно: А. А. Шахматов. Общерусские летописные своды XIV и XV веков. Журнал Мин. нар. проев., 1901, т. XI, стр. 73–77. id="c_134">134 Характер этой перемены вскрыт В. Л. Комаровичем в главе «Московские летописи» II тома академической «Истории русской литературы». М.—Л., 1945. id="c_135">135 См.: Летописец Рогожский. Полное Собрание русских летописей [ПСРЛ], т. XV, изд. 2, вып. 1, 1922, стр. 144 и сл.; Симеоновская летопись. ПСРЛ, т. XVIII, 1913, стр. 131 и сл. id="c_136">136 Симеоновская летопись. ПСРЛ, т. XVIII, СПб., 1913, стр. 156. id="c_137">137 Там же, стр. 157. id="c_138">138 Там же, стр. 158. id="c_139">139 Там же, стр. 159. id="c_140">140 Проф. Н. Н. Воронин. Владимиро-суздальское наследие в русском зодчестве. Архитектура СССР, 1940, № 2; И. Грабарь. Андрей Рублев. Вопросы реставрации, вып. 1, стр. 65 и сл.; 0 росписях Успенского собора во Владимире, там же, стр. 22–33. id="c_141">141 Ср., например, в Симеоновской летописи, где татары названы половцами под 1378 г., а татарская степь — половецкой под 1380 г. и т. д. Ср. также Летописец Переяславля Суздальского, где печенеги и половцы неоднократно называются татарами. Очевидно, «Повесть временных лет» воспринималась современниками Донской битвы в сопоставлении с событиями этой современности. История Руси представлялась историей непрекращающихся войн со степными народами, войн за независимость. id="c_142">142 Ф. Буслаев. Рецензия на работу О. Миллера «Илья Муромец и богатырство Киевское». Журнал Мин. нар. просв., 1871, 4, стр. 217. id="c_143">143 А. Н. Веселовский. Из введения в историческую поэтику. Собр. соч., т. I, стр. 36–37. id="c_144">144 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 443. id="c_145">145 Ю. Н. Дмитриев. К истории новгородской архитектуры. Новгородский исторический сборник, вып. 2, Л., 1937. id="c_146">146 Новгородская IV летопись. ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, Л., 1925, стр. 444. id="c_147">147 Новгородская III летопись. Новгородские летописи, СПб., 1879, стр. 271. id="c_148">148 В. Яблонский. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб.1908, стр. 100. id="c_149">149 Памятники старинной русской литературы, издававшиеся Кушелевым-Безбородко, вып. 4, 1862, стр. 30. id="c_150">150 ПСРЛ, Т. IV, Ч. 1, вып. 2, Л., 1925 стр. 448. id="c_151">151 Там же, стр. 446. id="c_152">152 Там же, стр. 447. id="c_153">153 Там же, стр. 498. id="c_154">154 Там же, стр. 504. id="c_155">155 Там же, стр. 513. id="c_156">156 Софийская II летопись под 1471 г. id="c_157">157 См. подробнее: А. А. Шахматов. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв. Л., 1938, стр. 371 и др. id="c_158">158 Софийская II летопись под 1475 г. id="c_159">159 Проф. Успенский. Брак царя Ивана III. Исторический Вестник, 1887, № 12, стр. 689. Ср. также: О. Пирлинг. Россия и Восток, стр. 103, 166. id="c_160">160 Сборник импер. Русского исторического общества, т. 53, стр. 85 и сл. id="c_161">161 Там же, стр. 91. id="c_162">162 Там же, стр. 92. id="c_163">163 Там же, стр. 86. id="c_164">164 Софийская II летопись под 1481 г. id="c_165">165 Сочинения Максима Грека, 1889, «Слово» VII. id="c_166">166 Н. П. Лихачев. Инока Фомы слово похвальное о князе Борисе Александровиче! СПб., 1906. id="c_167">167 По мнению некоторых исследователей — Ивана IV. id="c_168">168 В. Малинин. Старец Елеазарова монастыря Филофей… Киев, 1901» стр. 547. id="c_169">169 Малинин, там же, Приложение, стр. 50. id="c_170">170 Православный собеседник, 1861, ч. II, стр. 297. id="c_171">171 Отличие теории Филофея от официальной идеологии московского правительства отмечает и В. Малинин. Он пишет о Филофее: «у него с большею полнотою и определенностью выступает теория мирового призвания России, как царства не только единственно православного, но и последнего, призванного существовать до конца вселенной. Отсюда в несколько ином обосновании выступает у него и теория царской власти» (Старец Елеазарова монастыря Филофей… 1901, стр. 616). id="c_172">172 Suppl. ad Historica Russiae Monumenta, p. 102. Цитирует Е. Голубинский. История русской церкви, т. I, ч. 1, стр. 8. Предание о посещении апостола Андрея попадает в XVI в. в Степенную книгу (I, 95–97) и другие. id="c_173">173 Сочинения Максима Грека, 1889, «Слово» VII. id="c_174">174 Собрание государственных грамот и договоров (СГГиД), т. I, стр. 71, 73, 78, 81, 84, 87, 89, 92, 98, 101, 103, 108, 111, 114, 117, 120, 122, 125,128, 131, 348, 158, 161, 164, 167, 180, 184, 197, 201, 205, 229. id="c_175">175 ПСРЛ, т. VI, стр. 20 и 224; т. VIII, стр. 206; Никоновская, т. VI, стр. 112. id="c_176">176 Памятники дипломатических сношений древней Руси с державами иностранными, т. I, стр. 46, 47, 59–61, 87, 96–93, 114. id="c_177">177 Там же, стр. 12. id="c_178">178 В 1495 г. при дворе Ивана III появились новые чины: казначея, постельничьего, ясельничего, и с 1496 г. — конюшего (М. П. Шереметьев. Список старинных бояр, дворецких, окольничьих и некоторых других придворных чинов. Др. Российская Вивлиофика, т. XX, изд. 2, стр. 8). id="c_179">179 Памятники дипломатических сношений…, т. I, стр. 17. id="c_180">180 И. Н. Жданов. Русский былевой эпос. Исследования и материалы, т. I–V, СПб., 1895. id="c_181">181 Theiner. Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, т. II, № 257. Romae, an. 1861. Цитирует: В. Савва. Московские цари и византийские-василевсы, 1901, стр. 274. id="c_182">182 Сборник импер. Русского исторического общества, т. 35, стр. 80–82 и др. id="c_183">183 Там же, т. 59, стр. 309 и сл. id="c_184">184 Там же, стр. 345. id="c_185">185 Там же, стр. 451. id="c_186">186 Там же, стр. 474 и сл. id="c_187">187 Там же, стр. 504 и сл.; стр. 519 и сл. id="c_188">188 Иосиф Волоцкий. Просветитель. Печати, изд. Казанск. духовн. акад.,л. 57. id="c_189">189 Русская историческая библиотека, т. VI, столб. 723. id="c_190">190 См. «Летописец Русский», изданный А. Н. Лебедевым (Чтения в Обществе истории и древностей российских, 1895, вып. 3), — известие о построении храма Покрова в октябре 7063 г. (1553) (стр. 31) и затем под июнем 7063 г. (1554): «Того же месяца благоверный и христолюбивый царь и великий государь велел заложит церковь камену Покров Пречистыя Богородицы о девяти верхах, которой был преже древян о Казанском взятии у Фроловских ворот» (стр. 36). id="c_191">191 И. Забелин. Черты самобытности в древнерусском зодчестве. id="c_192">192 Русская историческая библиотека, т. XIII, СПб., 1892, стр. 463 и сл. id="c_193">193 Там же, стр. 479. id="c_194">194 Там же, стр. 463 и сл. id="c_195">195 Там же, стр. 465. id="c_196">196 Там же, стр. 516–517. id="c_197">197 Там же, стр. 218. id="c_198">198 Стихотворная форма «Новой повести» до сих пор не была отмечена. id="c_199">199 Русская историческая библиотека, т. ХIII, стр. 200. id="c_200">200 Там же, стр. 210. id="c_201">201 Траве. id="c_202">202 Русская историческая библиотека, т. XIII, стр. 210. id="c_203">203 Слова, заключенные в скобки, очевидно, позднейшая разъясняющая вставка. id="c_204">204 Русская историческая библиотека, т. XIII, стр. 212. id="c_205">205 Там же, стр. 213. id="c_206">206 Там же, стр. 189. id="c_207">207 Там же, стр. 202. |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Вверх |
||||
|
|
||||
