|
||||
|
|
Афины. Школа ГрецииКогда Сократ прошел по Агоре, задавая людям вопрос: что такое быть отличным человеком, – он нашел много знатоков, каждый из которых был отличным специалистом в каком-то искусстве или ремесле – кто в поэзии, кто в политике, кто в гончарном деле, и каждый был склонен довольствоваться своими познаниями. Только сократовские вопросы показали, что глубокие познания в какой-то узкой области не помогают дать верный ответ, когда речь заходит о конечных целях и ценностях. Вопросы об этих целях и ценностях имеют большое значение для любой человеческой деятельности, но ответы на них невозможно отыскать в какой-нибудь симпатичной, чисто убранной комнате, где есть подходящий эксперт, который даст ответ. После двух веков, когда философские исследования, как мы уже знаем, велись на границах греческого мира, в пору своего самого яркого расцвета вступили Афины, и во второй части нашего рассказа о греческих мыслителях события будут происходить именно в этом городе1. В течение V века до н. э. Афины стали не только столицей Греции, но и центром ни с чем не сравнимой по своей высоте культуры. Никогда ни один западный город не мог соперничать с Афинами по уровню культурных и политических достижений. Этот культурный расцвет начался после победы над Персией в 470 году до н. э. Мощный флот позволил афинянам создать империю на островах Эгейского моря; рост торговли сделал Афины главным центром грузовых перевозок и главным рынком и принес им все возраставшее экономическое процветание. Новые, ни с чем не сравнимые храмы выросли на Акрополе вместо разрушенных персами алтарей. В театре шли пьесы Эсхила, Софокла, Еврипида и Аристофана. В скульптуре работали Фидий и его современники. В исторической науке, в ораторском искусстве, в чеканке монет, в гончарном деле – во всем Афины поднялись на новый высокий уровень. И вместе с ростом военной мощи, торговли и искусства развивалась афинская философия. Этот великий культурный взрыв обеспечил подъем философии в Афинах, наполнив ее тем духом приключения и риска, который, видимо, необходим для любого движения по новому пути2. В этом городе все было увлекательно, здесь сошлись пути всех новых разработок. Политические эксперименты вели Афины от прежней аристократической системы к новой демократии, основой которой стало собрание горожан; афинские граждане все время взволнованно следили за этим движением и увлеченно в нем участвовали. Коммерческая экспансия Афин как крупнейшего центра торговли еще больше усиливала воодушевление афинян, их жажду деятельности и чувство новизны. Поражение Афин – победа над ними Спарты, завершившая Пелопоннесскую войну в 404 году до н. э., – не остановило афинских художников и писателей. В следующем после этого веке творили Платон и Аристотель, а драматургия и скульптура продолжали развиваться с тем же блеском, что и раньше. Возраставшее богатство Афин и все большая классовая мобильность афинского общества как магнит притягивали художников и мыслителей. Глава Афин Перикл собрал вокруг себя кружок писателей, скульпторов и поэтов, и его покровительство делало этот город еще привлекательнее. Афиняне впервые стали знакомиться с ионийской наукой «из первых рук» – узнавать ее от самих ионийцев в лице Анаксагора, выдающегося молодого астрофизика, которого пригласил в Афины Перикл3. В Афины переселились также софисты, группа странствующих преподавателей красноречия и права, которые достаточно быстро теряли терпение от «рассуждений, не приносящих практической пользы», но на удивление эффективно обучали молодых людей, сильно желавших сделать себе карьеру4. Встреча науки и софистики в Афинах привела Сократа к исследованию природы человеческого «я», что стало революцией в развитии греческой мысли5. Афины времен Сократа с их новыми границами в мире искусства стали тем фоном, на котором произошла систематизация философии у Платона и его ученика Аристотеля6. Для более ранних греческих философов основной проблемой были интуитивное постижение истины и радикальные нововведения. В Афинах природа уже не играла первостепенной роли в повседневной жизни, поскольку техника дала людям нечто новое: они перестали напрямую зависеть от условий, задаваемых природной средой. Колебания рынка стали значить для людей столько же, сколько приливы и отливы моря; шест и водяные часы стали такими же важными средствами измерения времени, как вращение звезд; бани и тенистые портики смягчали для горожан суровость погоды в разные времена года7. Благодаря трудам ионийских и италийских первопроходцев мир природы и абстрактный мир форм уже не ждали, окутанные туманом традиции, чтобы кто-то бросил на них первый беглый взгляд. Отступления от обычаев и яркие вспышки интуитивного прозрения раз за разом освещали по частям этот неизвестный мир, открывая для людей естественные науки, математику, астрономию, технику, формальную логику, и наконец осветили его весь. Теперь нужно было развить и закрепить достигнутое. Должно быть, постоянное ощущение этого было самой сутью Афин – города, где люди отделили одно от другого понятия «деловое» (спекуляция на рынке) и «интеллектуальное» (отвлеченное рассуждение), чего наверняка не было во времена Фа-леса. Афинская политика складывалась как равнодействующая интересов многих групп. За исключением тех сорока лет, когда городом управлял Перикл, центральная власть никогда не была на уровне стоявших перед ней задач сдерживания центробежных сил коммерческого успеха и эффективного использования новых достижений культуры в качестве движущей силы. В области философии первое большое расширение старых границ произошло, когда Сократ заметил, что до его дней ученые и учителя, интересуясь внешним миром природы или внешним миром практической деятельности, не обращали внимания на человека-наблюдателя. Сократ признавал, что понимание человеческой натуры – дело трудное и важное из-за особой сложности человеческого «я» и почти парадоксального сочетания сознания того, что жизнь коротка, с верой в бессмертие. Начиная с Сократа греческая философия никогда не забывала, что «мир реальности», который она должна объяснить, не только включает в себя наблюдаемый порядок физического мира, но и характеризует наблюдателя. Она должна также дать какое-то достойное доверия объяснение тому, как безличное совпадение по времени физических факторов и сознательной деятельности человека, направленной на достижение ценной для него цели, могут сосуществовать в повседневной реальности одновременно. Великие афинские философы Платон и Аристотель постоянно сознавали, что реальность имеет много измерений и что специализация становится возможной, если сосредоточить внимание только на одном из них. Другие философы обычно оказывались гораздо менее понятными, чем Платон и Аристотель, когда формулировали представление о границах реальности, которую им надо было постичь. Чтобы по-новому увидеть один из аспектов реальности, нужны гениальность и самобытность. Это верно не только для глубокой древности, но также для Средневековья и современности. Афины сами по себе были средой, где философия могла так же, как искусство и наука, наполниться духом исканий, оптимизмом и творческой силой, но при этом (благодаря постоянно напоминавшим об этом крупным достижениям во всех областях) не забывать, что в итоговой структуре реального мира должно быть место для таких не похожих одна на другую областей жизни, как театр, рынок, Акрополь и школа. Рост специализации заставил философов осознать, что место философии в мире изменилось. Конечно, было необходимо расширять эту науку, включив в нее такие вопросы о различных вещах и областях, которыми не задавались философы, жившие раньше. Но столь же было важно объять философской идеей различные специализированные области знания. Поэт, торговец, политик, атлет, врач – каждый человек имел дело только с одним измерением реальности. А делом философии было объединить воедино все эти измерения. Великие открытия Платона и Аристотеля в области образования частично были ответом на это требование жизни. Афинянам приходилось решать одну из наших самых неотложных и жгучих проблем – как узкие специалисты в различных областях могут общаться и сотрудничать друг с другом, не отказываясь от выгодных сторон специализации8. Достаточно провести в современных Афинах совсем немного времени, чтобы полностью уяснить себе, что Древние Афины действительно преподали своим философам незабываемые уроки того, как важны и полны жизненной силы те несколько миров – торговля, искусство, религия, политика, – которые соседствовали друг с другом в этом городе и временами сотрудничали, но чаще конфликтовали между собой. На южном склоне Акрополя до сих пор стоит театр Диониса. С любого зрительского места, начиная с красивых каменных кресел, которые предназначались для обладателей высоких религиозных должностей (на каждом сиденье вырезано название должности), до самого верхнего яруса, где места предоставлялись бесплатно, чтобы привлечь к театру симпатии народа, вы можете увидеть в своем воображении, как артисты хора вприпрыжку проходят по сцене в комедии Аристофана «Облака», когда автор высмеивает новые идеи, которые считает нежелательными и завезенными из чужих стран; а если изменится настроение, вы можете представить себе Эриний, которые преследуют Ореста и гонят его на последний суд, или хор троянок, в котором Еврипид, говоря о прошлом, высказывался по поводу внешней политики Афин, или же Эдипа, говорящего о том, что нужно «прояснить то, что неясно». В этом городе философы не могли не замечать того, что было предметом поэзии: судьба, мифы, воображение, поиски истины и пути к власти. У подножия северного склона Акрополя находятся храм Гефеста и древняя Агора9. Свойства мира Агоры – публичность, конкурентность и практицизм: эта площадь была центром ремесел и торговли, где с помощью монет, гирь, стандартных единиц измерения, часов и столиков менял конкуренцию старались загнать в границы общественных отношений, которыми правила деловая этика. Мир Агоры – это также техническое мастерство и огромная изобретательность, которая проявлялась в создании новых инструментов для выполнения различных дел – от охладителя для вина до машины для выбора судей10. Этот мир в корне отличался от театра по своей фактуре, звуковому и смысловому наполнению: здесь велениям судьбы уделяли меньше внимания, чем спросу и предложению, и Орест с Агоры видел в безумном бреду не преследующих его богинь мести, а кредиторов, которые гонятся за ним. За Агорой проходит проспект Академии. Он идет мимо старых двухпилонных ворот на запад через кладбище квартала Керамик. Когда-то это была широкая, обсаженная деревьями улица, на всем протяжении которой стояли памятники умершим афинянам, а за ней возле большого общественного сада был раскопан фундамент Академии Платона11. Акрополь, который возвышается над этим многоликим городом, должно быть, казался тогда, как кажется и теперь, земным воплощением идеала, существующей вне времени точкой фокуса, которая придает стройный порядок картине шумящей под Акрополем жизни и воскрешает эту жизнь в памяти12. АнаксагорУм упорядочивает все
Анаксагор, молодой ученый и философ, приняв приглашение Перикла, вошел в блестящий круг людей искусства и государственные деятелей, собравшихся в Афинах1. Он внес в греческую философию три новые идеи. Во-первых, разработал идею о том, что материя непрерывна. Это – один из способов обойти парадоксы Зенона, поскольку и пространство и время приобретают способность делиться бесконечно. Во-вторых, он предложил новую концепцию разума и его места в мироздании: разум остается чистым, хотя все остальные вещи смешиваются друг с другом. Это еще не был дуализм сознания и материи, но это был важный шаг в этом направлении. В-третьих, он сформулировал новый способ связывания двух измерений – разума и материи: он увидел в разуме движущую силу, которая приводит в движение материю. Уроженец города Клазомены Анаксагор выдвинул теорию о том, что небесные тела – это камни, которые вращаются вокруг Земли и держатся на своих местах благодаря быстроте движения. Эта идея явно приобрела довольно широкую известность, и ее посчитали смешной: как могут быть камни высоко в небе? Но когда в 467 году до н. э. в Эгоспотамах на Сицилии упал огромный метеорит, его падение сочли наглядным доказательством того, что в странных теориях молодого ученого что-то есть, а некоторые источники утверждают, что Анаксагор предсказал появление метеорита. Вероятно, именно этот случай и привел Перикла к решению выбрать молодого ионийца Анаксагора, которому тогда еще не было и тридцати лет, «ученым советником» для своей афинской группы ведущих людей культуры2. Анаксагор прожил в Афинах тридцать лет – до тех пор, пока политическая удача не отвернулась от Перикла и против самого Анаксагора не выдвинули обвинение в непочитании богов, из-за которого он был вынужден уехать в город Аампсак. В многочисленных и разнообразных историях из жизни Анаксагора, которые известны нам, он вылядит ученым-исследователем, легко выходившим из себя, когда люди или события в жизни общества заставляли его прервать работу. Нам известно, что он общался с Периклом, Еврипидом и молодым афинским энтузиастом науки по имени Архелай, который позже основал в Афинах школу по подготовке ученых. С другой стороны, Сократ, который в то время был молод и был в восторге от новых появившихся в Ионии идей, видимо, никогда не встречался с Анаксагором; а когда в Афины приехал Демокрит, Анаксагор не нашел времени, чтобы увидеться с ним3. И все же идеи Анаксагора, несмотря на его необщительность профессионала, в своей популярной форме привлекли внимание афинян, и новые научные идеи, бросавшие вызов традициям, вызвали противодействие и дискуссии. Идеи Анаксагора – это четкая формулировка тех интуитивных представлений о непрерывности изменчивых процессов природы, которые Гераклит выразил в форме афоризмов. Анаксагор также расширил поле деятельности ионийской науки, которая раньше занималась только материей и ее движением, распространив исследования на более широкую область явлений, куда входил и разум, а также попытался объяснить отношения между материей и разумом. Эти представления о разуме (то есть сознании), о материи и об их отношении друг к другу были основным вкладом Анаксагора в развитие греческой философии. Оглядываясь назад, мы впервые видим предвосхищение дуализма материи и сознания4 – центральной проблемы западной мысли с конца эпохи Древнего Рима до сегодняшнего дня. Сам Анаксагор не проводил того очень четкого различия между сознанием и материей, которое появилось у более поздних мыслителей: в его представлении сознание было в некотором смысле еще слишком материальным, а материя – слишком духовной, чтобы они оказались полностью противоположны друг другу и между ними не было бы никакого связующего звена. По-новому формулируя интуитивное представление Гераклита о том, что «все течет», Анаксагор осторожно обошел логические трудности, на которые указали Парменид и Зенон. Материя непрерывна, она не состоит из отдельных точек или частиц; она течет, а не движется скачками из одной точки в другую. Материя в представлении Анаксагора – это текучая смесь различных качеств, а не похожее на лед «вещество», которое занимает определенное пространство и «является опорой» для качеств. Если бы все, что существует, действительно было таким протяженным в пространстве веществом-опорой, изменения не могли бы быть реальными. Атомисты были вынуждены, чтобы допустить изменение, ввести в свою систему, наряду с «бытием», еще и «небытие» – пустое пространство. А Эмпедокл, кажется, пришел к логическому противоречию: его четыре корня отличались друг от друга по форме и размеру, но все же это были формы и размеры какого-то вещества, общего для всех корней. Анаксагор же избежал этой трудности. И наконец, Анаксагор под влиянием слов Парменида «ничто не может возникнуть из ничего» считал, что материя изменяется только путем разного смешения общих для всех вещей качеств. Никогда не происходит так, что вдруг начинает быть то, чего только что не было, но существуют изменения в интенсивности перемешанных между собой качеств, которые текут из одного места в другое. Сами качества с тех пор, как выделились из исходной субстанции, где «все вещи находились вместе», сохраняются, а не создаются и не уничтожаются. Это тонкий анализ, и не похоже, что афинские собратья Анаксагора были в состоянии понять эти рассуждения. В любом случае, когда афинские ученые защищали материализм, они пользовались гораздо более простым, чем у Анаксагора, понятием материи. Теперь рассмотрим немного подробнее, каким образом обошел Анаксагор камень преткновения элейской философии. Если материя, пространство и время определяются как непрерывные (и поэтому бесконечно делимые) и дискретные (составленные из конечного числа расположенных вплотную друг к другу точек или иных мельчайших частиц) одновременно, то, как показывают парадоксы Зенона, в такой теории должен быть какой-то логический дефект. Но Анаксагор ответил на критику Зенона тем, что отказался от допущения, что частицы материи, времени и пространства дискретны, однако сохранил непрерывность и бесконечную делимость. В предположении, что все в физическом мире может делиться до бесконечности, нет логической неувязки, хотя нужны новые математические идеи для описания соотношения целого и части в такой текучей Вселенной5. В мире Анаксагора движение подобно течению реки, а не прыжкам кузнечика. Нам не нужно делать бесконечное количество скачков из каждой очередной точки в следующую, чтобы добраться от своего места до двери, потому что нет отдельных точек, которых нужно достичь, и нет промежутков между очередной точкой и следующей, которые надо пересечь. Но Анаксагор кроме ухода от парадоксов Зенона хотел иметь мир, в котором изменение было бы реальным; поэтому он должен был учитывать два из аргументов Парменида: первый – что если мир состоит из одного вещества, то не может быть настоящего изменения, и второй – что «настоящее» изменение приводит к невозможному «возникновению чего-то из ничего». Первое из этих ограничений действует всегда, когда материя, которая делает вещи реальными, рассматривается как нечто подобное льду и протяженное в пространстве, но не имеющее других собственных качеств. Именно так вылядит материя в атомистической теории. Похоже, что именно это представление о материи подразумевал и Эмпедокл в своей теории элементов, частицы которых отличаются друг от друга формой и размером. Однако Анаксагор нигде не использовал такое понятие материи. У него мир состоит из противоположных качеств – жары и холода, влажности и сухости, и эти качества не являются свойствами какого-то другого вещества, которое «держит» их: они сами и есть материя мира, и их изменения – фундаментальные факты природы, а не просто отражения на поверхности застывшего шара из заполненной чем-то протяженности. Третье свойство материи у Анаксагора – что «во всем есть часть всего». Так он формулирует свое решение задачи, которую поставил Парменид, отрицая любой процесс, в котором «что-то возникает из ничего»6. Изменения – не внезапные скачки от небытия к бытию, а изменения относительной интенсивности качеств в их смесях. Противоположные одно другому качества никогда не бывают чистыми, они всегда смешаны одно с другим: в снеге больше белизны и холода, чем черноты и тепла, но, когда снег тает и превращается в воду, просто становится больше тепла и черноты в смеси, где какая-то доля этих двух качеств уже содержалась. В результате получается, что при таянии снега не происходит внезапное создание чего-то из ничего, а возрастает степень чего-то. Эта формулировка не всегда была ясна читателям Анаксагора, потому что его собственные высказывания, например «Как же то, что не плоть, может стать плотью?» – часто ведут их по ложному пути. Эту фразу раньше понимали так: в любой пище, которой мы питаемся, на самом деле есть мелкие частицы человеческих мяса и костей. Довольно живописное, но абсурдное высказывание. Но если понимать упомянутую фразу как утверждение, что у пищи и плоти есть общие качества, а значит, то и другое может смешиваться и создавать новые наборы качеств, получается вполне разумная идея. При этом видно, что необычную форму этой фразы Анаксагор выбрал специально как ответ на Парменидово ограничение: он берет «плоть из неплоти» как частный случай «чего-то из ничего». Чтобы построить тот мир, который мы знаем, из этих невещественных и проникающих одно в другое качеств, Анаксагор ввел представление об этапах смешения и соединения качеств. Одни сплавы качеств «плотнее», чем другие. Например, мы читаем у него о «долях», которые, смешиваясь, образуют «семена», а те, в свою очередь, «сливаются друг с другом» и образуют вещи7. Возможно, из-за того, что Анаксагор так заботился о том, чтобы обойти все технические препятствия, указанные элейцами, его теория материи тоже очень технична. Тот, кто знакомится с ней, на каждом шагу чувствует искушение вернуться к общепринятым представлениям о предметах и протяженном веществе, когда пытается понять, что такое для Анаксагора «вещи», «семена» или «противоположности». Но каждый раз, когда он возвращается к общепринятым толкованиям, теория становится бессмыслицей. Анаксагор представлял себе физический мир по-другому: его концепция гораздо ближе к огню и потоку Гераклита. Перейдя от чистой теории к рассказу о возникновении космоса и подробному научному исследованию его механизмов, Анаксагор, разумеется, почувствовал, что может ввести в свою работу более привычные ионийские слова и идеи. Его афинские поклонники, которые плохо понимали смысл дискуссии о качественном материализме, смогли понять и оценить строгость логических выводов и способность к блестящим догадкам, которые он проявил в своем описании того, как возник мир. Космология Анаксагора – классически милетская, хотя он развил ее на несколько шагов дальше. Вначале «все вещи были перемешаны вместе», кроме разума, который привел эту смесь в движение таким образом, что она стала кружащимся расширяющимся вихрем8. В результате этого вращения из нее выделились противоположности: тяжелые частицы в большинстве случаев относило в центр, где из них складывалась наша земля, а более легкие частицы, в том числе огромное количество воздуха, были вытолкнуты наружу9. До этого момента новая теория выглядит как смесь идей Анаксимандра и Анаксимена. В ней существует «много миров», но этот вывод был уже предсказан Анаксимандром, продолжил свою жизнь в ионийской науке как типичная для нее идея и перешел оттуда в атомистическую теорию10. Однако Анаксагор видел, что эта классическая модель разделения смеси на части в результате вращения не подходила для того мира, который он наблюдал вокруг себя. «Гигантский вихрь», действующий механически, расположил бы вещи однородными слоями в порядке их плотности, и в верхних слоях не могли бы сформироваться Солнце, Луна и планеты11. Поэтому он добавил к этому описанию свою собственную идею: из центра были выброшены огромные глыбы камня, которые не упали обратно из-за огромной скорости своего движения. Солнце, Луна и планеты – такие раскаленные камни в небе, а метеориты – камни меньшего размера, которые упали на землю, когда потеряли ту скорость, которая удерживала их в небе. Анаксагор сделал и несколько других предположений, которые, должно быть, приводили людей в ужас и изумление: они кажутся оригинальными даже сейчас, когда мы привыкли, что наука преподносит нам необычные теории и открытия. Например, он считал, что в других мирах живут разумные существа, что жизнь первоначально «упала с неба» на землю в простой форме, а потом усложнялась в ходе развития, что немейский лев – чудовище, убитое Гераклом, – «упал с Луны»12. В этих идеях научный склад ума соединился с воображением первоклассного писателя-фантаста. Может быть, именно из-за сочетания этих свойств Еврипид и Перикл любили общество своего ионийского коллеги. Вот эту новую космологию афинская публика как раз смогла понять. Солнце, Луна и планеты всегда почитались как боги, и то, что их разжаловали в горячие камни, оказалось таким ударом по религиозным чувствам и вызовом для них, что оскорбляло общественное мнение и через полвека. То, что изменения в природе – дождь, смена времен года, молния и прочее – объяснялись чисто механическими причинами, тоже казалось преступлением против веры тем, кто привык представлять себе каждое событие как результат божественного провидения. Афиняне привыкли считать: чтобы вызвать или прекратить дождь, землетрясение, благоприятный ветер и тому подобное, необходимы обряды и жертвоприношения. Они видели, что если Анаксагор прав, то им нужно отказаться от всех их традиционных верований. Рассуждения Анаксагора про Нус («разум», или «ум») тоже не примиряли афинян с его взглядами. Он утверждал, что существует разум, который остается «несмешанным и чистым», все видит и все знает, и это он в самом начале заставил двигаться Вселенную. Во всем есть какая-то доля этого космического ума; в частности, у человека эта доля большая. То, что разум ни с чем не смешивается, действительно предполагает что-то вроде дуализма разума и материи. С другой стороны, то, что он действует как движущая сила и описан как «распределяемый по частям» среди всего, напоминает нам, что в то время еще не проводили четкого различия между вещественным и невещественным, а без этого различия невозможно дать определение разума как чего-то бестелесного. Однако этот космический Нус явно не мог иметь человеческое тело. То в системе Анаксагора, что для нас сегодня выглядит как предвестие нового бога и новой религии, его современникам казалось просто еще одним примером атеизма. Мало кто из греческих государственных деятелей, деловых людей, домохозяек или поэтов когда-либо в своей жизни представлял себе богов иначе, чем в виде реально существующих и неумирающих существ. Они думали, что любой человек видит, как выглядят боги, когда смотрит на их статуи на Акрополе или на то, как богов изображают на сцене в трагедиях Эсхила и Еврипида. Причина, по которой в схеме Анаксагора «один разум остается чистым», – то, что разум должен иметь возможность «знать все вещи» и при этом не становиться ими по-настоящему. Если бы ум был таким же, как все другие качества, существующие в мире, при его смешении с каждой вещью возникала бы новая смесь, и разум терял бы часть своей собственной природы при каждом ощущении и каждой встрече с чем-либо. Анаксагор заставил разум привести космос в движение потому, что видел: чтобы создать логически удовлетворительную физику, кроме материи нужна еще какая-то энергия, или, иными словами, сила. То, что разум у Анаксагора, кажется, способен перемещать качества по миру путем прямого давления на них, отражает попытку этого философа остаться в границах материализма. Его Нус еще близок к дающему жизнь дыханию или «тонкому течению», и Анаксагору, вероятно, не слишком бы понравилось современное предположение о том, что разум бестелесен. Вопрос о том, насколько активную роль играет разум в философии Анаксагора, часто становится предметом дискуссий. Более поздние греческие мыслители считали, что он ввел в свою систему Нус только потому, что было нужно что-то, что привело бы мир в движение, а на самом деле считал Нус просто одним из материалистических механизмов. Некоторые современные ученые более серьезно относятся к утверждению «Разум знает все» и полагают, что Анаксагор предвидит развитие космического порядка. Верное толкование, должно быть, лежит где-то посередине между этими двумя. Анаксагор интересен и важен для нас по целому ряду причин. С исторической точки зрения он разбудил умы афинян для идей, которые уже какое-то время существовали в центрах ученой мысли на границах греческого мира. В науке он осуществил переход от одной традиции к другой. Мысли Анаксагора о Нусе расширяют область интересов ученых, которые, кроме движущейся материи, наблюдаемой нами, стали включать и человека-наблюдателя. Его идеи о материи привлекали внимание позднейших мыслителей, и они оказались способны оценить изящество теории о непрерывном изменчивом течении вещей, что противодействовало элейско-пифагорейской тенденции рассматривать мир как нечто статичное13. Строгая логика и поражающее своим богатством воображение Анаксагора делают его интересной самостоятельной фигурой в истории науки и философии. Деятельность молодого ученого, протеже Перикла, вызвала в одних кругах такое восхищение, что его поклонники организовали что-то вроде научно-исследовательского общества, а в других кругах такую критику, что его обвинили в атеизме и заставили покинуть Афины14. В Лампсаке, куда Анаксагор переселился из Афин, его приняли хорошо и оказывали ему почет как видному гражданину. По работе Метродора из Лампсака мы можем представить себе, как Анаксагор повлиял на распространенные в народе верования. Метродор начал истолковывать общепринятую мифологию в духе натурализма и называл автором этой идеи Анаксагора. В этой интерпретации боги отождествлялись с привычными явлениями и стихиями. Например, падение Фаэтона считалось описанием падения метеорита в дневное время. Анаксагор попросил, чтобы годовщину его смерти вместо статуи или надписи в его память сделали праздничным днем для школьников, и эта просьба была выполнена. Возможно, причина того, что, как сейчас считают все, Анаксагора всегда недооценивали, состоит в том, что после него вплоть до Уайтхеда, нашего современника из XX века, ни один философ не пошел по тому пути, который привел Анаксагора к взгляду на мир как на процесс, а не как на материю15. АрхелайПервый афинский ученый
Архелай занимает в истории греческой мысли скорее место учителя, чем самостоятельного теоретика. Чтобы новые научные воззрения пустили корни в Афинах, привлекли внимание общества и повлияли на развитие философии, необходимо сделать нелюдимого Анаксагора и его трудные для понимания идеи более доступными для всех и совместимыми с практикой жизни. Архелай понял, что новые методы и идеи Анаксагора заслуживают того, чтобы стать действенными и давать результаты. Энтузиазм Архелая, его работа по созданию при его школе научно-исследовательского центра в полном современном значении этого слова и конкретность, которую Архелай внес в понимание Анаксагоровой космологии, принесли ему успех как популяризатору и преподавателю. Хотя мы помним Архелая в основном из-за Сократа, его лучшего ученика, который разочаровался в науке, обнаружив, что она не дает ответа на те вопросы, которые он считал самыми важными, влияние Архелая не следует недооценивать. В конце концов, некоторые из самых оригинальных и подробных работ в истории науки были выполнены в Афинах поколением, следующим за тем, к которому принадлежал Сократ; и нет сомнения, что некоторые из идей школы Архелая и часть царившего в ней энтузиазма сохранились в атмосфере афинской жизни настолько, что оказали влияние на Академию Платона и Ликей Аристотеля1. Все историки единодушно считают, что Архелай был сначала учеником, а позже ближайшим сотрудником Анаксагора, и это подтверждается свидетельствами современников. Согласно некоторым источникам, он покинул Афины вместе со своим учителем, когда того заставили уйти в изгнание2. Но это не значит, что Архелай преподавал своим ученикам философское сочинение Анаксагора как книгу, где есть нужные им идеи или методы. Напротив, Платон пишет, что Сократ, один из учеников Архелая, не только никогда не встречался с Анаксагором, но и книгу его прочел только после долгого изучения наук3. Возможны несколько причин того, что книга Анаксагора не применялась как учебник: может быть, Архелай считал ее слишком профессиональной, чтобы преподавать своим студентам (это было бы неудивительно); может быть, он думал, что лобовой подход к изложению сложных проблем – не лучший способ преподавания, и почти наверняка он считал, что идеи Анаксагора иногда слишком абстрактны, а в других случаях должны быть откорректированы. Вероятно, верны все эти соображения сразу4. Хотя Архелай следовал за Анаксагором в главном, утверждая различие между разумом и материей и непрерывность природы, сам он больше всего интересовался подробной разработкой способов применения научных теорий своего учителя в медицине и психологии5. Архелай обнаружил, что очень абстрактное понятие Нус трудно представить себе и использовать в экспериментальной работе. Он должен был преобразовать представление о творящей космической силе, которая не смешивается ни с какими другими качествами, в какую-то более конкретную форму, чтобы получить возможность измерять эту силу и производить над ней какие-то операции. И Архелай сделал это, отождествив психе с воздухом, почти так же, как за много лет до него Анаксимен отождествил воздух с «бесконечным»6. В этом случае на Архелая мог повлиять его менее выдающийся современник Диоген из Аполлонии, который тоже использовал в своей схеме воздух как вещество-первооснову; но это совершенно не означало разрыва с идеями Анаксагора, потому что ведь и у Анаксагора первый этап эволюции космоса, когда началось вращение, – это стадия, когда в мире есть огромные массы воздуха. Возможно, и Диоген из Аполлонии, и Архелай считали, что, сделав воздух одновременно веществом, из которого состоит психе (душа), и первоосновой физического мира, они усовершенствовали теорию, высказанную Анаксагором7. У Архелая воздух выполнял три функции: он был одновременно нейтральным состоянием материи, из которого выделились остальные качества, принципом, управляющим вещами, то есть воздух имел власть начать космическое движение, и «веществом жизни», из которого состоят душа и ум. В этих идеях не было ничего по-настоящему оригинального. Отождествление воздуха с душой предвещал еще Гомер. Воздух в качестве первичного вещества – это была теория Анаксимена. Роль дыхания и вопрос о том, связаны ли различные болезни с избытком или недостатком воздуха, были распространенными темами для обсуждения у медиков. Архелай и сам особенно интересовался этим медицинским направлением мысли. Он не соглашался с точкой зрения Анаксагора, что Нус распределен по всей природе, и считал, что его частица есть только в животных. Архелай полагал, что, поскольку растения не дышат и не реагируют на окружающее разумно, трудно приписать им какую-либо долю души или ума. Это новое толкование Архелаем теории Анаксагора, по которому Нус отождествлялся с воздухом и «присутствовал» только в животных, привело к тому, что умозрительные философские теории стали применяться для изучения специальных физиологических проблем типа тех, которые в наше время изучает биохимия. И в «Облаках» Аристофана, и у Платона в «Федоне» показан Сократ в этот ранний «естественно-научный» период своей деятельности. Тогда его занимали вопросы, особенно интересные для первой афинской группы ученых-исследователей, – из области астрономии и медицины, и Сократ изображен желающим узнать, каковы форма и местоположение Земли. Плоская она или круглая? Находится она в центре Вселенной или, может быть, движется вокруг этого центра? Сократ также хочет понять природу мысли. Думаем мы воздухом, который находится в нас (так должен был считать Архелай), или огнем, или, может быть, мозгом? Можно ли объяснить природные явления – дождь, облака, вихри и тому подобное – как процессы, происходящие с воздухом в разных его состояниях, а сами эти состояния ставить в зависимость от плотности, влажности и движения или покоя?8 Согласно Платону, только проработав долгое время над этими вопросами, Сократ познакомился с книгой Анаксагора. Он услышал, как кто-то читает ее вслух, и на него особенно сильно подействовала фраза «Ум упорядочивает все». В таком случае, подумал Сократ, ум, несомненно, располагает вещи в каком-то порядке, имея в виду определенную цель и определенные ценности. А если так, то, чтобы решить, какая из научных гипотез верна, нужно выяснить, какая из них предлагает «наиболее разумный» порядок. Он тут же купил список этой книги и прочел ее. К разочарованию Сократа, ему показалось, что Анаксагор использовал разум только для того, чтобы объяснить начало движения, а об остальном говорил лишь в терминах механической причинно-следственной связи9. Несмотря на это разочарование, знакомство Сократа с книгой Анаксагора стало для него первым шагом в понимании того, что наука в том виде, как ее преподавал Архелай, была применима только к тем задачам, с которыми она могла работать эффективно и которые могла решить10. В результате Сократ переключился с науки на поиски в другой области, а о том, что стало дальше со школой, нам ничего не известно. СофистыКак добиться успеха в Афинах
Возникновение софистов – группы профессиональные странствующих учителей – стало для греческой философии угрозой на новом и важном направлении. Философы раннего периода сосредоточивали внимание на мире природы, а дела людей обычно выпадали из их поля зрения. Некоторые мыслители, например Гераклит и Эмпедокл, были исключениями из этого правила, но похоже, что даже они больше интересовались вопросами, касающимися внешнего мира, чем подробным анализом своего внутреннего «я» или даже общества. Софисты, которые обучали молодых людей жить так, чтобы иметь успех в обществе, считали, что нужно изучать не философию, а риторику – искусство говорить убедительно. Какое впечатление софисты производили на людей, можно до некоторой степени почувствовать, если вспомнить все значения английского слова «софистикейшн», образованного от слова «софист»: утонченность, опытность и фальсификация. Учеба у софистов имела целью сделать ученика умелым в житейских делах светским человеком. Такой человек хорошо владеет приемами разговора, легко приспосабливается к новой среде и достаточно много ездит по миру для того, чтобы быть знакомым с обычаями больше чем одной местности; он уверен в себе, имеет изящные манеры, и его нелегко смутить. Описанный у Стивена Поттера «человек жизни», чья тактика – «побеждать в жизненной игре, не обманывая по-настоящему»1, является образцом присущей софистам светскости. Однако афиняне были гораздо восприимчивее, чем мы, к этому искусственному умению жить. Не только теория, но и практика такого поведения была тогда новой, и молодой человек, умевший использовать свой ум для того, чтобы находить способы произвести хорошее впечатление, имел большое преимущество перед своими конкурентами в политике, праве и общественной жизни. Новое понятие «светский человек» возникло как характеристика этого тактического мастерства. Афинам для их прогресса нужно было что-то вроде софистов. Городу, который внезапно возвысился до роли центра греческой цивилизации, требовались новые представления, способные заменить унаследованный от предков идеал благородного человека, возникший на основе героических поэм Гомера еще в микенскую эпоху. Городу было нужна легкость перехода из одного слоя общества в другой, но вышедшую из моды монополию части общества на владение собственностью и почет трудно было устранить. Афинам был нужен новый уровень приспособляемости в политике: традиционный консерватизм сильно тормозил управление делами города. Но вполне естественно, что, хотя софисты в определенном смысле были нужны Афинам, не все афиняне были им рады. Успех, который имели уроки софистов, уже сам по себе вызывал негодование и зависть у тех, кто был слишком беден, чтобы заплатить за такую учебу, и противодействие у более консервативной части аристократии (к которым принадлежал и Аристофан), поскольку был угрозой для их монополии на тщательно выработанные благородные манеры знатных снобов2. Более серьезные люди из числа афинских мыслителей тоже были недовольны. И Сократ и Платон оба чувствовали неисправимые близорукость и поверхностность постулатов, лежавших в основе софистики. Оба считали, что жизнь – нечто большее, чем постоянное вращение в обществе, и что измерять успех человека на жизненном пути просто богатством или почетом недостойно ни общества, ни человека. Но оба не упускали из вида и то хорошее, что принесло с собой новое движение в образовании. У Платона четыре или пять из его диалогов – портреты, которые все вместе составляют что-то вроде справочника «Кто есть кто в афинском образовании», а это явно говорит о том, что ему было нелегко отвергать софистов3. Хотя диапазон интересов и методов преподавания у этих странствующих учителей был широкий, все вместе они бросали вызов науке тем, что предлагали другой, не научный тип образования. В этом случае интерес к получению высоких практических результатов помог им изобрести много усовершенствований. Искусство красноречия у софистов приобрело точность, которой не имело до этого. Они первыми стали применять «систему состязательности противоположных сторон» в преподавании права. Они признали условный характер языка и стали изучать грамматику, диалекты и этимологию. Применив формальную логику при состязании сторон в суде, дискутировании и выступлении на публике, софисты выработали новые стандарты ясности и новые тонкие критерии ошибочности суждения. Их упорное утверждение, что этика и политика основаны только на соглашении между людьми, а не на человеческой природе, побудило три поколения афинских философов к более детальному исследованию человеческой природы и поведения людей. И возможно, таким же важным наследием софистов, как любое из их остальных нововведений, является то, что они показали: хорошим манерам и правильному произношению можно научиться. До этого греческие аристократы думали, что умение вести себя благородно передается по наследству, что манеры есть нечто врожденное, данное им от природы. И наконец, мы должны признать еще одной заслугой по крайней мере некоторых учителей этой школы то, что они вновь проявили интерес к искусствам и ремеслам, на которые в их время афинская интеллигенция стала смотреть свысока, хотя в предыдущие периоды греческой истории было иначе. В итоге получается, что софисты не внесли в западную философию крупных конструктивных и прогрессивных изменений, а скорее оказали на нее влияние как критики. Они осуществили тот резкий разрыв с традицией, который был необходим как пролог к исследованиям нового типа – изучению общественных явлений. Но софисты мало доверяли обобщенным теориям, и применяемая ими риторика, с помощью которой они убеждали своих слушателей, что наука и философия бесполезны для практики, была альтернативой науке, а не вкладом в науку. Одним из первых по времени и самых великих учителей был Горгий из Леонтин. Он усовершенствовал искусство красноречия, применив формальную логику к ведению дискуссии и ораторскому искусству. В то время жалобы и речи строились беспорядочно и состояли из почти случайных скачков от мысли к мысли, а Горгий на этом фоне первый начал применять риторические фигуры, ритмическую прозу и аллитерацию и включать в выступление четкую формулировку его тематической структуры. Эти приемы остаются на вооружении у ораторов до сегодняшнего дня (а если не до сегодняшнего, мы должны, по крайней мере, признать, что Западу понадобилось двадцать пять веков, чтобы привыкнуть к этим нововведениям настолько, что он захотел избавиться от них). Горгий просто завораживал своих греческих слушателей, которые любили споры, беседы и речи перед публикой. Горгий имел огромный успех в качестве дипломата, когда был прислан в Афины с Сицилии. Афинские поэты и государственные мужи начали подражать ему в стиле речи. Он поставил свою статую в Дельфах, и там же найден фундамент еще одной его статуи, воздвигнутой жившим позже его родственником4. Несколько речей Горгия дошли до нас; современным людям они кажутся довольно искусственными и банальными по структуре. Например, когда мы читаем в «Надгробной речи»: «Что же эти люди оставили несделанным такого, что они должны были бы сделать, или что сделали такого, что должны были бы оставить несделанным?» – мы ощущаем это как искусственный штамп5. Но этот прием, когда Горгий ввел его в обращение, не был штампом и производил сильнейший эффект. В своей речи «В защиту Елены Троянской» Горгий ненадолго отклоняется от темы, чтобы прославить власть слова, и в этом отрывке видны его собственное отношение и интерес к слову6. Но Горгий, наделяя свои речи силой, не полагался в этом только на словесные украшения. Структура двух его демонстрационных образцов – речей перед воображаемым судом в защиту легендарных гомеровских персонажей Елены и Паламеда – носит следы работы человека, ценившего точную логику, которую так эффективно применял Зенон. Защита вылядит так: Елена бежала от мужа с Парисом Троянским по одной из трех причин: либо по воле Судьбы, либо из-за непреодолимой страсти, либо уступив неодолимой силе убеждающих доводов. Но если это была Судьба, у Елены не было никакого выбора, и поэтому она невиновна в преднамеренном бегстве от мужа; если это была любовь, в том, что произошло, тоже повинна сила, которая мощнее человеческой воли; и то же самое верно в случае убеждения, поскольку слова имеют власть подчинять себе и ум и волю. Следовательно, заключает Горгий, мы доказали, что Елена не была безнравственной женщиной; она не покинула Менелая преднамеренно и заслуживает скорее нашего сочувствия, чем нашего осуждения7. Горгий не был единственным, кто признавал, что новая логика полезна при ведении судебных дел, политических переговоров и драматических монологов. Эта логика проникла в греческие драму, право, политику, культуру дискуссии и даже в частную беседу. Но Горгий одним из первых применил элейский формализм с практическими целями, и следует сказать: он был не слишком милостив к элейцам, которым был многим обязан. Проявив частицу того богатства воображения и той изобретательности, которыми обладал сам Зенон, Горгий спланировал свою речь как доказательство трех утверждений: во-первых, ничто не существует; во-вторых, даже если бы что-то существовало, мы не смогли бы познать его; в третьих, если бы что-то существовало и мы смогли познать его, мы не смогли бы передать свое знание другим8. Защита первого тезиса – пример того, как работала техника Горгия: если что-то существует, оно должно быть либо конечным, либо бесконечным. Парменид убедительно доказал, исходя из того, что «только «бытие» существует», что оно должно быть конечным; но более поздний последователь Парменида Мелисс, исходя из того же допущения, с помощью столь же убедительных рассуждений доказал, что «бытие» должно быть бесконечным. Только ложное утверждение может привести к такому противоречию; следовательно, «ничто» не существует9. Это тот тип аргумента, который много раз и часто возникал в истории философии: противоречия между великими философами доказывают, что сама философия – одни слова, или ее положения не поддаются проверке, или она находится за пределами возможностей человеческого ума. Это было бы верно, если бы не было способов разрешить кажущиеся противоречия либо путем проведения новых различий (например, между значением слова «конечный» у Парменида и у Мелисса), либо с помощью нового синтеза (например, показав, что одно измерение «бытия» фактически бесконечно, а другое детерминировано и конечно). Речь Горгия отражает его позицию: он не преподавал своим ученикам науку или философию10. Поскольку в городах-государствах того времени (сразу после Персидской войны) для любого молодого грека, стремившегося сделать карьеру, умение выступать с речами на публике и компетентность в юридических вопросах были важными навыками, все софисты включали в свою учебную программу эти два предмета. Некоторые из софистов преподавали только их, остальные включали право и ораторское искусство в курс более общего образования. Великим легендарным адвокатом в школе софистов был Протагор из Абдеры, который был способен выиграть в суде присяжных любое дело для любой из сторон. Он шокировал афинское общество тем, что, обучая своих студентов, заставлял их доказывать правоту обеих сторон в каждом судебном деле; за прошедшее с тех пор время ценность этой процедуры была признана, и она стала повсеместно использоваться при обучении праву11. Но обычный житель Древних Афин считал: каждому видно, что в любом судебном деле есть правая сторона и неправая сторона; уравнивание их между собой шло вразрез с представлениями о том, что суд обладает интуитивным чувством справедливости и может вынести правильное решение по любому делу. Выражая возмущение афинян, шокированных новым методом Протагора, Аристофан в комедии «Облака» изобразил большой спор между Справедливой и Несправедливой Речами. В этой пьесе они кружат по сцене в облике дерущихся петухов. Побеждает Несправедливая Речь, которая в каждом деле защищает неправую сторону. Из других документов, таких, как «Двойные аргументы» («Dissoi Logoi»), видно, что некоторые из подражателей Протагора были не очень сообразительными. Этот документ представляет собой таблицу обобщенных аргументов, полезных при доказательстве таких утверждений, как «Одна и та же вещь хороша, плоха, а также не хороша и не плоха». Однако сам Протагор так блестяще владел профессиональной техникой юристов, что представлял каждое дело, которое вел, в виде, рассчитанном на то, чтобы завоевать симпатии присяжных для своего клиента, и добивался того приговора, которого хотел. Протагор, как и Горгий, терпеть не мог абстрактных научных и философских рассуждений. Одно из самых знаменитых его высказываний звучит так: «Человек – мера всех вещей: тех, которые есть, – что они есть, а тех, которых нет, – что их нет»12. Подразумевал ли он, что каждый человек – мера или что мера – все общество в целом, в любом случае это утверждение отражает новое представление об истине как о чем-то относительном, что зависит от культуры и индивидуальности наблюдателя. Он также написал: «Что касается богов, существуют ли они, я не знаю из-за трудности этой темы и краткости человеческой жизни»13. Благочестие, справедливость, истина и тому подобное очевидны для человека, а скорее являются условностями, которые выработало общество. Афинские адвокаты следующего поколения не хитрили, когда сформулировали одно из положений, вытекающих из этой точки зрения: в любом судебном деле невозможно сказать, какая сторона «справедлива», до тех пор, пока это не решил суд, поскольку закон – это «лишь то, что суды сделали», а справедливость – «то, что суды сделают». Другой софист, Продик, является наилучшим примером нового отношения к языку как к инструменту, а не как к магии, что было очень важным завоеванием культуры. Человек, который вырос в таком сообществе людей, где существует всего одна разновидность речи, тем более до изобретения грамматики, вообще не понимал, что говорит на определенном языке. Ему должно было казаться, что его форма речи – естественная и передает другим людям смысл слов правдиво и напрямую. Такое некритичное поведение опасно, и работа, которую проделал Продик, сослужила большую службу западной цивилизации. Его классификация частей речи: имена, артикли, глаголы, причастия и частицы – была началом научной грамматики на Западе. То, как он разграничивал значения близких синонимов, приводило в восторг его современиков. Он также был первым, кто стал изучать различия между диалектами и историю слов14. Лекции Продика о языке были широко известны: у Платона Сократ извиняется за то, что недостаточно хорошо владеет словом, потому что мог заплатить только за дешевую лекцию Продика, а не за дорогой «полный курс языка»15. В то же время, если портрет Платона вообще верен, Продик был ученым-педантом: определял разницу между словами независимо от того, являлось ли это различие значительным в данной ситуации, и был способен истолковать стихотворную строку «Трудно быть добрым» как «Добро – плохое» после подробного поочередного и тщательного этимологического анализа входящих в нее слов16. Но после Продика, был он педантом или нет, греческим мыслителям пришлось осознать существование языка и занять определенную позицию по отношению к таким вопросам, как способность обычного языка адекватно описывать мир, потребность философии в специальной профессиональной терминологии и меры языковых предосторожностей, необходимые, чтобы отличить реальные рассуждения и опровержения от чисто словесных17. Гиппий из Элиды известен нам в основном по двум диалогам, написанным в Академии Платона: чувство, которое он там вызывал, напоминает отношение Гераклита к Пифагору: большая ученость не всегда делает человека мудрым, а может быть «полиматией – искусством вредить и сеять смуту». Дело в том, что Гиппий был истинным полиматом: он знал все. Он изобрел так называемое искусство запоминания и выодно использовал его, организовав собственную «викторину» и сыграв в ней главную роль на Олимпийских играх18. Он был компетентным математиком и астрономом, а также проявлял интерес к прикладному искусству и ремеслам19. В одном из платоновских диалогов Гиппий рассказывает, как он появился на Олимпийских играх, и его одежда, обувь, кольцо – все было его собственной работы. Чтобы завершить эту демонстрацию своей разносторонности, он прочел стихотворение, сочиненное им самим. То, что софисты высоко ценили умение направлять и формировать поведение человека, частично подтверждается техническими достижениями, находившимися на афинской Агоре. Высокая оценка, которую Гиппий давал «знанию, как делать», ясно говорит о том, какую роль сыграло в развитии софистики это взаимодействие техники и мысли. Но, если мы можем хоть сколько-нибудь доверять диалогам «Больший Гиппий» и «Меньший Гиппий» – написанным в Академии литературным портретам этого знатока за работой, – этот человек знал все факты, но был не способен на какое-либо обобщение и совершенно не имел чувства юмора. Гиппий (вернее, карикатура на него, но, вероятно, не лишенная сходства) просто злит читателя, когда невероятно торжественным тоном предлагает решить спор о тонкостях философии между Протагором и Сократом, затем говорит, что у ложек, у стихов и в огромном количестве других случаев красота и пригодность для выполнения своей функции – одно и то же, но не способен заметить, что это подразумевает связь между красотой и функцией, а услышав в ответ колкости Сократа, совершенно не чувствует, что его пронзают эти стрелы иронии, и продолжает отождествлять ум с информированностью. Такими были те из старших софистов, кто занимался преподаванием. Они имели изысканные манеры, были вежливы и учтивы, вели себя как хорошо воспитанные люди и в большинстве случаев занимали важные политические должности. Например, Протагор, хотя и не был уверен, что боги существуют, был уверен в том, что их нужно чтить: набожность, которую укрепляет государственная религия, – важный элемент цивилизующего влияния, необходимого, чтобы укрощать человеческую натуру. Горгий разработал нечто вроде таблицы правил этикета, где было указано, какое поведение в обществе будет правильным в такой-то ситуации для человека такого-то возраста, пола и общественного положения. Но у более молодых учителей – младших софистов – эти утонченные благородные манеры сменились совершенно иными20. Из нового для их времени понимания, что в структурировании общественного поведения и создании принятых в обществе ценностей важную роль играют условные договоренности, эти софисты следующего поколения стали делать выводы, ранившие чувства других людей, – о том, что следует отбрасывать все прежние ценности как совершенно произвольно принятые условности. Критий, более известный своей беспринципностью, когда был временным диктатором, чем достижениями в области интеллекта, применил деструктивную критику в отношении религии: он говорил, что богов придумали хитрые политики, чтобы страхом заставить народ хорошо себя вести. Фразимах, отличавшийся упорством и стойкостью адвокат, подводя итог своему опыту работы с судами и судебными делами, откровенно заявил, что справедливость – просто имя, которое дается любому поступку, который дает «преимущество сильнейшему или правителю»21. Антифон был уверен, что несправедливость нельзя считать неестественной, если она не влечет за собой никакой боли, если не будет обнаружена и наказана, а поступки, «противные природе», всегда имеют вредные последствия. В «Двойных аргументах» их неизвестный автор набрасывает общую схему защиты обеих сторон в любом судебном деле и включает в нее примеры, показывающие, как доказать, что один и тот же поступок хорош, плох и ни хорош ни плох. Этот список можно было бы расширить, но приведенных примеров достаточно, чтобы показать, как младшие софисты обобщили и сделали явными некоторые наименее приемлемые и, в сущности, наименее заслуживавшие доверия следствия из идей своих учителей. Одним из факторов, которые помогли софистике приобрести широкую известность и одновременно вызвали гнев против нее во многих кругах, было то большое значение, которое снова приобрели дебаты. Выступление Гиппия на Олимпийских играх, когда он, показывая свои высокие достижения в умственной гимнастике, отвечал на любой вопрос, который ему кричали, было типичным примером того, как стали смотреть на беседу – ее все больше считали прежде всего возможностью помериться умом, состязаться в области мысли. Греки любили хороший спор, и словесное единоборство могло найти заинтересованных слушателей. Позже Аристотель написал свой анализ языка и логики, в котором кратко сформулировал цели таких «дебатов»: те, кто сражается словами, вначале ставят себе целью опровергнуть противника. Если и это невозможно, они ставят себе целью поймать противника в ловушку, заставляя его утверждать парадокс. Если это не удается, они пытаются заставить его сделать ложный вывод, который потом можно предъявить публике и этим дискредитировать противника, или вынуждают его говорить с нарушением грамматики, чтобы позже заявить о его неграмотности и отсутствии нужных знаний. И наконец, если ничто из всего этого не удается, они пытаются довести противника до неразборчивого бормотания! У Платона в его диалоге «Эвтидем» Сократ изображен втянутым в такой бой насмерть словесным оружием. Его противники – два приехавших на время в Афины брата – Эвтидем и Дионисидор, которые «бросили заниматься фехтованием в доспехах и стали фехтовать словами». Эти карикатуры на тогдашних героев диспута, которые при своих плохих манерах побеждали противника словами, вызывают у современного читателя некоторую симпатию к тем консерваторам, которые, как Аристофан, были возмущены таким побочным действием нового высшего образования. В этом диалоге Платона Сократ, спросив у приезжих братьев о природе добродетели, слышит от них, что он уже знает ответ на свой вопрос: «– Ответь мне, Сократ: ты – знающий человек? – В том, что мне известно, – да. – Это не ответ на мой вопрос: отвечай «да» или «нет». – Ну, тогда – да. – А быть и не быть чем-то в одно и то же время невозможно. Поэтому, если ты знающий человек, ты знаешь все…»22 Сократ считает, что это неправда, но у Эвтидема есть на это готовый ответ: неправдой было бы «сказать то, чего нет»; но «небытие не может ни существовать, ни быть подумано, ни быть сказано»; значит, ложное утверждение невозможно! За этим применением элейской логики там, где она не к месту, следует неправомерное использование приема «отвечай «да» или «нет» (заимствованного из техники перекрестного допроса в суде), которым софисты владели в совершенстве, перемежаемое оскорблениями, которые не задевают Сократа, но одного из его младших товарищей чуть не доводят до апоплексического удара23. Софисты были колоритной группой, которую философы не могли оставить без внимания. Предложение софистов забыть о философии и принять вместо нее риторику было вызовом, на который нужно было отвечать. Их отношение к условностям и релятивизм мышления привлекли внимание к ограниченности во взглядах живших до них ученых и философов, которые полагали (не формулируя это допущение явно), что человеческая натура и общество – лишь частные случаи той системы природы, куда входят химические вещества, времена года и звезды. Они первые в истории осознали, что язык по своей природе инструмент, и открыли свойства этого чудеснейшего инструмента; этот вклад софистов в западную культуру потрясает воображение и будет существовать вечно. Однако то, что эти новые идеи имеют значение для философии, было замечено не вторым поколением софистов, а их младшей группой, которая, похоже, заменила серьезную и ответственную работу ума манипуляцией лозунгами. Философское значение софистики заметили скорее те, кто критиковал софистов, и они начали заново изучать отношение человеческой жизни к бытию и природе в целом и исследовать имеющий огромное философское значение вопрос о соотношении между природой, действительностью и ценностью. Влияние софистики в Афинах распространилось широко: оно отразилось и в пьесах Еврипида, и в великих речах Перикла, и в менее великих речах других ораторов, и в дебатах, которые устраивали в гимнасии. Но софисты были популярны не у всех: консервативных афинян, от имени которых выступал Аристофан, возмущало, что софисты бросили вызов традиционным ценностям, а некоторых менее консервативных афинян, которым не хватало денег, чтобы заплатить за дорогостоящее новое образование, раздражали те преимущества, которые оно давало. Рассказ, что книга Протагора была сожжена, а его самого вынудили уехать из Афин в 418 году до н. э., кажется, не заслуживает доверия, но он основан на том реальном историческом факте, что софисты, несмотря на все внимание, которое они проявляли к способам добиться популярности, не завоевали сердца всех афинян24. После софистов греческая философия изменилась: ей пришлось стать намного самокритичнее и осмотрительнее. Софисты показали, что язык – это изобретенный людьми инструмент, а не точное, без искажений отражение реальности. Они убедительно доказали, что в общественных институтах и законодательстве по меньшей мере очень много условного, и человек уже не мог утверждать, что поведение того людского сообщества, к которому он принадлежит, – это «просто природа человека». И была речь Горгия, несомненно, раздражавшая философов: ее задачей было показать, что все прежние отвлеченные рассуждения о реальности лишь приводили к противоречиям, а вот прикладные искусства в своей истории непрерывно двигались вперед. СократПоиск себя Неизученная жизнь не стоит того, чтобы ее прожить. Сократ Ответ Фалеса на вопрос «Что такое бытие?» привел греческих мыслителей к исследованию окружающего мира. Как отклик на этот вопрос развились науки – физика, математика, логика и зоология, каждая из которых дала часть ответа. Вопрос Сократа «Что такое «я»?» вызвал к жизни новый этап исследовательского поиска. Сократ, который вначале был восхищен идеями ионийской науки, позже понял, что ни ученые, ни софисты, ни обычные афиняне не могут объяснить, в чем суть человеческого «я». Он признал необходимость поиска в области этики и стал вдохновителем новых подходов к политике и образованию. Греческие философы столкнулись с новой для них проблемой – как совместить естественные науки и гуманитарные ценности в одной схеме реального мира. Пример жизни и смерти самого Сократа уже напоминает нам о значении человеческого ума и о необходимости свободы пользоваться этим умом. «Куда вы идете, люди? Вы интересуетесь только богатством и тем, как его добыть, и не знаете, что не делаете ничего из того, что вам следует делать. А что касается ваших сыновей, которым оставите это богатство, вас не беспокоит, будут ли у них знания, необходимые для того, чтобы использовать его справедливо. Вы не ищете для них ни преподавателей справедливости, если она преподается, ни тренеров, если она создается практикой и тренировкой. Вы даже не делаете первый шаг – не исправляете свои собственные взгляды на это…»1 Так говорил Сократ на Агоре, и появление его направило греческую философию по новому пути2. То, что он исследовал природу человеческого «я»; его упорные попытки заставить своих сограждан думать меньше о том, как сделать своих детей богатыми, и больше о том, как сделать их лучше; его критика, опровергавшая утверждения политиков и софистов, что они знают, что такое добродетель и как можно научить ей людей, – все это переключало внимание философов с мира, на который смотрит человек, на человека, смотрящего на мир. Они начали замечать, что у философии есть подтекст, который касается повседневной общественной и политической практики, и что упорный поиск правды в философии может привести ее к конфликту с традицией или политической выодой. Такой конфликт действительно произошел, и это был один из самых драматических эпизодов в истории Запада. Речь идет о суде над Сократом в 199 году до н. э. Когда политические вожди Афин обнаружили, что вопросы Сократа разрушали ту слепую верность населения, которая, по их мнению, была им нужна, они попытались заставить его покинуть город или, по крайней мере, замолчать. Приведенный на суд и обвиненный в непочитании богов и вредном влиянии на молодежь, Сократ не позволил себя запугать и не пошел на компромисс. Защищаясь, он утверждал, что на нем лежит важная обязанность – ставить вопросы, чтобы афиняне постоянно помнили о важных вещах, на которые они, возможно, предпочли бы не обращать внимания. Он заявил, что он благодетель общества, а не преступник, и, так как у него была возможность предложить свой вариант наказания вместо смертной казни, о которой просило обвинение, сказал, что, если бы он получил то, чего заслуживает, это были бы еда и жилье за общественный счет до конца его жизни. Сократа приговорили к смерти и казнили, но характерные для него интерес к человеческому «я» и дух беспристрастного исследования нашли во всей Греции много поклонников, которые продолжили его труд, а его пример до сих пор напоминает нам о том, как важна для людей свобода мысли, и о праве и обязанности человека вести разумно организованный поиск интересущих его ответов. Обычно греческую философию делят на досократовскую и послесократовскую, поскольку после Сократа греческие мыслители никогда уже не могли обойти вопрос «Что такое «я»?», который, как оказалось, столь же сильно манил обманчивыми надеждами и был столь же важен, как более старый вопрос «Что такое «бытие?» – с которого началось греческое отвлеченное мышление. Сам Сократ ничего не писал, и, когда мы пытаемся реконструировать его взгляды, мы находим у каждого, кто писал о нем, свой портрет Сократа. Все основные школы греческой философии называли себя сократовскими, то есть продолжающими работу Сократа и идущими к тем же целям, к которым шел он сам. Друзья Сократа Ксенофон и Платон оставили нам его литературные портреты, а кроме того, у нас есть карикатура на него, вышедшая из-под пера Аристофана. У Аристофана мы находим Сократа – жуликоватого шарлатана. Ксенофон изобразил сентиментального отставного солдата. Киники – одна из сократовских школ – видели в Сократе человека, который не желал мириться с общественными условностями и жил «согласно природе». Мегарская школа считала Сократа специалистом по формальной логике. Киренаики – еще одна школа – полагали, что главный урок Сократа – его этическое учение о том, что хорошая жизнь – это «умное получение удовольствий»3. И до наших дней продолжается это всеобщее восхищение Сократом при разных представлениях о нем; например, уже в нашем веке его понимали как экзистенциалиста, политического либерала и индийского гуру4. У этого многообразия интерпретаций есть две причины. Первая из них – результат веры Сократа в то, что люди должны думать сами: он обычно называл себя человеком, который не знает ответов на задаваемый им вопрос, но был бы рад поискать этот ответ вместе со своими собеседниками, выступая при этом в роли их критика. Поэтому нелегко составить список того, что утверждал Сократ, даже если хочешь это сделать, и легко увидеть, что идеи Сократа, будь они выстроены в ряд на странице учебника, потеряли бы те силу и смысл, которые были в них вложены. Вторая причина того, что разных точек зрения на Сократа так много, – то, что жившие после него философы все считали его жизнь доказательством того, что человек может жить, поступая так, как подсказывают его идеалы. Пример Сократа показал, что бывают моменты, когда тот или иной человек должен принять решение делать то, что правильно, несмотря на то что этот выбор противоречит всем его эгоистическим интересам и заставляет жертвовать даже собственной жизнью5. И вполне естественно, что каждая позднейшая группа философов, признавая Сократа идеалистом, при формировании своего образа Сократа вкладывала в этот образ свое собственное представление об идеальной человеческой жизни. Историю западной этики можно прочитать как непрерывный спор между этими разнообразными представлениями о сократовском идеале. Каждое из них по-своему привлекательно, но по-своему ограниченно; и, вероятно, для Сократа не было бы ничего приятнее, чем узнать, что его пример окажется таким убедительным, что укажет направление для будущих поисков в этике, но при этом таким загадочным и бросающим людям вызов, что будет заставлять людей критиковать и подвергать сомнению каждое решение, которое им будут предлагать. Мы хотим немного подробнее рассказать о жизни и деятельности Сократа. В начале пути это было увлечение естественными науками, потом открытие необходимости этического поиска и случай с дельфийским оракулом, укрепивший решимость Сократа жалить, как овод, соотечественников-афинян. Дальше мы увидим, что он, несмотря на свое собственное заявление, что он ничего не знает совершенно точно, все-таки пришел к конструктивным выводам. И наконец, мы увидим, что суд над ним и его казнь сами по себе доказали, что попытки обуздать ум и любознательность человека путем запугивания бесполезны. В молодости Сократ восхищался новыми в то время идеями ионийской науки и был лучшим учеником школы Архелая. После того как Архелай покинул Афины, Сократ какое-то время фактически был признанным главой или руководителем школы и в этом качестве показан в «Облаках» у Аристофана6. Но в тогдашних Афинах быстрый и подвижный молодой человек просто не мог обращать внимание только на один круг новых идей, у Сократа было много интересов и знакомств за пределами круга людей, занимающихся естествознанием. Например, он ходил на «менее дорогие» лекции Продика о языке, был знаком с несколькими молодыми пифагорейцами из Фив (этот город находился недалеко от Афин); встречался с Зеноном и Парменидом, и эта встреча произвела на него сильное впечатление7. А по тому, как умело он вел свои перекрестные допросы, мы можем с уверенностью сказать, что он с интересом слушал софистов всякий раз, когда кто-то из них произносил большую речь или выступал на процессе в суде. Он прочел распространенные в то время руководства по риторике, но был о них невысокого мнения. Он служил в армии с отличием, посещал театр, ходил на народное собрание и вел беседы в афинских гимнасиях. Все эти виды деятельности влияли на него и развивали в нем те черты, которые стали характерны для Сократа в его последующей жизни: способность к высокой оценке новых идей, чувство юмора и глубокая убежденность в том, что ум и справедливость – необходимые качества хорошего общества и хорошей жизни. Примерно в сорок лет Сократ понял, что наука не может ответить на те вопросы, которые начали его интересовать. Это были вопросы о природе человеческого «я», о том, что ценно в этом мире, и о том, что значит быть прекрасным человеком. До Сократа мыслители тоже искали человеческое «я». «Я искал себя», – написал Гераклит; «Познай себя», – так звучало одно из трех изречений, написанных на храме Аполлона в Дельфах; спасение какого-то психического «я» было целью религиозной практики орфиков и пифагорейцев; тема связи рока с познанием себя была на первом плане в работах историков и в трагедиях. Но Сократ первый стал искать разгадку этой загадки с помощью критического интеллектуального расследования, поднявшись выше мифологии, кратких изречений и поэзии8. Мы даже можем, вспомнив Архелая, представить себе, как именно новая наука того времени привела Сократа к постановке этого общего вопроса. Одним из главных интересов Архелая было исследование в физиологии и психологии человека. Учась в его школе, Сократ, должно быть, был очарован такими вопросами, как «Думаем мы воздухом, который находится в нас, или кровью… или, может быть, не тем и не другим, а мозгом?». Но Архелай также был ученым, продолжавшим традиции милетцев, а их традиция уделять основное внимание объективному наблюдению и описанию не оставляла места ни для изучения субъективного опыта наблюдателя, ни для оценки фактов9. Когда Сократ понял это, он, возможно, вначале подумал, что софисты ближе к тому подходу, который он искал. Но если он думал так, то быстро изменил свое мнение: софисты были так заняты разработкой «реалистичных» тактических приемов для накопления собственности и завоевания престижа, что не видели ни возможной роли идеалов в жизни людей, ни того, что богатство и почет – не внутренне присущие человеку блага. «Я» у софистов было довольно простой смесью прирожденной алчности и созданной общественными условностями привычки. Познание человеком себя интересовало эту группу не больше, чем основную массу афинян или какого-нибудь тогдашнего политика, озабоченного своими делами10. Рассказ о дельфийском оракуле и о роли, которую тот сыграл в жизни Сократа, побудив его начать ходить по Афинам и задавать критические вопросы, вероятно, соответствует действительности. В нем прекрасно отразились характерные для Сократа юмор и страсть к познанию11. Друг Сократа Херефон, находясь в Дельфах, задал оракулу Аполлона вопрос: «Есть ли человек мудрее Сократа?» – и оракул ответил: «Нет!» Сократ был изумлен, потому что, как он сказал, он только начинал понимать, сколь многого он не знает. И он решил, что отправится искать человека мудрее себя, чтобы иметь возможность, когда найдет такого, поехать в Дельфы и сам задать оракулу ряд встречных вопросов, чтобы выяснить, что Аполлон имел в виду на самом деле. То, что Сократ не воспринял этот хвалебный отзыв о себе как возможность почувствовать себя авторитетным человеком и самодовольно надуться от важности, а истолковал как указание или загадку, цель которой – подтолкнуть его к решению выйти на улицы и задавать вопросы, – совершенно в его характере. Результат его удивил. Сократ искал того, кто мудрее, чем он, вначале среди самых вероятных претендентов – преподавателей и политиков, а потом перешел к поэтам и ремесленникам. Но каждый знаток своего дела, хотя и думал, что знает все о том, что такое человеческое совершенство, справедливость, мужество, хорошая общественная политика, когда Сократ задавал ему свои вопросы, оказывался «точно таким же невежественным, как я сам!». Тогда Сократ спросил себя: «Каким мне лучше быть: таким, как эти люди, – невежественным, но воображающим, что я все знаю, или таким, какой я есть, – понимающим, что я не знаю ничего; и я решил, что лучше буду самим собой!» А в это время знатоки, чье невежество Сократ выставил напоказ, вовсе не были благодарны ему за эту демонстрацию их незнания, особенно потому, что она часто доставляла удовольствие зрителям. Мы можем представить их реакцию, если вообразим себе, как Сократ притискивает к стене сенатора, который только что кончил произносить речь о несправедливости какого-нибудь нового закона, спрашивает его, что они имеет в виду под справедливостью, а потом несколькими меткими вопросами показывает, что этот оратор имеет лишь очень расплывчатое и смутное представление о смысле слова «справедливость». Так Сократ шел по Афинам, удивляясь, думая и ставя вопросы. В этот период своей жизни он сделал несколько своих предварительных выводов, которые были утверждениями, а не отрицаниями, и обнаружил, что их невозможно опровергнуть. Иногда Сократ даже формулировал их как свои твердые убеждения, хотя чаще отстаивал их косвенно, предлагая как гипотезы или задавая в форме вопросов. Позднейшие писатели все единогласно приписывают Сократу высказывания: «Добродетель – это знание», «Добродетели – это одна добродетель», «Справедливый человек не вредит никому», «Лучше пострадать, чем совершить несправедливость» и «Мы будем лучшими людьми, если станем задавать вопросы, чем если не станем; в это я верю и за эту веру буду сражаться словом и делом»12. Все эти позитивные взгляды брали начало в его новом методе – творческом проникновении в суть человеческого «я» и гуманитарных ценностей. Все эти идеи тесно связаны с открытием Сократа, что ценности делятся на внутренние и служащие средствами, а его сограждане обычно классифицировали их по этому признаку не так, как правильно, а как раз наоборот13. Внутренней ценностью обладают те свойства бытия, которые делают человека совершенным и счастливым. То, что можно использовать как средство для достижения этой цели, но можно использовать и иначе, – имеет ценность как средство, то есть ценится за то, что позже может быть каким-то образом использовано. Собственность, телесная красота и сила относятся к группе средств. Ни богатство, ни хорошее физическое состояние сами по себе не делают своего обладателя ни хорошим, ни счастливым человеком. А мудрость, чувство справедливости и мужество имеют внутреннюю ценность. Тот, кому знакомы эти добродетели, ценит их ради них самих, а не как средства для достижения какой-нибудь цели. Сократ видел, что у обычного афинянина шкала ценностей была совершенно противоположная. Афинянин хвалил справедливость потому, что она была средством заработать хорошую репутацию, а репутация, в свою очередь, была средством для достижения успеха в денежных делах и политике, или говорил своим сыновьям, что они должны быть справедливыми потому, что иначе будут наказаны человеческим судом или богами. Целями, для достижения которых рекомендовали добродетель как средство, были как раз те, что на самом деле являются внешними по отношению к счастью и настоящей репутации, – деньги, красота, сила, почет и так далее. Сократ обнаружил, что причиной этой коренной ошибки в оценках является невежество – незнание истинной природы души и незнание о том истинном достоинстве, которое обретает человек, имеющий свой идеал, когда претворяет этот идеал в жизнь. Итак, Сократ был убежден, что «добродетель – это знание» и что «все добродетели – это одна добродетель». Каждый, кто знает, что такое добро в том смысле, который придавал этому слову Сократ, то есть знание, которое подразумевает умение по-настоящему оценить саму вещь, а не просто запомнить готовое суждение о ней, всегда выбирает добро. И в любой ситуации совершенство человека является результатом «знания», то есть умной оценки вещей. Поскольку добродетель – это состояние внутреннего «я», а лишь человеческому «я» добро присуще внутренне, по природе, то мнение людей, что человеку можно причинить вред, лишив его имущества или уюта, – ошибка. Единственный настоящий вред, который возможен для человека, – это если случится что-то, что сделает его худшим человеком, а это может произойти только в результате неверного выбора, который заставит человека позабыть о своем достоинстве и поступать порочно. Следовательно, утверждал Сократ, если человек оказывается перед выбором – испытать на себе несправедливое обращение или поступить несправедливо самому, лучше выбрать несправедливость по отношению к себе. Сократ считал, что единственной надеждой для Афин было устранить вредное воздействие невежества афинских государственных деятелей и их сторонников. События, произошедшие в Афинах за время его жизни, показали, что это было необходимо. Расширяя сферу своего влияния, Афины вошли в конфликт со Спартой и ее союзниками, и началась долгая Пелопоннесская война, которая тянулась много лет и в конце концов закончилась в 404 году до н. э. поражением Афин. Тогда к власти пришло правительство из тридцати временных диктаторов во главе с софистом Критием. Они изгнали лидеров демократической партии и на какое-то время установили в Афинах беспринципный режим террора14. Однако в 403 году до н. э. демократы захватили город и изгнали диктаторов. Лидер демократов Анит провел закон, по которому никого нельзя было преследовать по суду за поступки, совершенные до демократической реставрации, и демократическая власть попыталась укрепить свое шаткое положение и вернуть Афинам часть потерянной мощи и рынков торговли. Первая встреча Сократа с правительством, желавшим заставить его молчать, произошла, когда у власти был Совет Тридцати. Вероятно, некоторые из его сравнений поступков Тридцати с поведением плохих работников вызвали гнев Крития и его коллег. Во всяком случае, Критий отвел Сократа в сторону и сказал ему, чтобы тот «дал отдохнуть» своим «плохим работникам и ослам», то есть перестал говорить. (Лично я предполагаю, что Сократ сравнил тридцать правителей с пастухами, занятыми только тем, что жарят овец, которых должны стеречь.) Предупреждение не подействовало, и вскоре правители, чтобы сделать Сократа своим соучастником, приказали ему помочь арестовать богатого человека, Леона с Сала-мина. Арест был несправедливый, Леон после него был убит, а имущество его конфисковано. Сократ спокойно ушел к себе домой, и только возвращение к власти демократов не дало ему погибнуть от рук диктаторов-олигархов. Но Анит, несмотря на миролюбие, которое он проявил в своем законе о всеобщем прощении за прежние преступления, тоже посчитал Сократа опасным для общества и выдвинул против него обвинения в суде, чтобы Сократ, испугавшись, покинул Афины или перестал критиковать демократию. У Анита были некоторые основания чувствовать, что власть демократического правительства Афин была непрочной и что критика Сократа не была тем патриотизмом, слепым и нерассуждающим, которого хотел Анит15. Но совершенно ясно, что Сократ, который был убежден, что ум – единственная надежда в деле улучшения человечества, не мог уступить и отказаться от своего призвания ради полезных лишь на время идей правительства. Анит сделал по отношению к Сократу ту же ошибку, которую делали и многие другие греки: он считал, что Сократ на самом деле не верил в то, что говорил. Афины были полны людей, говоривших как идеалисты, но действовавших так, чтобы получить больше богатства и уюта для себя. Однако Сократ на самом деле верил в то, что лучше пострадать от несправедливости, чем ее совершить. Он верил, что его вопросы имели первостепенную важность для общества и приносили обществу пользу и что он поступил бы плохо и неверно, если бы убежал или замолчал. Поэтому Сократ вынес судебное разбирательство, был приговорен к смерти и был казнен. Платон в своих трех знаменитых диалогах «Апология Сократа», «Критон» и «Федон» описывает суд над Сократом и его смерть, и это – одно из величайших сочинений в античной литературе16. Платон записал речь Сократа на суде, в которой Сократ вместо того, чтобы приносить извинения и обещать исправиться, заявил, что он – благодетель общества. Об эпизоде с дельфийским оракулом Сократ рассказал, чтобы объяснить, почему он задавал вопросы так упорно и настойчиво и почему Анит и другие считали его вопросы такими оскорбительными. До нас дошла его заключительная речь, обращенная к судьям, в конце которой он заявляет о своем убеждении, что «никакое зло не может повредить хорошему человеку ни в этом мире, ни в загробном». Наконец, в «Федоне» Платон описывает Сократа в последний день его жизни, беседующего с друзьями, которые пришли повидать его в тюрьме, о природе человеческой души и об очевидности ее бессмертия. Спокойный, критичный и дружелюбный, Сократ объяснял своим друзьям, как он пришел к пониманию того, что человеческая душа ценнее и сложнее, чем думают о ней поэты, ученые и практики. И он рассказал друзьям, почему он нашел основания надеяться на то, что душа, которая способна познать вечные истины и отразить в себе образ идеала, будет бессмертна. Как и доказательство Сократа, что люди в своем поведении должны руководствоваться уважением к справедливости, не полностью убедившее его друзей, эти абстрактные доводы, которые Сократ настойчиво просит друзей рассмотреть и критиковать, могут не убедить читателя, но диалог Платона убеждает каждого читателя, что Сократ бессмертен. Когда солнце начало опускаться к горизонту на западе, Сократ выпил смертельный яд и умер. «Так умер наш друг, наилучший и самый справедливый из всех людей, которых я знал» – вот последняя фраза диалога «Федон». И суд истории, отменив приговор афинского суда, согласился с Платоном. ПлатонПорядок, факт и ценность
Два великих афинских ученых-творца, стараясь ответить и на тот вопрос, который интересовал Фалеса, и на тот, который тревожил Сократа, свели все интуитивные открытия, сделанные до них греками в философии и естественные науках, в две великолепные теоретические системы. Этими учеными были конечно же Платон и Аристотель. Если основной характеристикой системы Платона может быть какая-то одна идея, то это идея Добра. Этот ценностный принцип в определенном смысле является целью всего философского умственного исследования и создает систему координат для Платоновой новой карты реального мира1. На этой карте Платон разместил сделанные до него интуитивные открытия греческой мысли и опробовал полученную систему, применяя ее к различным проблемам и среди них – к тем вопросам, которые побудили его заняться философией: о природе человеческого «я» и об отношении этого «я» к обществу. Деятельность Платона можно разделить на четыре периода в соответствии с этапами развития и изменения его мысли. Платон перешел от поэзии своих сократовских диалогов к практической деятельности, от практики к теоретизированию, от философского видения мира к точной проверке и критике. Судьба его идей тоже сложилась интересно. Многие последующие философские разработки, которые имеют определенные общие черты, получили название «платонизм». Однажды Уайтхед охарактеризовал западную философию как «ряд примечаний к Платону», и эта оценка вряд ли преувеличена. Платон с его даром теоретического видения дал Западу традицию, которая не прервалась до сих пор, и цель, которой Запад так и не достиг2. Говоря о Платоне и Аристотеле, важно получить некоторое представление о тех общих моделях и основных темах, которые дали им возможность увидеть и изобразить все сущее и все знание в их великом разнообразии и сложности как одно упорядоченное целое. Дать это представление в сжатом виде трудно, и при этом остается слишком мало места для иллюстративных примеров, но, к счастью, и Платон и Аристотель взяли за точку отсчета ту историю философии, которую мы только что проследили, и, возможно, в предыдущих главах встречаются некоторые оценки, примеры и предположения, которые имеют отношение к Платоновой идее-форме и Аристотелеву понятию причинно-следственной связи. После Сократа в афинской философии начались путаница и хаос. Сократ показал, что наука, послужившая источником для применявшейся раньше модели абстрактного теоретического мышления, не могла учесть составляющие человеческой жизни – связанные с понятием ценности, – которые играют в ней такую важную роль. Горгий и другие софисты показали, что теоретическая философия, по свидетельству самих же философов, приводит к противоречивым взаимоисключающим выводам и даже не способна дать такое описание мира фактов – своего предмета изучения, где бы последовательно проводился какой-то один принцип. Проблемы, накопившиеся за три века исследований и споров, никак не складывались в единую четкую и заслуживающую доверия схему. Даже имея перед собой мощнейший по силе пример – жизнь Сократа, философы испытывали искушение заменить философию какой-либо другой отраслью знания – риторикой, медициной или физикой – либо ограничиться исследованиями в области логики или этики. В этих узкоспециальных областях перед ними не вставала непосильная задача попытаться дать полный системный ответ на изучаемый вопрос. Для синтеза старых идей и новых проблем был нужен гений – человек, который обладал бы тонкостью чувств поэта и способностью точно оценивать абстрактные построения, которая есть у математиков. Но тонкости чувств и дара точной оценки было недостаточно. Они одни могли бы породить лишь туманные восторги. В придачу к ним было необходимо безошибочное чувство совместимости и формы, способность увидеть, каким образом складываются друг с другом самые несоединимые компоненты. Гений Платона в такой окружающей среде, как Афины, отвечал всем этим требованиям и спас теоретическую философию от угрозы испытать пренебрежение, увязнуть в мелочах и банальностях или быть отвергнутой. Стать философом Платона побудила казнь Сократа. Платон, в то время молодой аристократ, собирался быть политиком. Он отказался от этих честолюбивых планов и создал свои сократовские диалоги – серию блестяще написанных вымышленных разговоров и речей, где центральным действующим лицом является Сократ. Целей у Платона при этом было две: во-первых, защитить Сократа от приговора афинского суда и, во-вторых, продолжить дело Сократа – ставить вопросы, когда афинские политики надеялись, что прекратили это. О жизни Платона до того, как ему исполнилось двадцать три года, мы знаем очень мало. Он был родом из семьи, уже давно занимавшей высокое положение в Афинах. Сократ был другом этой семьи, и Платон с детства был знаком с Сократом и восхищался им, хотя, вероятно, формально Сократ не был ни его учителем, ни его воспитателем. Отчим Платона, Пириламп, активно участвовал в политической жизни Афин в то время, когда там правил Перикл; два его других родственника, Критий и Хармид, возглавляли мощную консервативную политическую партию. Поэтому вполне естественно, что в юности Платон не мог представить себя в будущем никем, кроме политика. Это согласуется и с тем, как он описывает себя в «Седьмом письме». Рассказ о том, что у него была большая мечта писать стихи, трудно проверить, но, учитывая литературный талант Платона, это вполне может быть правдой. Он не обязательно должен был считать эти две цели несовместимыми. Первая попытка Платона принять активное участие в политической жизни Афин относится к тому времени, когда закончилась Пелопоннесская война и Совет Тридцати установил свою диктатуру. Критий был главой этого совета, а Хармид членом, и молодой Платон получил приглашение стать одним из Тридцати. Но он решил немного подождать и посмотреть, что они будут делать, и отказался войти в этот совет, когда увидел, что из-за несправедливости и беззакония диктаторов годы войны кажутся людям счастливым временем. Когда Анит со своей демократической группой вернулся к власти, Платон посчитал это время подходящим для того, чтобы начать ту карьеру, о которой мечтал. Хотя Платон и был аристократом, он не был сторонником тех крайних идей, которых придерживалась антидемократическая группа; так что, когда Анит пришел к власти, Платон вполне мог надеяться, что может быть полезен в деле восстановления политического единства Афин. Но как раз в это время Анит, напуганный той свободой, с которой Сократ высказывал свои взгляды, сфабриковал ложные обвинения, которые привели под суд и на казнь того, кто был для Платона горячо любимым старшим другом, и Платон снова отложил на будущее свои честолюбивые замыслы. Он был разочарован, возмущен и оскорблен, когда обнаружил, что в демократических Афинах так же, как в Афинах олигархических, несправедливость неразлучна с властью3. Является это необходимым следствием, вытекающим из самой природы общества, или может существовать общественный строй, при котором такой человек, как Сократ, был бы оценен по достоинству и люди уважали бы правосудие, – об этом Платон не переставал думать и писать все годы своей философской деятельности. Но независимо от того, как отвечала на этот вопрос теория, реальная политическая практика его времени убедила Платона, что он не может быть политиком, и больше он никогда не пытался сделать управление государством своей профессией4. Видимо, сразу после казни Сократа Платон уехал из Афин и короткое время жил в Мегаре; тогда же он начал писать свои сократовские диалоги. Он был глубоко убежден, что Сократ был прав – прав относительно внутренней ценности справедливости, прав относительно важности вопросов, которые он ставил, прав в том, что людей необходимо заставить остановиться и серьезно задуматься над тем, кто они такие и куда они идут. Платон не хотел допустить, чтобы афиняне добились успеха и заставили Сократа замолчать, казнив его; Платон хотел доказать, что Сократ был, как тот сам говорил, благодетелем общества, а не преступником. Эти воображаемые беседы – классические образцы литературно-философской драмы. Хороший пример этого – спор о природе умеренности в диалоге «Хармид»5. Сократ встречает Крития и Хармида и устраивает им допрос на эту тему. Оба не отличаются умеренностью, но каждый из них думает, что знает, что это такое. Предполагается, что читатель тоже убежден, что знает это, и что он соглашается по очереди с каждым. Сократ, с его страстью к выяснению истины через вопросы, показывает и читателю, и персонажам диалога, что очевидные понятия, которые они признают истинными, определены нечетко и не годятся для отстаивания в споре. В конце беседы Критий и Хармид действительно становятся, хотя лишь на время, более умеренными и мудрыми. В конце диалога они уходят от Сократа. А читатель знает из афинской истории, что эти двое организовали режим Тридцати с его разнузданным террором. Более яркой и драматичной картины взаимодействия идей, характеров и поступков нельзя себе представить. Когда Платон сумел воссоздать в своих сочинениях сократовскую страсть к выяснению истины путем расспросов, он написал и литературный портрет Сократа, где подчеркнул то, о чем говорилось в предыдущей главе: жизнь самого Сократа доказала истинность его высказывания о том, что иногда люди поступают так, а не иначе, потому что следуют своим идеалам. Созданное Платоном описание суда над Сократом, времени, проведенного Сократом в тюрьме, и его последней беседы с друзьями в день казни показывает, что Сократ последовательно действовал согласно своим принципам: как справедливый человек, он не шел ни на какой компромисс, когда нужно было делать то, что он считал правильным. Поскольку некоторые афиняне, в том числе друг Сократа Ксенофон, не поняли, почему он так упрямо отказывался идти на компромисс с правительством, Платон поставил себе задачу разъяснить им это6. У этих ранних диалогов Платона широкий круг персонажей и тем: Сократ разговаривает не только с политиками, но и с ведущими софистами того времени, с религиозным фанатиком, с мальчиками, с вышколенным по части светских манер, но пустоголовым юнцом, который только что закончил учебу у мастера-софиста Горгия, и со многими другими. Их дискуссии переходят от критики Гомера к теории языка и дальше к более распространенным темам мужества, мудрости, умеренности и определения человеческого совершенства в общем смысле слова7. Эти диалоги зачаровывают своих читателей с тех пор, как были написаны. Эти образцы редко встречающегося сочетания красоты стиля и формы с дерзостью содержания постоянно кто-нибудь переписывал, переводил, комментировал и многие читали. То, что Платон, выбирая форму для своих философских работ, остановился на диалоге, было гениально. Как мы уже видели, на ранних этапах развития философии не было всеобщей договоренности о том, чтобы выражать свой взгляд на мир в той, а не иной литературной форме. Какую форму выбирал философ – эпическую поэму, короткое изречение или чертеж, – зависело, видимо, от того, какой аспект реальности он считал наиболее важным. Одновременно философы осмысливали изучаемое в таких объективных терминах, что Сократ мог обвинить их в том, что они забывали учитывать себя самих8. Ведь если реальность – это единая система, внутри которой находятся связанные между собой природа и человек, то философия и в форме и в содержании должна соблюдать «правильное расстояние» или «правильный баланс» между безличным внешним миром и индивидуальной реакцией наблюдателя на него. По сравнению с работами самых первых философов диалоги Платона представляют собой новое слово в аргументации, доказательствах и объективности. В них нет присущего лекциям и книгам по технике бесстрастия, когда акцент сознательно делается только на излагаемой теме, а интересы людей, особенности их характеров, побудительные мотивы слушателей и сам автор оказываются вне поля зрения. В наше время в Америке все более широкое использование дискуссионных методов в преподавании и постоянное изучение работ Платона в качестве книг для чтения по философии, которое теперь начинается еще на уровне колледжа и продолжается в высшей школе, могут быть признаками того, что наше собственное представление о философии движется назад к какой-то более субъективной форме – от лекции снова к диалогу, в ходе которого мы все участвуем в поиске истины9. Платон в своих диалогах – один из величайших писателей всех времен, а как изобретатель для своей Академии – первого в истории университета и новой организационной структуры – он один из великих первооткрывателей в образовании. Его вдохновляли несколько причин сразу: восхищение пифагорейской наукой, новая в то время идея, что, возможно, под «науку об обществе» можно подвести прочное основание, и понимание того, что если надо улучшать человеческое общество, то необходима какая-то организация для ведения исследований. Влияние его деятельности было огромным: каждый колледж, университет и научно-исследовательское учреждение на Западе – прямой потомок Академии Платона. В возрасте чуть меньше сорока лет Платон снова покинул Афины и отправился в поездку в западную часть греческого мира. Он хотел побывать в двух городах – Таренте, который находился в Южной Италии, и Сиракузах на Сицилии (Египет уже почти потерял привлекательность как центр учености). Тарент остался центром пифагорейства. Политические перевороты, уничтожившие Пифагорейское братство, не затронули ни этот город, ни соседние с ним местности. Выборным главой Тарента был тогда Архит, пифагореец, который проделал большую работу в чистой математике и выполнил ее блестяще, имел очень четкое представление о том, как можно применить математику к этике и общественному строю, и был широко известен как ученый и как государственый деятель. Он казался Платону как раз таким человеком, с которым хотелось встретиться10. И Платон не был разочарован. Поездка в Тарент дала молодому писателю и философу так много, как он надеялся: он на долгие годы стал другом Архита и в результате встречи с ним яснее понял, каким должно быть то учебное заведение нового типа, которое он надеялся основать по возвращении в Афины. В Сиракузах вышло иначе. Под властью сменявших друг друга диктаторов жители этого города достигли невероятно высокого уровня жизни. Правители Сиракуз несколько раз подряд победили карфагенян и собрали при своем дворе лучших поэтов, скульпторов и ремесленников. Во времена Платона, при Дионисии Первом, Сиракузы были наверху своей славы, и Платона манили туда рассказы об этой великолепной столице, которая была одновременно ведущим культурным центром Запада и примером диктатуры в ее наилучшей и наиболее успешной форме11. До нас дошел рассказ, причем более ранний и более достоверный, чем большинство подобных рассказов, в котором говорится, будто бы Платону настолько не понравились роскошь и бесцельность придворной жизни и он так резко высказался по этому поводу, что Дионисий Первый в порыве гнева, нарушив и правила хорошего тона, и закон гостеприимства, отправил Платона на корабле в Эгину и приказал продать там в рабство. К счастью, там оказался друг Платона, который заплатил за него выкуп, и философ, как и планировал, вернулся в Афины. Этот рассказ может быть преувеличением, но нет никакого сомнения в том, что Платон считал аппарат шпионов и тайную полицию признаками болезни того государства, которое их имеет, и полагал, что при дворе сиракузского правителя царят упадок и вырождение, а самого правителя счел параноиком и пришел к выводу, что «только сумасшедший может выбрать себе жизнь тирана»12. Мы, вероятно, правы, думая, что Платон вспоминал об Архите, когда позже писал о том, что правители должны быть философами; и, несомненно, он имел в виду Дионисия, когда сочинял свое полное убийственно едкой критики описание тоталитарного государства, порабощенного обезумевшим от власти диктатором13. Вернувшись в Афины, Платон основал свою Академию. Это был новый тип школы – исследовательский и образовательный центр на уровне высшего учебного заведения. Хотя Архит в какой-то мере вдохновил его на это, Платон не собирался вслед за ним сводить все знания к математике: Сократ убедил Платона, что другие вопросы и методы тоже важны. Однако Платон искал способ выполнить программу Сократа – применять ум к этическим и политическим делам людей, и предположение Архита, что математика может служить моделью для науки об обществе, показалось ему привлекательным. Если бы можно было описать политические проблемы языком того объективного, четкого и точного дедуктивного анализа, каким оперирует геометрия, то, вероятно, можно было бы обнаружить ложные выводы и неоднозначности, которые лежат в основе этих проблем. Возможно, как раз этим путем удалось бы выработать разумную политическую линию вместо того шатания из стороны в сторону, которое происходило во времена Платона, когда решения в политике принимались на основе догадки или каприза. Платон был убежден, что разработать новую науку о человеке можно, хотя и трудно. Чтобы сделать это, обществу было нужно какое-то объединение ученых, работающих вместе. В Пифагорейском братстве уже тогда признавали, что самым одаренным его членам необходимо образование выше начального и даже среднего уровня. Специалисты-медики уже какое-то время до Платона получали дополнительное образование повышенного типа, и, кроме того, необходимость такого сообщества естественным образом вытекала из того поиска новых видов компетентности, который вел Сократ. Но во времена Платона эта идея все же не была признана всеми. Считалось само собой разумеющимся, что учебой для молодых людей должно являться реальное участие в торговых делах и политике. В ситуации, когда общество считало, что смелый замысел Платона бесполезен, не нужен и, вероятнее всего, неосуществим, Платону понадобились и большая сила, и дар убеждения, чтобы реализовать свой план создания Академии14. Конечно, идея такой школы имела предысторию в более раннем прошлом Греции. От неформальных групп учеников при учителях в древнем Милете к общей этической и религиозной жизни пифагорейцев и дальше к афинской исследовательской группе Архелая развивалась традиция организованных групп, участники которых работали вместе над математическими и естественнонаучными проблемами. Сократ с его кружком друзей и софисты с их классами учеников расширили область применения этой практики, перенеся ее в философию и право. Но именно Платон первым ясно осознал, что исследования, необходимые для дальнейшего прогресса в познании, пойдут гораздо легче, если появится особое учреждение, специально предназначенное для ведения исследований, дискуссий и записей, чтения литературы и, возможно, постановки опытов15. То, что Платон не только додумался до этой идеи, но быстро и умело начал ее реализовывать, характерно для него. Позднейшие критики и поклонники Платона часто проходят мимо этой его напряженной работы по практическому применению его мыслей. Около Афин была широкая общественная дорога с деревьями по бокам и сад, названные в честь похороненного там героя Академа (иначе Гекадема). Платон основал свой образовательный центр рядом с этим местом, и именно по этой причине за созданием Платона закрепилось имя Академия16. Выбирая и приглашая к себе помощников для своей новой школы, Платон старался, чтобы там были представлены все специализированные области знания. Он хотел этого из чувства системы, которым обладал; на его решение могло также повлиять то, что ранее пифагорейцы обнаружили одни и те же закономерности в искусстве и природе. Упорядоченное целое обычно нельзя освоить постепенно, часть за частью. Более того, любое движение вперед в какой-нибудь одной области или одном аспекте знания будет иметь последствия для всех остальных областей или аспектов. Если взять примеры из нашего времени, то новые открытия в психопатологии немедленно находят отклик в уголовном праве, новые исследования спиралей в стереометрии могут оказаться как раз тем, что поможет объяснить поведение молекул в органической химии. Итак, Академия должна была стать «университетом», маленькой копией той вселенной, для изучения которой была задумана. В этом случае замысел Платона тоже был разрывом с традицией: до него школы либо обучали профессии, как было в медицине и праве, либо скреплялись общей верой, совершенно не похожей на общую интеллектуальную цель, как Пифагорейское братство17. Платон с самого начала планировал иметь в своей группе, кроме ученых-исследователей, и более молодых учеников. Академия должна была стать наследницей сократовского идеала исследования с помощью вопросов, и казалось желательным обеспечить преемственность в группе вопрошающих, сделав новую школу не только исследовательской, но и учебной. Вероятно, предполагалось, что эти молодые члены школы будут выполнять какую-то формальную работу в математике и естественных науках и что-то читать из поэзии и философии, но, видимо, их главной учебой было участие в обсуждении текущей работы и помощь в ее выполнении. Кстати, интересно, что среди членов Академии были две женщины, то есть идея совместного обучения мужчин и женщин в университете родилась одновременно с самим основанием университета. Это так же, как другие новые идеи, нашедшие воплощение в школе Платона, несомненно, вызывало критику, потому что высшее образование для женщин противоречило традициям и казалось глупостью тогдашним горожанам. Приятно узнать, что Академия имела огромный успех. Она быстро создала себе громкое имя во всем греческом мире и за его пределами. Через двадцать лет после ее основания научная слава Платона была так велика, что его приезд был почетом для сиракузского двора; было логично считать Академию самым подходящим местом для учебы необыкновенно талантливого сына врача из Македонии. Города, где пересматривали законодательство или составляли новые своды законов для колоний, просили Академию прислать консультантов. И – вот окончательное посвящение в знаменитости: тогда так же, как и сейчас, комические поэты высмеивали Платона и его школу в своих сатирах на известных интеллектуалов. Диоген Ааэрций в своем «Жизнеописании Платона» приводит целый ряд этих шуток (из не дошедших до нас комедий). Примерно в это время Платон начал яснее представлять себе, как его идеи могут быть сгруппированы в новую философскую систему. Его восхищение идеализмом Сократа, его укрепленная встречей с Архитом вера в то, что природа представляет собой упорядоченный космос, его надежда, что научная работа, которую совместно ведут много специалистов-ученых, может привести к новым шагам вперед по пути прогресса, не только были ключевыми идеями в его методике работы в университете, но, казалось, давали ему и ключ к разработке проблем философии. В своих великих диалогах, написанных в этот период, – «Федоне», «Пире», «Государстве» и «Фед-ре» – Платон делился с читателем этими своими новыми мыслями. Итоговый вариант этой системы – набросок ее основных очертаний у Платона в «Государстве» – будет рассмотрен далее. Получив, как ему казалось, новый, удовлетворительный ответ на вопросы о том, что такое действительность и человеческое «я», Платон не позволил себе самодовольства и праздности. Он и Академия начали проверять и критиковать эти новые идеи. Сочинения, созданные Платоном в этот поздний период («Тимей», «Парменид», «Теэтет», «Софист», «Государственный деятель», «Филеб», «Законы» и, вероятно, «Эпином»), как и следовало ожидать, в гораздо большей степени профессионально философские и аналитические, чем диалоги раннего и среднего периодов, фактически только в нашем веке стали находить читателей, способных оценить их в полной мере. Со времени основания своей Академии (примерно 387 год до н. э.) до своей смерти в 347 году до н. э. Платон работал в своей школе – вел дискуссии, писал и проводил исследования. Единственный большой перерыв, вернее, ряд перерывов в этой научной деятельности, начался после получения приглашения из Сиракуз, которое побудило Платона во второй раз приехать в этот город. В свой первый приезд он подружился с братом Дионисия Первого Дионом, и после смерти Дионисия Дион пригласил Платона приехать ко двору сиракузских диктаторов и стать учителем его племянника Дионисия Второго, который унаследовал власть. На этот раз поездка Платона была государственным делом, и сиракузский двор считал его приезд честью для себя. Но вскоре молодой царь решил, что Платон и Дион готовят заговор, чтобы свергнуть его, и обоим пришлось бежать с Сицилии. Это произошло в 367–366 годах до н. э. В 361 году до н. э. Платон снова приехал в Сиракузы, чтобы попытаться стать посредником между продолжавшими враждовать Дионисием Вторым и Дионом; однако его усилия по примирению не имели успеха. В 359 году до н. э. Дион вопреки совету Платона захватил власть в Сиракузах и вынудил своего племянника бежать в Коринф, но в следующем году Дион был убит, и в Сиракузах начался политический хаос. Это было одно из немногих дел Платона, в которых он потерпел неудачу. Позже он написал два подробных «открытых письма» («Письма» VII и VIII) о своем участии в этих событиях18. Некоторые ученые считают, что этот опыт в значительной мере определил новый взгляд Платона на конкретное практическое применение политических теорий, которые в поздних работах Платона противопоставлены абстрактным принципам. За исключением этого вмешательства в сиракузские дела, Платон, должно быть, с удовлетворением смотрел на то, что совершил за свою жизнь, но, как уже было сказано, был совершенно лишен самодовольства. К моменту своей смерти (а он прожил восемьдесят лет) он еще напряженно работал над монументальным сочинением «Законы» – подробно разработанным образцом свода законов для современных ему городов. Как велика роль Платона в истории западной мысли, можно очень приблизительно судить по тому, что Академия как учебный центр просуществовала до 529 года н. э., а платонизм до наших дней остается одним из главных направлений традиций западной философии. В Книге VI своей работы «Государство» Платон объединяет различные пути познания и различные виды реальности, познаваемые на каждом из этих путей, в одной диаграмме19. Эта диаграмма, которая служит хорошим введением в систему Платона, создана на основе предположения, что все виды знания и вещей, известные в природе, связаны между собой и составляют одну огромную систему, скрепленную одной общей наивысшей идеей на самом верхнем уровне. Мы должны знать эту схему «уровней ясности знания», если хотим понять политическую теорию Платона. Когда он пишет, что единственная возможная надежда для человечества – отдать власть в руки ответственных интеллектуалов, он имеет в виду специалистов по особого рода «социологии» и «общей теории ценности», которые, как он надеялся, когда-нибудь будут созданы. Запад не создал их до сих пор. TO AGATHON (Идея Добра)  «РАЗДЕЛЕННАЯ ЛИНИЯ» ПЛАТОНА Возьмите линию и разделите ее на четыре отрезка… они будут находиться один к другому в таком же отношении, как относительные степени ясности четырех видов знания… Государство VI, 511A Виды знания расположены в порядке ясности – наименее ясный внизу, наиболее ясный вверху. Названия, которые Платон дал четырем отрезкам линии, помогали ему указать, какой тип методики и достоверности присущ, по его мнению, каждому из этих способов познания. Но эту же диаграмму можно прочесть и как платоновскую схему истории философии до Платона, поскольку эту историю он тоже считал движением вперед от стадии очень неясного донаучного фольклора к завершающему синтезу, который выполнил он сам. «Идея Добра», помещенная в вершину этой структуры, – то, что Платон считал своим собственным завершающим вкладом в эту историю. Это его способ объяснить, как четыре вида знания, несмотря на различие в методах изучения и в содержании предметов, совместились друг с другом и составили единое целое. Диаграмма «Разделенная линия» интересна и сама по себе: это, вероятно, самая знаменитая и чаще всего рисуемая диаграмма за всю историю философии. В этом случае Платон явно применил пифагорейскую технику преподавания и исследования с помощью диаграмм20. Платон использовал эту диаграмму в дискуссии о политической теории, чтобы показать, кого он называет настоящим ученым-политиком, в отличие от политика-практика, который использует совершенно иную методику и иной вид знания. Чтобы объяснить, что он имеет в виду, Платон расположил четыре степени «ясности знания» вдоль общей линии (смотрите приведенную ранее диаграмму). Нижний отрезок линии называется эйказия, что иногда переводят как «догадка», или «угадывание». Это название означает своего рода «мышление картинками» – знание, которое представляет собой не более чем игру воображения и рассказ. Вероятно, это понятие лучше можно описать словом «молва», или, может быть, «догадка», но в том смысле, который глагол «догадываться» приобретает в американском разговорном языке, когда используется в значении «предполагать». Американец говорит «я догадываюсь, что это так» в значении «я считаю, что это так», когда имеет в уме какую-то мысль, но не может точно назвать причины, по которым она у него возникла. Второй отрезок назван словом пистис, которое означает веру, или доверие, и выбрано для контраста с недостоверностью догадки. Это тот вид знания, которым обладает ремесленник или техник, достоверное знание, как. Выбор Платоном этого названия заставляет предполагать, что практическое «знание, как» имеет совершенно иную степень надежности и ясности, чем догадка. За открытиями, сделанными в ремеслах, стоит многолетний опыт людей, накопленный за века проб и ошибок, и каждому ремесленнику необходима долгая практическая учеба. Третий вид знания назван «дианойя» – «понимание», или «знание, что». Дианойя превосходит пистис по ясности и достоверности, поскольку представляет собой знание не только о том, как вещи действуют, но и о том, что они такое. В наше время это знание студента-химика, который может, применяя обобщенные правила из периодической таблицы, предсказывать и объяснять реакции, в отличие от знания мальчика с набором реактивов, который заучил несколько их сочетаний, дающих в результате взрывы, невидимые чернила и странные запахи. Ученый того типа, к которому принадлежит студент-химик, – это человек, который открыл путем обобщения общие законы и виды вещей в той конкретной области, которую изучает, – классификацию чисел на четные и нечетные, закон всемирного тяготения или что-то еще, – и решает частные задачи, показывая, как эти общие правила применяются в конкретных случаях. (Платон, когда писал этот отрывок, считал, что математика в ходе развития уже вполне приобрела научную форму, естественные науки продвинулись вперед по пути к ней, но в политике и этике даже величайшие специалисты его времени не пошли дальше путаницы, состоящей из «знания, как» и «догадки».) Однако над дианойей – «знанием, что» с его обобщениями и логическими выводами – Платон помещает еще один, более высокий уровень – ноэзис, или «знание, почему». Различие между «знанием, что» и «знанием, почему» – это разница между знанием одного набора правил и видов для какой-то конкретной области и знанием, как эти специализированные правила складываются в единое системное целое21. «Знание, почему», как указывает его греческое название ноэзис, – это знание с помощью того разума, который назывался по-гречески Нус и уже играл такую важную роль в греческой философии от Парменида до Анаксагора. Сам Платон описывает разницу между «знанием, почему» и «знанием, что» следующим образом: 1) «знание, что» довольствуется частичной систематизацией; «знание, почему» подразумевает целостные системы; 2) «знание, что» использует гипотезы, обобщения и таблицы, которые позволяют предсказывать результат; «знание, почему» поднимается выше уровня результативных гипотез на уровень проверенных теорий; 3) «знание, что» имеет целью точное описание; «знание, почему» (как предполагает термин «проверенные теории») добавляет к этой цели оценку. Представление о Нусе как о силе, позволяющей проникнуть умом во внутреннюю природу и глубинный порядок вещей, не имеет близкого соответствия в обычных современных дискуссиях22. Однако Платон противопоставляет «знание, почему», рассматривающее целостные системы, более специализированному «знанию, что», которое довольствуется объяснением отдельных частей. Только на уровне «знания, почему» человек осознает, например, что существует большая несовместимость между материалистической философией и верой в бестелесную душу, принятой в теологии. Разум ставит перед нами задачу примирить то и другое или выбрать что-то одно. Но физик-материалист и теолог каждый внутри своих знаний могут быть вполне довольны теми объяснениями, – что такое атомы у одного и что такое души у другого, – которые они разработали на уровне «знания, что». Другое направление, на котором Платон видит различие между этими двумя видами знания, – то, что разум, иначе «знание, почему», самокритичен и пытается исследовать свои предположения, а понимание, иначе «знание, что», удовлетворено, если может делать подтверждающиеся предсказания. В этом случае разница между двумя видами знания такая же, как между химиком-теоретиком, проверяющим и критикующим предположения, на которых основана периодическая таблица элементов, и студентом-химиком, который принимает эту таблицу как что-то само собой разумеющееся и доволен ею, раз может предсказывать и объяснять реакции. Далее. «Знание, почему» учитывает соображения ценности, в то время как «знание, что» занимается только описанием фактов. Мы можем это понять лучше всего, если представим себе ученого или философа, сравнивающего несколько альтернативных гипотез, каждая из которых позволяет верно предсказывать результаты. Он должен оценить эти гипотезы и выбрать лучшую или составить из них новую теорию, которая будет лучше. В этом случае Платон верил, что то, как мы говорим, точно показывает, что суждение о ценности на завершающем этапе является необходимой частью мира фактов23. Эти три различия в ясности между пониманием и разумом, «знанием, что» и «знанием, почему», прокладывают путь для завершающего перехода от разума еще выше, к тому понятию, которое находится на вершине линии, – к специальному знанию о добре. На самый верх своей диаграммы «Разделенная линия» Платон помещает «Идею Добра». Этот взгляд восходит к представлению пифагорейцев о том, что ценность реализуется через порядок, по-гречески космос, и в небе, и в душе человека, и в обществе. Если бы различные аспекты реальности, существование которых признали философы, никак не соединялись один с другим, то существовало бы много «миров» и не было бы единой системы – космоса, – охватывающей все существующее. Рассматривая связи, соединяющие различные виды и уровни того набора разрозненных «реальностей», который указан в приведенной ниже приблизительной схеме, мы обнаруживаем, что существует действительно только один мир, части которого системным образом связаны между собой. Для Платона это был тщательно аргументированный вывод. С его времени эта идея почти всегда существовала как неосознанное допущение, а не вывод в подтексте и нашего здравого смысла, и нашей научной, технической и философской мысли. В конце концов, в мире, где существует много видов знания и много видов реальности, которую нужно познать, какие у нас причины верить, что математика имеет что-то общее с объектами, существующими в пространстве и времени, а физика вообще имеет какое-то отношение к эстетическому миру религии и поэзии? НОВАЯ СИСТЕМА РЕАЛЬНОСТИ У ПЛАТОНА I. История вопроса Даже при беглом взгляде на основные контуры карты Древних Афин сразу становится видно, что она отображает совокупность многих не похожих один на другой «миров», у каждого из которых – свой особый вид реальности и своя область компетенции.  Платон унаследовал от живших до него греческих мыслителей исследования различных компонентов и видов реальности, которые все заслуживали внимания. Вот список тем этого философского наследия: Физические объекты и процессы (милетцы, Анаксагор) Неменяющиеся числа, формы и т. д. (пифагорейцы) Социальные условности (софисты) Изменяющийся поток, быстротечное существование людей (Гераклит) Сложное человеческое «я» (Сократ) Идеалы и цели (Сократ) Наследие также включало в себя следующие предположения: во Вселенной существует единый организующий ее порядок (пифагорейцы); существует всего одна высшая реальность (Парменид); идеалы выполняют функцию причины в жизни людей и в природе (Сократ); вещи, какими мы их знаем, могут коренным образом отличаться от того, каковы они на самом деле (софисты, особенно Горгий). II. Путь к решению: классификация Платон к тому времени, когда начал писать свои диалоги среднего периода, разработал две классификации видов знания и видов вещей по неизменности, достоверности и полноте. В диаграмме «Разделенная линия» суммировано содержание схемы, которая вылядит так:  На этой стадии мы знаем, что эти восемь видов отличаются друг от друга; теперь задача в том, чтобы выяснить, есть ли между ними какая-либо систематическая связь. III. Мысли и вещи: первый шаг В «Государстве» Платон утверждает следующее: поскольку то, что кажется наиболее разумным человеку-исследователю, также является наиболее истинным в мире фактов, то не обязательно должно существовать резкое различие между человеческой мыслью и всем остальным миром. И наши умы, и внешний мир должны быть устроены согласно одному и тому же общему для них порядку. Если бы было иначе, тогда то, что вылядит наилучшим в плане мысли, не было бы наилучшим в применении к фактам. Таким образом, оказывается, что мысли и вещи организованы согласно одной и той же структурной модели и делятся на одинаковые виды. IV. Причинно-следственные связи: второй шаг Пифагорейцы показали, что существуют математические законы, которые применимы к миру физических объектов и технических приемов и объясняют его, и были убеждены, что в принципе эти законы применимы и для человеческих сообществ. Тот факт, что «обобщение» объясняет природу, указывает на существование причинно-следственной связи между уровнями 2 и 3 нашей приведенной выше схемы. То есть объекты ведут себя так, а не иначе именно потому, что неизменные типы и законы таковы, каковы они есть. Но точно так же, как законы и объекты связаны причинно-следственной связью, ею же связаны объекты и их «образы» – отражения, тени, мгновенные снимки или еще что-то в этом роде. Различные зрительные варианты стола, которые я вижу, обходя вокруг него, связаны с ним системно: это виды стола. Искусство – это умение делать выбор среди таких ракурсов природы или общества: произведение художника «подражает» миру общества и природы. Таким образом, царство «вымыслов» объясняется как имеющее своей причиной царство объектов. Верно, что мы можем вести себя очень разборчиво, когда выбираем среди ракурсов объекта свои и очень оригинальным образом соединяем их снова, но в конечном счете человек искусства берет образцы для подражания именно из объективного мира. Более того, существует возможность подняться выше отдельных специализированных объясняющих схем (гипотез) на уровень более крупных систем (наук), частными случаями которых являются эти схемы (например, теория чисел перерастает таблицу умножения, а психология пытается подняться над стандартными списками «типов аудитории» и «типов доказательства», которыми пользовались риторы-практики), и выяснить, почему возникли именно эти типы и почему таблицы срабатывают правильно. Эта возможность основана на причинно-следственной связи между первым и вторым уровнями таблицы: целостные науки включают в себя и объясняют те частные обобщения, которые служат исходными гипотезами. Из этого следует, что если мы согласны с тем, что причинность транзитивна (то есть что если A – причина B и B – причина C, то A имеет причинно-следственную связь с C), то все четыре уровня линии связаны причинно-следственными отношениями. Кроме того, хотя ни один из уровней не содержит человеческого «я», «трехчастная» душа, у которой три уровня, кажется, подходит как ответ для вопросов Сократа о природе человека. V. Идея Добра: заключительный шаг Объясним, почему существуют те системные связи между различными типами знания и реальности, которые мы видели. По мнению Платона, должна быть лишь одна идея, которая упорядочивает реальность. Это Идея Добра. Окончательный результат показан ниже в виде диаграммы.  Между уровнями существует причинно-следственная связь, которая наглядно проявляется в том, что более высокий уровень дает нам объяснение более низкого (то есть ответ типа «потому что»). Идея Добра – наивысшая идея и причина: она действует как в наших мыслях, так и в мире фактов и придает действительности ее сложный системный порядок. Итак, рассмотрим некоторые из подходящих в данном случае подтверждений тезиса о том, что существует только один мир. Первое и сразу бросающееся в глаза доказательство – связь между нашим человеческим способом мышления и объективным порядком фактов. Построение теорий методом обобщения естественно для человеческого ума: мы знаем что-то яснее, если находим какое-то одно общее правило или одну общую категорию, для которых те многие факты, которые мы хотим понять, являются частными случаями. Затем мы идем дальше: строим абстрактные теории, руководствуясь удачной догадкой, что простые, непротиворечивые и понятные теории и есть те, которые верно объясняют реальный мир. Это – смелое предположение, потому что реальный мир совершенно не зависит от особенностей нашей психики и наших предпочтений. Но выясняется, что мы правы: то самое объяснение, которое нам больше всего нравится, лучше всех остальных позволяет предсказывать результаты, когда его применяют к природе. Должна быть какая-то причина, по которой это происходит; легко можно представить себе мир, в котором человеческие предпочтения не имеют ничего общего с объективными фактами. Неупорядоченный хаотичный мир мифологии был бы как раз таким: раз он был полон непредсказуемых обитателей, которые все совершали какие-то действия, ни одна общая теория не могла бы оказаться настолько достоверной, чтобы ее можно было применить к нему на практике. Платон считал: причина нашей способности познать внешний мир в том, что те же простота и порядок, которые нравятся нам в наших мыслях, существуют и в объективном мире. Эти свойства мы используем как критерии при выборе наилучших теорий, и таким образом они являются стандартами ценности. Поскольку они действуют и в мире природы так же, как в мире мысли, простота и порядок, очевидно, руководящие и направляющие принципы природы. Добро как высочайшая ценность, включающая в себя порядок и простоту как частные виды, присутствует и в мысли, и в мире фактов24. Короче говоря, то, что наши мысли находятся в таком отношении к миру – к миру природы и к миру идей, – есть первое доказательство, что существует всего один упорядоченный космос, в котором мысль и объект, идея и процесс, ценность и факт определенным образом соотносятся друг с другом. Вторым доказательством существования всего одной общей системы реальности, по мнению Платона, является очевидный, но труднообъяснимый факт: прикладные логика и математика, как ни странно, описывают то, что происходит с миром в пространстве и времени. Почему математика и логика, которые описывают отношения, существующие в не подверженном изменениям царстве структур, подходят и для мира физической реальности? Этот вопрос звучит наивно, но совсем не наивен. Пифагорейцы пытались избежать всякого деления математики на фундаментальную и прикладную как раз потому, что хотели объяснить, как именно формы и числа соотносятся с объектами и процессами, хотя в конце концов провели это разграничение. В этом случае существует причинно-следственная связь, которая приоткрывает системный аспект реальности. У Гераклита в его мире борьбы и течения, если бы не было логоса, руководящего постоянными изменениями, математика и логика не работали бы вообще. Математики-теоретики и логики могли бы существовать и в этом случае, но то, что они изучали бы, не имело бы ничего общего с тем, что происходило бы с ними и вокруг них. Платон попытался показать на простом примере, как его идеи соотносятся с физическими фактами. Логические соотношения идей сужают круг возможных причин и изменений. Например, идеи (то есть абстрактные понятия) «горячее» и «холодное» исключают одна другую. Физический огонь «участвует» в идее горячего (то есть быть горячим – его основное свойство), и, рассуждая по правилам формальной логики, мы можем сказать, что «холодный физический огонь» невозможно обнаружить в природе. В более общем случае таблицы и правила, которые делают возможным «знание, что», заставляют предположить, что те соотношения, которые являются формальными в науке, являются и фактическими соотношениями между объектами в природе. При исследовании соотношения между теми измерениями реальности, которые были по отдельности открыты философами до Платона, эта связь логики и математики с физическими причинами и процессами показывает, что формы пифагорейцев и материальные объекты милетцев связаны между собою, а не противоположны и не индифферентны по отношению друг к другу25. Это – второй шаг философского аргумента Платона. Исходя из того, что существуют пять разных типов знания, которым соответствуют разные типы «вещей», Платон выясняет, каким образом они соединяются друг с другом в единую систему – мировой порядок. На первом шаге было показано, что наш субъективный «мир ума» системно связан с «миром фактов». На втором шаге, о котором мы говорим сейчас, Платон показал, что «мир неизменных структур», который мы называем «знание, что», системно связан с «миром природы». Третьим шагом будет выяснение того, есть ли подобные системные связи между «миром природы», общественным миром физики и техники и «частным миром» видимостей, «угадывания», воображения. И действительно, связующее соотношение существует также между общественным миром «знания, как» и миром объектов, с одной стороны и «основанным на догадке» миром образов, намеков, воображения и мифа – с другой. «Картины», которые мы видим или воображаем, что видим, – это образы чего-то, так же как отражения в зеркале – это отражения какой-то другой вещи. Все не похожие один на другой «моментальные снимки», которые делает наше зрение, когда мы обходим крепостную башню кругом, отходим назад и возвращаемся обратно, четко связаны с самой башней. Ее видимый образ становится все меньше, когда мы удаляемся от нее, оказывается ярче или темнее в зависимости от того, на солнечной или теневой стороне мы стоим, и так далее. Когда мы можем соотнести эти мгновенные впечатления («моментальные фотографии») с объектом, который является их причиной, мы обнаруживаем систему в том, что иначе было бы похоже на альбом, в который вложены без всякого порядка разные маленькие мгновенные фотографии. Хотя для поэзии, мифа, воображения найти их происхождение и причину в мире природы или мире идей гораздо труднее, в этом случае тоже видно, что соотношение «объект – образ» имеет тот тип причинности, которого надо было ожидать26. Остается рассмотреть еще два вида связи. Первый – соотношение между различными ценностями и какой-либо одной идеей ценности («добром»), которая выявляет им их общую природу. Когда мы называем «добром» и красоту, и истину, и духовное совершенство человека, и общественную справедливость, это не ошибка и не случайность, а вызвано тем, что во всех этих случаях ценность проявляется в результате одного и того же вида соотношений «часть– целое». У красоты, например, основное условие – такое расположение частей чего-то, при котором каждая из них составляет гармоничное целое с остальными. Истина, как мы уже видели, является свойством простого, связного, легко понятного целого – совокупности общих законов, в которой ни одна часть не противоречит ни одной другой и внутри которой мы обнаруживаем одиночные категории или законы, применимые к множествам случаев и единичных событий. Человеческая добродетель тоже представляет собой правильный порядок «частей» человеческого «я»: в хорошей человеческой жизни разум, честолюбие, влечения расположены в правильном порядке подчиненности друг другу, и каждому из них определено в ней правильное место. Потеря ценности, она же несправедливость, имеет место, когда часть уничтожила целое или целое раздавило одну (любую) из частей. Этот принцип гармонии исходит от формы добра, которая является источником всего хорошего – и того хорошего, что мы находим в красоте, и того, что находим в благородстве, и того, что находим в уме27. Платон показал, что принцип гармонии указывает направление выбору и изменению. В физическом мире планеты и звезды постоянно изменяются согласно простому «музыкальному» плану. На гораздо меньшем по размеру уровне молекул «геометрически правильные тела» оказываются достаточно приемлемыми моделями потому, что сочетают в себе стабильность и симметрию. В мире животных чувство неполноты ведет к желанию быть бессмертным и этим создает инстинкт продолжения рода и жажду творчества. Инстинкт самосохранения тоже можно истолковать как тягу к реализации своих возможностей, а привлекательность идеала дает этой тяге направление. У человека, в отличие от животных, есть сознание, способное ставить вопросы о своей собственной природе и о своей чувствительности к идеалам. Короче говоря, направление природе дает не просто определенная структура, а системная структура, которая реализует полноту путем интеграции частей в более крупные функциональные целые. Насколько наука и этика нашего времени согласуются с этим интуитивным прозрением Платона, а насколько противоречат ему, очень трудно оценить. Отчасти это трудно потому, что как внутри наших естественных наук и этики, так и на их стыке существует много различных теорий. Эволюционная теория описывает именно ту проявляющуюся во всей природе тенденцию к бессмертию и усложнению организма, существование которой предполагается взглядами Платона. В нашей философии истории многие несхожие между собой учения обнаруживают в процессе смены человеческих цивилизаций одно и то же – направленное движение вперед к ценности и порядку (Гегель, Шпенглер, Тойнби и другие). В современной химии нет точного соответствия идее о существовании элементарных частиц, имеющих «форму кристалла». Физика и астрономия не обнаружили в «эволюции» звезд и галактик такого сохранения ценности, которого, по мнению Платона, следовало ожидать. Однако естественные науки установили, что для каждого наблюдателя, независимо от того, находится он в покое или движении относительно других наблюдателей, верна одна и та же совокупность законов природы. В дискуссиях об этике центральной темой является свобода, а не самореализация. Философы, начиная с Канта и затем Сартра, в основном разделяли точку зрения Платона. Но из-за изменений, произошедших в языке и стиле, сейчас трудно оценить по достоинству составленное Платоном описание вершинной идеи его системы, которая дает порядок и направление этой системе как целому28. Демонстрация того, что виды и уровни действительности системно связаны между собой таким образом, что более высокие уровни являются «объяснением» более низких, может показаться ненужной. С тех пор как Платон очертил контуры этой системы видов и уровней действительности, мы можем ясно видеть, что наш мир – это не четыре или пять отдельных измерений, существующих каждое само по себе. Но этот набросок системы был нужен для того, чтобы стал понятен смысл изучения и описания истории греческой философии до Платона. Если теперь мы читаем эту историю как открытие одного за другим новых уровней действительности по мере того, как мысль двигалась от мифа к завершающей философской системе, мы можем понять, в чем заключалась та кажущаяся непоследовательность, которую так легко было осмеивать софистам. В этом Платоновом истолковании точки зрения всех его предшественников содержали одну и ту же ошибку – часть ошибочно оказывалась принятой за целое. Получавшиеся в результате определения философии, в которых она отождествлялась с физикой, математикой, поэтическим парадоксом, техникой, работой по познанию самого себя, во всех случаях оказывались неполными. Возможно, анализ истории философии от Фалеса до Сократа был нужен Платону для того, чтобы накопить данные, необходимые для создания его схемы реального мира. Мы можем использовать его «Разделенную линию» как основу для краткого итогового обзора этой истории философских открытий. Таблица 1 ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ ПО ПЛАТОНУ  1. До возникновения науки жажда познания находила себе выражение только в поэзии и мифологии, на уровне «догадки» и «рассказа». 2. Милетцы, открывшие закономерности в природе и впервые начавшие использовать для объяснения явлений модели, осуществили переход на уровень «знания, как». Это же сделали и софисты, когда открыли, что путем соглашения между собой мы можем создать общественный мир постоянных неличностных стандартов и объектов. (Обратите внимание на то, насколько позже науки о природе наука об обществе и человеке поднялась, согласно этой истории, над самым низким уровнем.) 3. Пифагорейцы открыли царство математических абстракций и обнаружили тесную связь между этими вечными сущностями и миром природы. В частности, они разработали дедуктивный метод доказательства, который стал новой моделью «знания, что» для всех отраслей греческой мысли. Элейцы Парменид и Зенон расширили область применения этого метода, перенеся его с математических доказательств на рассуждения вообще. 4. Догадка Парменида о том, что существует одна высшая абстрактная идея для всей реальности, казалась Платону верным и глубоким интуитивным прозрением. Но Парменид не смог развить это свое интуитивное достижение в систему. Он не захотел признать существование степеней реальности, а из-за этого в его схеме строения вещей не осталось логического места для «видимости». Его единое бытие, хотя он называл его целым, было целым без частей, которые можно было бы соотнести одну с другой или гармонизировать. Пифагорейцы и элейцы занимают на линии Платона дианетический уровень – уровень «знания, что»; но эта дианойя у них дополнена частичным осознанием того, что для завершения их работы по изучению абстракций им нужна идея более высокого плана – космос или бытие. Именно тогда внимание греческих мыслителей и людей искусства так резко переключилось с внешнего мира на человеческое «я». (1) Туманные нечеткие понятия, которыми пользовались литература и обыденное сознание во времена Платона, вероятно, находились еще на самом низшем уровне – были только эйказией. (2а) Анаксагор и Архелай оба старались найти место ума в своих научных схемах строения вещей: оба определили человеческое «я» как часть природы и в результате делали «я» физическим. (2b) Софисты бросили им вызов в отношении этих взглядов, сами же считали, что человеческое «я» формируется общественным миром социальных условностей, а от природы обладает лишь влечением к удовольствию и безопасности. Такая точка зрения концентрировала внимание на том, что не интересовало сторонников научного подхода, – ситуациях, требующих выбора, привычках и мотивах. И наука и софистика толковали человеческое «я» еще эмпирически и операционно, так что тот вид знания, к которому они относятся, попадает на второй уровень линии Платона. (3) Сократ своими исследованиями человеческого «я» поднял изучение этических проблем на новую ступень. Мы обнаруживаем, что он обобщал общепринятые понятия и получал в результате гипотезы, логически выводил следствия и отбрасывал как неудовлетворительные все предлагаемые ему предположения. Это критическое рассмотрение гипотез о человеческом «я» с применением технических приемов логики и науки перевело дискуссию на тот уровень обобщения, который имеет дианойя – «знание, что», – хотя Сократ не открыл какой-то готовой к употреблению «периодической таблицы элементов» нашего «я», которая давала бы удовлетворительные результаты. (4) Однако он открыл другое – что направляющей и унифицирующей частью «я» является идеал реализации своих возможностей, стремление осуществиться полностью, которое есть в каждом человеке. Для «я» существование – всегда погоня за чем-то ценным. Справедливость, мужество, мудрость и умеренность обладают «внутренней», то есть присущей им по их собственной природе ценностью оттого, что приводят в правильный порядок то сочетание вожделений, самолюбия и ума, которое характерно для человеческого «я». Этот ввод ценности в систему как реально существующей и действующей в природе силы притяжения – объяснение из числа таких, которые Платон поместил на четвертом уровне своей линии. Мы не знаем, в какой мере сам Сократ осознавал, что его интуитивное открытие в области этики позволило сложить из всех возникших до него понятий одну непротиворечивую схему. Однако Платон был уверен, что открытие его учителя это позволяло, и при случае даже пытался строить схемы сочетаемости, которые бы показывали, как мотивация и интуиция, взаимодействуя друг с другом, определяют тип личности. (5) В Платоновой истории философии завершающий шаг вперед сделан в результате распространения самим Платоном на весь реальный мир открытия, которое Сократ сделал в отношении человеческого «я», – что объект исследования может быть представлен как упорядоченная система сил, которые удерживаются вместе общей идеальной целью. Теперь все, что раньше казалось существующими порознь отдельными измерениями реальности, могло быть размещено в иерархическом порядке: одно выше, другое ниже. Каждый уровень этой иерархии относится к уровню, расположенному непосредственно под ним, как «одно к многому». Например, один материальный предмет является центром и источником многих своих видимостей, отражений и аспектов. Род живых существ, например «животное», – одна неизменная идея-форма, общая для многих физических объектов-животных, существующих в природе, которые «имеют долю» в этой идее, то есть участвуют в ней. Идеал – это идея системы, в которой какая-то позитивная ценность реализуется через соответствующую модель отношений «часть – целое» (например, красота, справедливость, истина и симметрия – идеи-формы, каждая из которых одна является общей для многих произведений искусства, общественных систем и научных теорий). И наконец, добро, «как солнце в полдень», – единственная наивысшая идея-форма, вершина этой иерархической структуры, общая причина всего добра, отраженного в идеалах; это оно делает реальность единой упорядоченной системой, где каждое измерение соответствующим образом подчинено тому, что находится над ним, и интегрировано в состав целого. Мы можем изобразить это с помощью схемы почти такой же универсальной, как сама Разделенная линия, – рисунка, где Платонова система показана в виде диаграммы, на которой представлены уровни единства и которая сходится в одной точке на самом верхнем уровне. Шелли было знакомо то религиозно-эстетическое чувство, которое символизирует эта диаграмма, когда он писал: Единое остается неизменным, а те, многие, изменяются и проходят; Начиная с IV столетия после Рождества Христова христианские теологи встали на эту платоновскую точку зрения и считают мир иерархически упорядоченным и системно связанным в единое целое. Вместо идеи добра они помещают в вершину иерархии Бога. Влияние христианства, иногда оставаясь на заднем плане, иногда действуя открыто, выработало в нас такое религиозное обыденное сознание, которое заставляет нас нерассуждающим чувством ощущать истинность Платоновой схемы «одно над многим».  ЕДИНОЕ И МНОГОЕ Платон не описывает эту схему в своих диалогах явным образом, но со времен Крантора, главы Академии на рубеже III века до н. э., такие треугольные диаграммы всегда использовались, когда надо было наглядно изобразить и объяснить платонизм студентам или читателям из стран Запада. Треугольник, показанный на этой схеме, – другой способ изобразить те четыре уровня реальности, которые отмечены на «Разделенной линии». Но в отличие от однолинейной диаграммы, треугольная предполагает также, что мы движемся от множества к одному29. Таким образом, у одного физического предмета есть много внешних видов – «видимостей». Точно так же один тип или закон имеет много конкретных проявлений – например, у закона тяготения их столько, сколько существует физических тел, которые притягиваются одно к другому. А типы и законы, которых тоже существует много, в свою очередь, все являются частями одной и той же системы, где есть одна наивысшая идея30. Разные пути, которые ведут к истинному, справедливому, единому и прекрасному, все в конце концов приводят к добру31. Это Платоново системное видение мира не угасло и не стало вышедшей из моды стариной. Уайтхед умело и систематически использовал модель Платона в своих интерпретациях науки и общества. И у нас в центре многих дискуссий, посвященных самым злободневным темам, уместны в определенных контекстах и располагаются в том же порядке те же самые измерения реальности, которые Платон выделил в своей великой схеме. Идеи Платона и современные теории образованияСреди тех вопросов, которыми Платон проверял философские учения на истинность, был вопрос, есть ли от данного учения практическая польза. Обсуждение идеи добра в «Государстве» у него завершается «идеальной биографией» – практической схемой, составленной для обучения людей тому, как можно распознать эту наивысшую идею. Поэтому среди многих вопросов имеет смысл задать и такой: позволяет ли система Платона решить какие-нибудь сегодняшние неотложные практические проблемы. Попытаемся же в качестве проверочного примера сделать для идущих сейчас дискуссий об американском высшем образовании то, что сам Платон сделал в прошлом для дискуссий о реальности. Использовав Платонову системную диаграмму в качестве карты для своего случая, мы обнаруживаем, что Платонов чертеж позволяет яснее определить соотношения между школами и теоретиками и что в нем есть для нас программа того, как свести воедино их интуитивные открытия. Слушая современную дискуссию о высшем образовании, мы различаем среди того, что слышим, аргумент, напоминающий об афинских дискуссиях времен Платона по поводу философии32. Чтобы показать значение философии Платона на примере того, «как она работает», я применю эту схему к анализу системы образования – не того, которое было в Афинах при Платоне, а того, которое дают в современных американских средних школах. Так же, как делал Платон в Афинах, я начинаю применять ее в тот момент, когда дискуссия в обществе находится в самом разгаре. Среди групп, имеющих четкое представление о том, что нужно преподавать сегодня в наших вузах, есть формалисты (которых иногда объединяют всех вместе под названием «гуманитарии»), чье желание – чтобы центральным элементом образования было развитие ума путем выработки у студентов дисциплины и ознакомления их с самыми лучшими достижениями в области литературы, математики и философии. Как пифагорейцы, эти формалисты признают, что третий уровень Платоновой линии – дианойя – имеет значение для людей в их интеллектуальном поиске и взаимопонимании. Но некоторые модные сейчас теоретики образования, которых мы можем отнести к разряду испытавших влияние экзистенциализма, имеют иную точку зрения. Они рассуждают о ценности любования формой, которое противопоставляют творению формы, поскольку не доверяют никаким условностям, заставляющим студента принять на себя определенную общественную роль. Для них главное – сделать так, чтобы каждый конкретный студент осознал свою неповторимость, свою свободу и возможность полностью стать самим собой. Похоже, они настаивают на том, что у эйказии, совокупности специфических для данного человека ярких образов, занимающей самый нижний уровень «Разделенной линии», должно быть место в теории и практике образования. Разумеется, этим они признают ту истину, которую знал Сократ: что без мотивировки, иначе говоря, без личной заинтересованности человек может запомнить какие-то знания, но не может ни учиться по-настоящему, ни заниматься интеллектуальным поиском. Иметь чистую форму без содержания недостаточно: сам Платон всегда даже свои собственные формалистические идеи окрашивал в яркую поэтичную форму с помощью мифа или конкретной характеристики. Систему, которая до сих пор господствует в американской теории и практике учебного процесса, мы можем назвать прогрессивным образованием. Теоретик-прогрессист верит, что образование должно научить студентов использовать идеи в качестве инструментов. По его мнению, значение слова или идеи определяется их применением, то есть цель высшей школы – дать студенту опыт, который научит его пользоваться этими инструментами. «Я» индивидуума во многом создается обществом, и навыки существования в обществе занимают одно из самых важных мест среди приемов, которыми студент должен овладеть по принципу «делай, как я» за то время, пока находится в школе. Некоторые современные прагматики восхищались греческими софистами и верили, что те во многом были предшественниками прагматизма. Как было отмечено в этой книге в главе о софистике, при сравнении практичного оппортунизма софистов с осторожным рационализмом прагматиков оказывается, что сходства между ними меньше, чем представляется на первый взгляд. Тем не менее прагматик с его определением знания как инструмента и сосредоточенностью на технических приемах и практических целях попадает на «Разделенной линии» туда же, куда и софисты. Основной вклад прагматиков в науку – вывод о том, что идея признается таковой только в случае ее применения на деле, и признание огромной роли навыков и условностей в поведении людей. Для платоника интересна еще одна деталь: то, что мы вообще специально изучаем образование, стало возможным благодаря общему для всех этих групп идеализму. Все три группы желают полного раскрытия возможностей каждого отдельного человека, прогресса и справедливости в обществе и в далекой перспективе – выживания и улучшения рода человеческого. Такой общий идеал, несомненно, должен быть помещен на самый верхний уровень Платоновой линии. Поскольку эта цель одна и та же для всех групп, они могут корректировать свои верные, но слишком обобщенные конфликтующие между собой требования и выработать компромиссную позицию. А платоник вносит в их дискуссию свой вклад – напоминание о том, что такой идеал существует, что этот идеал важнее любого конкретного набора методов или учебных дисциплин, которые относятся к нему как средства к цели. Симпатии Платона в философии, вполне естественно, на стороне формалистической традиции, а не материализма. Переходя от экспериментов с меняющимися вещами к узнаванию неизменных типов и законов, мы пересекаем черту, которая отделяет становление от бытия, существующий в пространстве и времени физический мир, где вещи стараются быть собой, но никогда по-настоящему собой не бывают, – от области бытия, мира неменяющихся точных форм-идей, где «каждая идея есть именно то, что она есть». ПЛАТОНОВА ЛИНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУССИИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ  Примечание. Наблюдателю-платонику кажется, что каждая группа теоретиков, упомянутая здесь, открыла, насколько велика роль одной из многих сторон сложной действительности. Каждая группа права, подчеркивая, что эта сторона действительности необходима для достижения общего идеала, и каждая не права, поскольку ее взгляд на существующую ситуацию слишком узок, и она считает, будто ее программа противоречит всем остальным или исключает их. Идеализм, если он принимает форму хвалебных речей и не обращает внимания на технику достижения идеала, может быть таким же односторонним, как любая другая теория. Универсальное научное знание возможно потому, что в самой действительности присутствует этот мир неизменных идей, устанавливающих границы и задающих направление процессов в том мире, который изменяется в пространстве и времени. Пифагорейцы в Платоновой истории философии представляют собой первый этап открытия человеком того, что существуют вечные сущности-идеи – треугольники, множества и соотношения, проявлениями которых являются окружающие нас многочисленные объекты. Как бы трудно ни было объяснить, каким образом частные случаи одной такой идеи «участвуют» в ней, именно открытие этого измерения действительности, по мнению Платона, сделало возможным научное толкование чего бы то ни было. Платон: тесты и примененияНачиная с эпохи Возрождения и до XIX века все высоко оценивали Платона как абстрактного теоретика и недооценивали Платона как аналитика. Мы в XX веке начинаем понимать, сколько тонкости и изящества в том анализе, который Платон за последние двадцать лет своей жизни привнес в проверку своей философии на истинность и в придание ей большей ясности. Внимательно взглянув на свою философскую систему, Платон увидел три способа проверить ее истинность: 1) если она верна, то естественные науки могут быть сведены в одну систему, где все разрозненные данные займут свои места; 2) если она верна, она может быть в родстве с таким земным, но важным делом, как составление образцов законодательства для реальных современных Платону греческих городов; 3) если она верна, то позволит четко и логично сказать, что такое идея, участие, степени реальности, оценка и добро. Проверкой первого утверждения является диалог Платона «Тимей» – энциклопедия современной ему науки, который, должно быть, стал итогом огромной исследовательской работы членов Академии. Второе проверено в монументальном диалоге «Законы», который Платон завершил лишь в общих чертах. Это тоже, видимо, был крупномасштабный проект, осуществленный Академией, – сбор и сравнение сводов законов и историй законотворчества. В свете практических потребностей и теоретических знаний того времени, когда жил Платон, можно полагать: он чувствовал, что научная и практическая применимость его теории доказана. Но когда он попытался выполнить анализ, проверяющий его третье утверждение, результат оказался ближе к отрицательному. Серия узкопрофессиональных диалогов и большая публичная лекция о добре были элементами того поиска ясности, которым был занят Платон. Здесь нам стоит коротко подвести итоги – и для того, чтобы поставить вопросы, и для того, чтобы показать, в какой степени Платон чувствовал, что нашел ответы. Идеи и участие легко можно посчитать не тем, что они есть на самом деле. В диалоге «Парменид» Платон показал, что мы не должны думать, будто идеи – это объекты, которые находятся в каком-то месте, и участие нельзя объяснить с помощью физической модели долевого участия. Отношение одного конкретного квадрата к идее квадратности не такое, как у одного из деловых партнеров к активам их общей фирмы. В «Теэтете» Платон показывает, что знание нельзя считать только памятью и опытом: в знании есть уверенность и обобщенность, которые можно истолковать лишь как что-то, подобное узнаванию идеи. (Сравните с этим отношение «пистис» к «дианойе» на «Разделенной линии».) В «Софисте» Платон исследует логические трудности, возникающие перед тем, кто размышляет и говорит о небытии. Отделяя чистое «ничто» от видов непохожести, Платон поправляет Парменида так, что становится возможным доказательство существования не только абсолютной реальности, но и видимостей тоже. В «Государственном деятеле» Платон исследует техническую сторону процессов оценки и управленческой деятельности и вводит новое понятие «рабочее определение». Лекция о добре посвящена доказательству того, что существует только одно добро, а если добро – единственная наивысшая идея, которая соединяет мир фактов и мир мысли, то положение «добро одно» – центр и основа доказательства этого. Платон и его сторонники с досадой и раздражением видели, что у них возникают трудности по следующей причине: идеи рассматриваются одновременно как идеалы, абстрактные классы и значения слов. Например, Платон пишет об идеях так, словно каждая из них является проявлением себя самой (скажем, «идея добра является доброй»). Это становится понятным, если рассматривать идеи как идеалы, вспомнив, что они ведут свою родословную от учения Сократа. В этом контексте «добро является добрым» значит не «идея добра участвует в свойстве доброты», а скорее «идея добра есть свойство доброты». Но если мы рассматриваем идеи как границы, классы или свойства, Платона не так легко оправдать. Если участвовать в идее означает иметь соответствующее ей свойство и если свойство никогда не бывает тождественно той вещи, которая участвует в нем, то ни одна идея не может быть проявлением себя самой. Рассмотрим свойство квадратности. Каждый квадрат квадратен потому, что участвует в этом свойстве. Но если по аналогии с «добро – доброе» сказать «квадратность – квадратная», возникает затруднение: возможны только два варианта значения этой фразы, и оба они плохи. Поскольку для идей этого типа свойство и участвующие в нем вещи – разное, должна существовать вторая идея квадратности, в которой участвует квадратность. Но эта вторая идея квадратности тоже должна участвовать в какой-то идее более высокого порядка, и так до бесконечности. Однако если отрицать, что квадратность квадратная, но утверждать, что объяснить вещь значит уловить умом ее идею, то для идей вообще невозможно найти никакие объяснения. Еще одна трудность берет начало в том, что Платон понимал: значения, которые существуют в языке и мысли, должны быть общими для всех людей и не меняться. Язык создает формы, полностью отличающиеся и от определяющих свойств, и от четко определенных идеалов. Что именно я имею в виду, когда говорю «добрые люди несправедливы», совершенно ясно: я взял два слова или, если вы предпочитаете, два понятия и соединил их. Но на самом деле добро и несправедливость не связаны таким образом ни в том случае, если мы мысленно строим их как определения, ни тогда, когда конструируем в уме как идеалы. Если бы мы просто считали идеи развитием представлений софистов о значениях, идеи обладали бы подвижностью, то есть способностью отделяться и образовывать друг с другом сочетания, но идеи, понятые в любом из двух других смыслов, не могут быть подвижными. Мне кажется, что Платон так и не нашел окончательного ясного ответа на этот вопрос. Он был уверен, что идея выполняет все эти функции – значения, определения, идеала, предела и цели – сразу. Однако ни он, ни его последователи за две тысячи лет не смогли объяснить на примере, как одна и та же вещь может играть настолько разные роли. Но даже если нам нужны более сложные формулировки или мы должны признать существование трех видов идей, это еще не значит, что Платонова теория идей ошибочна. Платон установил важный факт: это из-за истинного в нашей собственной природе и из-за самой природы вещей, а не из-за условностей, как учили софисты, «смутное предугадывание чего-то» заставляет нас восхищаться истиной, красотой и благородством и высоко их ценить. В самом деле, действие этого врожденного чувства ценности заметно уже в религиозных мифах и в той вере в мировую справедливость, которая задолго до того, как возникла философия, уже вдохновляла людей на попытки изобразить мировой порядок, в котором человеческие ценности что-то значат33. Перейдя от науки и метафизики к политике и этике, мы обнаруживаем, что одна из хороших сторон Платоновой системы – то, как в ней освещены человеческое «я» и отношение отдельного человека к обществу. Это те две центральные проблемы, которые Платон обещал исследовать в Академии. Как познание реальности поиск «я» был труден потому, что «я» – сложное образование, и его нельзя просто поместить на тот или иной уровень такой классификации, как «Разделенная линия». В то, что человек отождествляет с собой, входит тело, в котором обитает и которое наделяет жизнью душа. Туда входят чувства и воображение с их яркими, но недолго существующими картинами мира и мимолетными впечатлениями. Туда входят честолюбие и свобода принимать решения. «Я» также обладает способностью познавать неизменные идеи и отзываться на идею добра как на собственный высший идеал. Для Платонова «я» так же, как для действительности, нужна карта. Такая карта может также служить диагностической таблицей студенту, изучающему этику, или физиологу, поскольку каждый раз, когда нарушается правильное расположение частей «я», космос справедливой упорядоченной души пропадает, и в результате возникает порок34. Платон верил в то, во что не верят некоторые сегодняшние политические теоретики: что общество – это не просто совокупность составляющих его отдельных людей. Следовательно, он не мог отвергнуть требования, которые государство предъявляет к своим гражданам, как произвольные или целиком условные. Он рассматривал этот вопрос иначе: обязательно ли идеал общества и идеал самореализации человека должны быть несовместимы друг с другом? Такие конфликты, как столкновение афинской демократии с Сократом, – трагедии, но разве избежать их невозможно? Или эти два идеала связаны как-то иначе? К тому времени, как Платон закончил «Государство», он пришел к выводу, что эти две идеи не обязательно несовместимы. Ему казалось ясным, что даже такой передовой город, как Афины, должен будет изменить почти все свои традиционные правила жизни и общественные учреждения, чтобы стать государством, где социальная эффективность и индивидуальная добродетель будут совпадать. И пусть на уровне практики это было разочарованием, как философское открытие это обнадеживало: значит, теоретически может существовать общество, в котором такого человека, как Сократ, действительно признали бы в суде благодетелем, а не казнили как носителя прямой и явной угрозы35. Платон был доволен своим анализом, разделившим сложное «я» на три составные части: рассудок, пыл (стремление к славе, чувство чести, воля) и вожделение. Рассудок знает, что человек – это частичная реализация не подвластных времени идеалов ценности и гармонии. Пыл, или честолюбие, способен действовать в мире – это энергия, побуждающая соревноваться, творить и делать. Вожделение – инстинктивная постановка себя в центр, которая отражает привязанность души к удовольствиям и страданиям, ощущениям и ограничениям ее собственного тела. Человеку удается реализовать себя, когда эти три стороны «я» правильно и гармонично соотносятся между собой. Рассудок может определить, какие вожделения и проявления честолюбия будет хорошо удовлетворить, а какие следует подавить или направить в иную сторону. Честолюбие и вожделение, если их предоставить самим себе или позволить им властвовать над всей личностью, не имеют никаких критериев, кроме слепой жажды иметь больше – больше имущества, больше удовольствий, больше почестей, больше власти. Но поскольку иметь больше – цель недостижимая по определению (как бы много я ни имел сейчас, в данный момент я не могу иметь больше этого), человек расплачивается за неверную психологическую настройку этих частей своего «я» жизнью: он всем недоволен, тратит жизнь на погоню за призрачной целью, которая не становится и никогда не станет ближе, и не реализует внутренне присущие человеку достоинство и ценность36. Этими рассуждениями Платон не отрицает того, что люди могут идти к реализации своих возможностей разными путями. Некоторые люди по своей природе склонны быть философами, другие воинами и атлетами, третьи – заниматься производительным трудом и торговлей. Эти различия вызваны разницей в относительной силе трех частей души и в силах тела, которое они оживляют. Во власти каждого человека действовать согласно своим интересам и использовать свои способности разумно, а не руководствоваться при этом слепой жаждой удобств или наград. (К примеру, Милон Кротонский, атлет, чьи спортивные подвиги стали легендой, в конце своей спортивной карьеры стал мужем дочери Пифагора и членом Пифагорейского братства. Платон мог рассчитывать, что его читатели вспомнят о том, что спортивная профессия не сделала величайшего спортсмена Греции ненавистником культуры или человеком низшего сорта.) Платон часто говорит о человеческой душе, ее внутренних конфликтах и ее жизни после смерти на языке мифа: в своих книгах он нашел место и для своей собственной мифологии. Рассказы могут сделать ярче логический аргумент. Если читатели не принимают их ошибочно за научные объяснения, а Платон способен выбирать из рассказов только те, которые считает подходящими как философ, то мифы не вредны. Но, несмотря на присутствие у Платона этих мифов о душе, по его философии невозможно понять, в какой степени он верил, что душа бессмертна. Во всяком случае, он, похоже, был убежден, что способность человеческого разума познавать вечные истины и бессмертные идеалы и восхищаться ими доказывает, что эта часть человеческого существа бессмертна или, по меньшей мере, участвует в бессмертии. И он чувствовал, что в мифах о последнем страшном суде воплощена глубокая интуитивная вера, более личная и живая, чем любое абстрактное диалектическое доказательство. В этих рассказах человек весь целиком – с его памятью, вожделением и честолюбием – предстает перед судом вселенской справедливости, которая, взяв за образец то, каким человеку следует быть, присуждает каждой душе счастливую или несчастную будущую жизнь в зависимости от того, в какой степени эта душа осуществила себя37. Желание быть бессмертным, несомненно, основной мотив человеческих поступков: при мировом порядке, который одновременно добр, справедлив и прекрасен, самыми правдоподобными рассказами, какие могли бы придумать люди, были бы рассказы, отражающие надежду на то, что души, которые заслуживают бессмертия, действительно достигнут его. Платон глубоко изучил отношения отдельного человека с государством. Считая государство реальностью и так же, как Сократ, признавая, что у гражданина есть общественные обязанности, он все же ни в коей мере не считал, что государство – это организм, который может поглотить человека и всегда прав38. Государство для Платона является естественным в двух важных отношениях. Во-первых, оно – единственный для человека способ полностью реализовать свою человеческую природу, во-вторых, в природе существует идея государства, которая дает определение, цель и критерий оценки государств. Но точно так же, как человек может сделать ошибочный этический выбор и принять то, что является лишь средством для ведения достойной жизни, за самодостаточную цель, так и государства могут принять – и обычно принимают – какую-либо ценность низшего порядка: богатство нации, мощь нации, возвышение правителя – за истинную цель, которой является добродетель каждого отдельного человека и общее благо39. Но Платон считал, что, если бы когда-нибудь появились государственные деятели, так хорошо обученные, что они бы ясно видели, что такое добро, под их властью были бы созданы общества, где были бы признаны заслуги такого человека, как Сократ. Непосредственным поводом к созданию диаграммы «Разделенная линия» стало для Платона его желание определить, какое по содержанию и уровню образование необходимо для такой истинной государственной деятельности. Одной из надежд, которые Платон возлагал на Академию, была надежда, что она станет давать будущим поколениям такое образование. Общества могут идти и по другому неверному пути. Если правитель ошибочно считает, будто человек – ничто, а государство – всё, то в обществе будет твориться несправедливость по отношению к людям при любом общем направлении политики40. Чтобы человек получил долю в бессмертии и чувствовал, что живет творчески, ему нужно осознавать себя ответственным членом человеческого сообщества – целого, которое долговечнее и больше, чем одна короткая человеческая жизнь. Лишить любого человека этого чувства – значит совершить несправедливость41. Возможность эффективного выполнения гражданских обязанностей, которое позволяло бы человеку еще и осуществить себя, в современных Платону городах была скорее исключением, чем правилом. Высокое происхождение, богатство, образование и другие подобные условия создают случайный по структуре лабиринт из препятствий на пути наилучшего использования индивидуальных способностей и критериев. Здесь Платон, возможно, под воздействием настойчивого утверждения софистов, что большинство составляющих этот лабиринт обычаев и законов – всего лишь условности, предлагает радикальное решение: роли в обществе следует распределять только на основании способностей и интересов людей. Если бы это было сделано (Платон показал как), можно было бы добиться соответствия между потребностью общества в работниках, защитниках и учителях и различиями в дарованиях людей. Никакого другого пути Платон не видел (это показано в приведенной ниже таблице). Он не ожидал, что эта его идея будет принята немедленно, но надеялся, что, может быть, в какие-нибудь иные времена, если не в Греции, то в какой-нибудь далекой варварской стране такое общество станет реальностью42. ОБЩЕСТВЕННЫЕ КЛАССЫ ПО ФУНКЦИЯМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СПОСОБНОСТЯМ  Но в этой схеме все три класса сбалансированы, хотя они не равны по возможностям интеллекта и по интересам, которые служат им побудительными мотивами. Если мы учтем нарушения баланса, список типов личности увеличится:  Таким же образом можно систематизировать виды государственного устройства, поскольку каждое государство ведет свою характерную для него политику и этим похоже на человеческую личность, только его масштаб крупнее. В девятой книге «Государства» Платон приводит список из пяти видов государства, выделенных по этому принципу: ПЯТЬ ВИДОВ ГОСУДАРСТВА 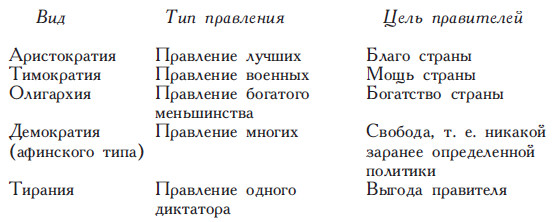 Сегодня мы живем согласно Платонову представлению о том, что общество должно предоставлять всем людям равные возможности реализовать себя. Наследственная аристократия уже не считается приемлемой моделью организации общества, рабство почти ушло в прошлое, и право голоса предоставляется не только наиболее состоятельным гражданам. Специалист по разрешению общественнных споров, который был почти единственным экспертом-консультантом по делам управления в греческом городе, в наиболее цивилизованных странах был постепенно заменен получившими специальное образование государственными чиновниками, которые могут применять свои профессиональные знания к сельскому хозяйству, образованию, международным техническим проектам, регулированию деятельности банков и обращения ценных бумаг. Могут ли руководители, отвечающие за целую страну, вести такую, рассчитанную точно по науке, политику? На этот вопрос до сих пор нет ответа. Мы и теперь еще не создали ту философскую науку об обществе, которую Платон считал необходимой предпосылкой для появления «правителей-философов». И даже если бы у нас была эта наука, есть причины – существование которых неоспоримым образом установил еще ученик Платона Аристотель – для сомнения в том, что такой беспристрастный научный подход к решению социальных вопросов вообще возможен43. Интересно с исторической точки зрения и будет хорошим стимулом при рассмотрении наших современных проблем снова бросить взгляд на страницы «Государства» и посмотреть, как из многих исторических и теоретических нитей, обязательно присутствующих в структуре любой дискуссии на тему «общество и человеческое «я», Платон смог соткать теоретическую ткань, которой остался доволен. Философия и образование – вот ответ Платона на вопрос, который за двадцать лет до этого был порожден казнью Сократа44. Со времен Платона на Западе были философы-платоники. Диапазон их идей очень широк – от богословия святого Августина до научных взглядов Уайтхеда. Каковы характерные черты платонизма? Мы можем назвать четыре его важных признака: 1) платоник считает, что задача философии – создать в итоге какую-то одну синтетическую систему. Он всегда стремится к полноте и завершенности толкований и идей; 2) платоник всегда придерживается какой-либо разновидности теории идей как сущностей, согласно которой обобщения являются объяснениями; 3) платоник считает, что реальность представляет собой единую непротиворечивую систему, которая не разделена на изолированные части, и поэтому склонен к попыткам переносить по аналогии интуитивные догадки или законы, верные для одной части мира, на другую его часть, обычно такую, которая в чем-то родственна первой; 4) и наконец, платоник всегда считает, что мир мыслей и фактов является иллюстрацией какой-то ценности. В любой платонической философии добро, истина и красота сходятся в одной, самой высшей точке мироздания, и эта точка является вершиной и для живого существа, и для мысли45. В завершившем греческую философию формалистическом учении, которое разработал Платон, эта философия приобрела новое качество – стала системой согласованных между собой частей. Все стороны действительности, все технические достижения и интуитивные открытия греческой мысли до Платона были собраны воедино в этом упорядоченном многомерном «космосе». В этом Платоновом мире существовали и форма и поток, и Платон окончательно утвердил представление о важности формы и о зависимости факта от ценности. Идея («форма») добра придала единство его философской структуре примерно так, как Акрополь, возвышаясь над театром, собранием и Академией, объединял в одно целое Древние Афины. АристотельУпорядочение всей действительности
К тезису Платона, что природой управляют универсальные законы, его великий ученик Аристотель добавил положение о том, что природа может быть познана с помощью рассуждений и понята вплоть до мельчайших подробностей. Это свое утверждение он подкрепил научными наблюдениями и опытами, которые поражают воображение своим количеством и разнообразием. Модель из четырех «причин» служит структурным каркасом для всех видов реальности. Возникающая в результате этого система примиряет материализм и формализм, сводит вместе теорию идей-форм Платона и атомистическую теорию Демокрита. Хотя труды Аристотеля по философии природы интересны и будят мысль благодаря тому месту, которое занимают в истории греческой и средневековой философии, сегодня не его натурфилософия, а его толкование этики, политики и поэзии в наибольшей степени ставит перед нами вопросы, требующие ответа. «Причины» Аристотеля – это измерения или аспекты вещи, которые ответственны за ее существование и за то, что она именно такая, какая она есть. Эти измерения таковы: материя – материальная причина; идея – формальная причина; создатель или родитель, благодаря которому вещь появляется на свет, – действенная причина; и применение или цель, для которых существует данная вещь (они есть у каждой вещи), – конечная причина. Замечание Кольриджа, что «каждый человек рождается либо платоником, либо аристотелевцем», указывает на коренное различие между темпераментами, методиками мышления и достижениями этих двух великих людей, чьи учения были наивысшей точкой развития греческой философии. То, что Платон начал свои проиллюстрированные примерами рассуждения о природе и науке с математики и астрономии, а Аристотель с зоологии и медицины, точно характеризует обоих. Там, где Платон писал блестящие диалоги, наполняя их отвлеченными рассуждениями, Аристотель педантично составлял подробно спланированные профессиональные лекции. Платон, похоже, старался не пользоваться профессиональными терминами, по крайней мере до самых последних своих работ; Аристотель каждое из многих различий, которые требовала провести его философия, помечал отдельным, тщательно продуманным профессиональным термином1. Платон с недоверием относился к здравому смыслу, обычаю и эмпирике; Аристотель везде, где только мог, примирял взгляд обыденного сознания на вещи и на способы говорить о них («здравый смысл») с самыми трудными для понимания философскими воззрениями2. Платон и Аристотель похожи удивительно широкой тематикой, жизнеспособностью и оригинальностью своих достижений. То, что Аристотель включил научные коллекции в структуру своей школы, Ликея (другое произношение – Лицей), – великое открытие в области образования; по важности и оригинальности оно лишь немного уступает созданию Платоном Академии. Настойчивые старания Аристотеля показать, что реальность всюду и во всем упорядочена согласно схеме из четырех «причин», дополнили Платоново доказательство важной роли идеи новым убеждением – верой в постижимость и упорядоченность природы. Эта попытка, несмотря на широту размаха, вылядела убедительно. Аристотель поставил себе задачу – не более и не менее – доказать, что весь реальный мир может быть упорядочен с помощью его четырех «причин». В его обширное литературное наследие входят объемистые трактаты по логике, которая в основном не изменилась за 2500 лет; труды по астрономии, химии и биологии, которые оставались образцовыми до эпохи Возрождения; трактаты по метафизике – «первой философии», как называл ее Аристотель, по «практическим наукам» – этике и политике и по поэтике, которые все до сих пор не устарели и остаются интересными3. Этот гигантский замысел обнаружить и показать четыре «причины» во всей реальности вырос из возникшего раньше интереса к порядку. В начальные годы своей работы в Ликее Аристотель впервые систематизировал предметы (риторику, искусство спора, изучение логических ошибок), которые до него никогда не преподавались системно. С этой же целью был написан очерк по истории философии, с которого Аристотель начал свою «Метафизику». Его интерес к истории идей был постоянным, и по спискам и отрывкам его ранних работ видно, что он много лет готовился к написанию этой истории, сочиняя трактаты об учениях или ошибках отдельных философов и школ. Аристотель хотел показать, что мудрецы прошлого не признавали никаких «причин», кроме его четырех, а когда думали, что признают (похоже, это утверждали платоники и пифагорейцы), то на самом деле лишь неправильно говорили о «формальных причинах» Аристотеля. И – в границах того, что было известно науке во времена Аристотеля, – его доказательство удивительно близко к полному! Один результат настолько интересен, что заслуживает подробного рассмотрения: Аристотелева философия природы больше несовместима с открытиями современной науки, а вот его интерпретации этики и политики, от которых можно было ожидать, что они устареют гораздо раньше, поскольку любое общество изменяется быстрее, чем виды животных или звезды, удивительным образом соответствуют современным требованиям и подсказывают нам такой способ подхода к нашим современным проблемам, который заставляет работать нашу мысль4. Почему получилось именно так? Мы обнаружим, что Аристотель применял причинно-следственное объяснение в этих двух областях совершенно по-разному. Коренным различием в путях их применения и объясняется то, что время смогло подтвердить правильность объяснений в одном случае, но опровергло их в другом. У Аристотеля было три основных отличия от Платона. Во-первых, там, где Платон, похоже, всегда искал новые синтетические подходы, которые заставляли бы пересечься традиционные специализированные направления, Аристотель верил в структуру из частей – и применял такой подход и при чтении лекций в университете, и в научных исследованиях. Аристотель считал, что различные виды реальности имеют каждый характерные для него свойства: звезда, треугольник и государство, хотя и являются все частями бытия, имеют такие важнейшие отличия друг от друга, что Платонова попытка понять их по тому, в чем они формально похожи, вероятно, даст очень поверхностное описание, которое будет неточным. Следовательно, для научного познания мира необходимо каждый из разных видов вещей, которые нужно познать, исследовать по отдельности и иметь профессиональный словарь, чтобы отмечать имеющие какое-то значение типы и различия. Во-вторых, Аристотель отличается от Платона своим отношением к материализму. Платон нигде не упоминает имя Демокрита, но, как можно судить по различным местам его сочинений, где он критикует материализм, Платон не считал, что атомистическая теория имеет какую-либо ценность как философское объяснение мира. Она должна была казаться ему профессиональной техникой – способом выяснить, как вещи работают, который позволяет определить в лучшем случае условия, но не причины. Для Аристотеля же и материализм сторонников атомистической теории, и формализм Платона и Академии дают подлинные причинные объяснения. Он постоянно помнил о той философской проблеме, которую ставила перед ним история греческой мысли: какое научное объяснение мы должны считать верной картиной такого мира, в котором возможны одновременно идеализм и механицизм, формализм и материализм? Его синтез, где есть место для обоих этих видов причинно-следственных отношений, представляет собой мощный интеллектуальный инструмент: четыре «причины» Аристотеля устанавливают равновесие между материальным и формальным измерениями действительности. Третье отличие Аристотеля от Платона – его мнение, что мир состоит из отдельных «субстанций», каждая из которых обладает собственной идентичностью. Мир не просто единая, скрепленная прочными связями система, в которой части подчинены господствующему над ними целому. Но он и не просто скопление огромного множества маленьких твердых частиц, как считали механицисты. Скорее мир – сообщество индивидуальностей: форма и материя, сочетаясь друг с другом, всегда дают в результате своего рода сплав – индивидуальную вещь. Правильная и здравая философия должна отдать должное и требованиям системного единства, и требованиям множественности независимых друг от друга вещей. В результате всех этих принципиальных различий синтез Аристотеля оказался новаторским. Поскольку позже исторические перемены направили греческую мысль на другие предметы, этот синтез также стал последним словом древнегреческой отвлеченной философии5. Форма диалога не подходила Аристотелю для выражения его философских мыслей. Работы, созданные Аристотелем в пору его творческой зрелости (из которых поразительно много дошло до наших дней), – не диалоги, а записи лекций. Вероятно, они аккуратно редактировались и хранились в библиотеке Ликея, чтобы быть под рукой для справок. Как все записи лекций, они написаны сжатым слогом и вначале читаются с трудом, а профессиональные различия и термины увеличивают эту трудность. Но когда читатель оценит задачу, которую поставил себе Аристотель, – завоевать разумом весь мир, – он начинает смотреть на эти сжатые конспекты по-новому: с волнением и интересом, и оказывается, что записи Аристотеля вполне стоят тех усилий, которые необходимы для их понимания6. Аристотель советовал своим ученикам начинать работу с тематического плана. Такой план крайне полезен для того, чтобы следить за мыслью самого Аристотеля. Так что мы, следуя его совету, установим равновесие внутри этой главы с помощью следующего тематического плана: I. Биография. Ранний период деятельности Аристотеля A. Академия B. Аристотель и Александр C. Ликей D. Изгнание Аристотеля из Афин II. Причинно-следственные связи у Аристотеля A. Определения четырех «причин» с примерами: 1) их применения к искусственным объектам 2) их применения к естественным объектам III. Виды реальности у Аристотеля; его тезис, что одни и те же «причины» применимы всюду VI. Теоретическая наука A. Философия природы 1) биология 2) астрономия 3) химия B. Математика C. Метафизика 1) история метафизики 2) четыре «причины» 3) учение о первом двигателе 4) потенциал и сила a) «односторонние» силы в природе b) «двухсторонняя» сила, которую дает человеку его свобода V. Практические и прикладные науки A. Политика: ее «причины» и принципы B. Поэтика: литературная критика и причинность C. Этика: анализ человеческого «я» D. Оценка I. БиографияГлавные этапы жизни Аристотеля: (A) долгие годы, которые он провел в Академии сначала как ученик, а потом как помощник Платона; (B) его жизнь в Пелле в качестве учителя Александра Великого; (C) его возвращение в Афины, чтобы основать собственный университет, конкурирующий с Академией; (D) его изгнание из Афин после смерти Александра. В своих сочинениях Аристотель сознательно ничего не писал о себе; нам известно, что он женился на царской дочери, которую звали Пифиада и которая умерла через несколько лет после свадьбы, и что он имел любовницу по имени Герпилида, которую упомянул в своем завещании. У него было двое детей – сын Никомах, названный в честь деда, и дочь. Но только несколько строк из стихотворения, посвященного смерти жены, чуть больше строк из стихотворения, посвященного смерти Платона, и завещание, которое сохранил для истории Диоген Ааэрций, позволяют нам немного представить личный опыт и переживания Аристотеля. A. Аристотель был сыном македонского врача, придворного медика царей Македонии. Когда ему было семнадцать лет, он приехал в Афины, чтобы завершить свое образование в Академии. Можно с полной уверенностью сказать, что он был очень одаренным юношей: нет сомнения, что до приезда в Афины Аристотель уже начал интересоваться медициной и хорошо знал, как смотрят на мир врачи. Что-то от этого докторского взгляда на вещи оставалось у Аристотеля всю его последующую жизнь. Афины и Академия, разумеется, вызывали восхищение у молодого студента с севера и были для него родными по духу. Аристотель провел в Академии двадцать лет сначала учеником, потом помощником в исследованиях, лектором и ученым-исследователем и не покидал ее, пока в 347 году до н. э. не умер Платон. Трудно сказать, как надо понимать очень разрозненные отрывки текстов и сообщения различных источников, в которых отразились идеи молодого Аристотеля – члена Академии. Специалисты не имеют единого мнения даже о том, какие из позднейших текстов, где говорится об этом, являются цитатами из ранних работ Аристотеля, а какие нет7. Но из всего этого материала становятся ясны два факта. Первый – преклонение молодого Аристотеля перед Платоном: ранние философские сочинения Аристотеля были написаны в форме диалога и были вариациями на темы, которые разрабатывал Платон8. Второй факт – то, чем диалоги Аристотеля отличались от Платоновых образцов: Аристотель старался подтвердить абстрактные доводы Платона специальными экспериментами и наблюдениями. Например, в своих работах он упоминает известные по различным источникам случаи предвидения будущего как доказательства, которые, если они верны, помогли бы подтвердить истинность учения о бессмертии души. Эта склонность искать для абстрактных аргументов согласующиеся с ними конкретные факты и не успокаиваться, пока логика и эксперимент не дадут один и тот же результат, была характерна для Аристотеля в течение всей его деятельности и является одной из характерных особенностей его работ. В. После ухода из Академии Аристотель уехал в Малую Азию, а вскоре его известность и семейная близость к македонскому царскому двору помогли ему получить место учителя при молодом македонском царевиче Александре. Такая связь между Александром Великим и Аристотелем, каждый из которых был в своем роде одним из величайших в истории людей, приводила в восторг последующие поколения9. Однако у нас нет подробной информации о характере этих отношений «учитель – ученик». Похоже, что Аристотель преподавал молодому царскому сыну литературу, поэмы Гомера, риторику и грамматику. Нам известны три очень коротких отрывка из трактатов на политические темы, предположительно написанных Аристотелем для Александра10. Александр во время своих военных походов собирал растения и животных и посылал их своему бывшему учителю в афинский Ликей. Это почти все фактические данные, которые нам известны. Еще один факт, который должен показаться интересным романисту или автору детективов, – что мать Александра, царица Олимпиада, обвиняла Аристотеля, будто бы великий философ убил ее сына, отравив ядом. Об этом рассказывает Плутарх в «Жизнеописании Александра». Во всяком случае, очевидно, что Аристотель не оказал на Александра большого интеллектуального влияния. Сам Аристотель, как политический мыслитель, всегда считал греческий город-государство нормальной и наиболее желательной формой политического устройства, а Александр мечтал создать всемирную империю. Аристотель полагал, что самая лучшая жизнь – та, которая прошла в поисках ответов на теоретические вопросы, а Александр считал наилучшей жизнь, проведенную в борьбе за почести и власть. Возможно, какое-то влияние Аристотеля сказалось в разумном решении Александра позволить странам, которые он завоевал, сохранить их религиозные верования и обычаи, но между делами Александра и идеями Аристотеля нет прямой причинно-следственной связи. C. Когда после смерти Филиппа Александр стал царем, Аристотель вернулся в Афины и создал там свой собственный университет – Ликей. Аристотель любил вести беседы со своими учениками на ходу во время прогулок, и из-за этой привычки члены его школы получили прозвище «перипатетики» («те, кто прогуливается»), под которым известны до сих пор. Самым важным нововведением среди особенностей Ликея был его «музеум» – первый музей, воплотивший в себе новое представление о том, какие научные коллекции должен иметь университет. Аристотель считал, что единственный путь к пониманию любого исследуемого предмета – это классификация и изучение относящихся к нему оригинальных материалов. Здесь, как и в других случаях, он проявил свой дар рассудительности и сочетания ранее противоположных взглядов. Аристотель не был склонен считать, что знание – это просто накопленная информация, как когда-то до него считал Гиппий. Но он с недоверием относился и к принятой в Академии практике вычерчивать красивые исчерпывающие классификационные схемы и обращать мало внимания на то, действительно ли схема выявляет важные различия внутри предмета изучения. В Аикее была зоологическая коллекция, которую помог пополнить Александр. Собрание, в которое входили основные законы 158 греческих и негреческих городов-государств, обеспечивало материалом для исследований проводившиеся в Аикее работы в области политической теории. Большое собрание книг делало возможным составление исторических обзоров-введений для каждой изучаемой дисциплины. Аристотель и сам обратился к истории философской науки, чтобы объяснить и защитить свое новое представление о причинности. Конспекты лекций Аристотеля выдавались желающим найти в них нужную информацию, дополнялись и исправлялись; о том, что в школе Аристотеля было принято вести дневниковые записи и отмечать в них полученные данные и возникающие проблемы, свидетельствуют четыре большие тетради – рабочие дневники такого рода, заполненные в Аикее11. Более двадцати лет Аристотель руководил своей школой, осуществляя свой великий замысел показать подробно, что вся действительность по своей природе постижима человеком и упорядоченна; он вдохновил своих учеников на сочинение работ по истории, и они описали историю физики, астрономии, математики, музыки и медицины; он вел записи, где отмечал свои наблюдения: новые логические ошибки в аргументации, которые услышал в суде, новое в рассказах о повадках индийского слона и новые астрономические теории12. D. Когда в 323 году до н. э. Александр умер и его империя распалась, у жителей греческих городов появились мысли о том, чтобы вернуть себе независимость, и в Афинах поднялась волна антимакедонских настроений. Аичные и семейные связи Аристотеля с Македонией и Александром сделали его удобной мишенью для нападок. Когда Аристотеля вызвали в суд по обвинению в «неблагочестии», он уехал в Эвбею, заявив на прощанье, что «не позволит афинянам два раза согрешить против философии». В следующем, 322 году до н. э. Аристотель умер. Завещание Аристотеля – один из немногих документов, которые дают нам представление о том, что он был за человек. Своим имуществом он распорядился щедро и осмотрительно, проявив при этом внимание к другим людям и тактичность. Его любовница, которая пережила его, получила один из двух домов в Стагире по своему выбору; свою дочь Аристотель отдал под опеку Теофраста, который стал после него главой Аикея; прах своей жены Аристотель велел похоронить рядом с его собственным прахом, как она когда-то пожелала; о каждом рабе он подумал отдельно: некоторых завещал продать, некоторых оставить жить как прежде, а некоторых освободить. II. Причинно-следственные связи у АристотеляЧтобы увидеть, какое место Аристотель занимает в истории греческой мысли, нам лучше всего взять за исходную точку его собственный анализ. Аристотель утверждал, что бытие имеет четыре измерения, то есть у каждой индивидуальной вещи есть четыре такие «причины», которые имеют для нас значение, если мы хотим понять, что такое эта вещь. «Причина» у Аристотеля – не совсем то, что мы понимаем под причиной сейчас: в понятии «причина» у Аристотеля чувствуется оттенок значений «ответственность» и «обязательство», которые соответствующее греческое слово имело в более ранние времена в юридическом языке. «Причины» вещи у него – это факторы, которые, объединившись в сочетание, совместно отвечают за то, что эта вещь является тем, что она есть, и за то, что она вообще чем-то является13. Мудрецы прошлого, пытаясь заниматься философией, никогда полностью не ошибались и никогда полностью не противоречили один другому. Их умозрительные ответы на философские вопросы были предварительными и неполными: каждый из этих философов имел склонность признавать только одно или два измерения реальности и считать, что их достаточно, а было нужно, по Аристотелю, иметь четыре14. В Аристотелевой истории философии первый этап развития этой науки – противостояние материализма и формализма. Каждая реальная вещь, существующая в природе, имеет и материальную «причину» – вещество, из которого она сделана или рождена, и формальную «причину» – план, структуру, количество и порядок частей, которые становятся границами для этого материального вещества. Милетцы натолкнулись в своих поисках на материальную «причину», пифагорейцы – на формальную, и история философии начинается с этих двух явно противоположных друг другу школ. Аристотель полагал, что к его времени эти традиции развились в атомизм и платонизм. Он хотел примирить эти две философские школы15. Аристотель начинает с перечисления четырех «причин», которые, по его мнению, искала философия, а он открыл. Наше современное представление о причине гораздо уже, чем то, которое было у Аристотеля: его «факторы, ответственные за то, что вещь есть то, что она есть», скорее можно назвать в переводе на наш язык «измерениями реальности»; поэтому мы можем назвать сердцевину его учения и по-иному – «теория о том, что реальность имеет четыре измерения». (Тут возможна некоторая путаница, но все будет в порядке, если мы станем помнить, что «измерение» здесь означает «вид бытия», а не область пространства и времени.) Все, что существует, обязано своим существованием и идентичностью материальной «причине» – веществу, из которого состоит, и формальной «причине» – плану или модели, которая делает это существующее тем, что оно есть. Соединяет эти два измерения третье измерение – действенная «причина», которой является либо создатель, либо предок. А чтобы понимать, что такое вещи, мы должны также искать у каждой из них конечную «причину» – цель ее существования. Для искусственных вещей этой целью является применение, для которого они разработаны; для естественных вещей – раскрытие своих возможностей. Эта цель направляет естественное существо через разные стадии его роста к зрелости. Для того чтобы показать, как эти положения применяются к искусственной вещи, удобным примером будет мой письменный стол. Он сделан из дерева. Дерево – его материальная «причина», его вещество. Аристотель, когда ему понадобилось слово, чтобы назвать такой материал-вещество, придал новое, более широкое значение слову «хюле», которое по-гречески означает «деловая древесина», то есть бревна или пиломатериалы. У моего стола есть четыре ножки, прямоугольная крышка и ящики. Это – формальная «причина» – структура, которую может передавать план-чертеж. Чтобы дерево приняло такую форму, нужна была действенная «причина»; в нашем случае создателем этого стола был столяр. Причиной, по которой столяр сделал своего рода оттиск контура-формы в древесине-материале, было намерение сделать то, что служит определенной цели. Письменные столы существуют для того, чтобы быть хранилищем для бумаг, поверхностью, на которой пишут, и опорой для пишущих машинок. Это – конечная «причина» стола, его цель. Описание с помощью четырех «причин» естественной вещи будет иметь несколько значительных отличий от того, которое приведено выше. Опишем, например, Джейсона, кота нашей семьи, который сейчас находится под моим столом16. Во-первых, у Джейсона материальная «причина» – вещество, из которого он создан, – гораздо сложнее: это система органов, а не просто набор расположенных определенным образом досок. Во-вторых, образец, воплощением которого он является, или его формальная «причина», – не план, а вид – разновидность вещей, которые мы обнаруживаем в природе: Джейсон – кот. По мнению Аристотеля, существует ограниченное количество таких «природных разновидностей», и каждое индивидуальное существо относится к одной из них. В-третьих, действенной «причиной» Джейсона были родители: он был рожден, а не изготовлен. И эти родители были существами того же вида: они тоже были кошками. И последнее: конечная «причина» Джейсона, его цель – не в том, чтобы служить моим целям. У него есть внутренняя природа, которая направляет его рост так, чтобы он вырос во взрослое существо вида кошка. Это дорастание Джейсона до зрелости происходит в несколько этапов: он учится видеть, ходить, бегать, хватать предметы лапами, то есть развивается так, как всегда развиваются кошки. Вид одновременно и разновидность вещей, экземпляром которой является Джейсон, и идеальный экземпляр этой разновидности, которым он старается стать. То, что у животного и искусственного предмета, например письменного стола, структура причинно-следственных связей не одинакова, понять легко. Но труднее понять, что это различие структур существует между всеми естественными и всеми искусственными вещами вообще. Например, глыба мрамора – естественная вещь, звезда или планета – тоже, но ни у одной из этих трех вещей ее существование не направлено к определенной цели так явно, как направлена к цели жизнь животного. Аристотель, однако, считал (мы это обнаружим у него), что даже на уровне камней и на уровне звезд прослеживается склонность природы стремиться к определенной цели. Он разработал свою философию природы сначала на материале биологии, потом распространил ее на химию и астрономию. Таким образом, приведенный выше пример ясно показывает, в чем Аристотель применял свои причины к природному иначе, чем к искусственно созданному. И философия, и естественные науки занимаются выявлением «причин» вещей во всех четырех значениях слова «причина». По сути дела, тем же занимаются художественная критика и анализ языка, хотя эти две дисциплины исследуют «вещи» из другой области17. Это представление об отличающихся одна от другой разновидностях вещей заставило Аристотеля ввести в его философию несколько важнейших различий. До него мыслители не только имели склонность выбирать лишь одну из причин на роль полноценного объяснения, но также отличались склонностью из всего многообразия вещей обращать внимание лишь на одну разновидность – ту, которую легче всего объяснить выбранной этими мыслителями причиной. Так, милетцы не занимались формами и числами, которые реальны, но не являются физическими объектами; пифагорейцы же проявляли сколонность забывать о тех свойствах, которые отличают естественные вещи от математических абстракций. Аристотель обнаружил, что эта тенденция сохранилась у атомистов и платоников. Аристотелю казалось, что его четыре «причины» охватывали и объединяли все предшествующие открытия греческой философии. Прежде всего, признав существование формальных и конечных «причин» и наряду с ними – причин материальных и действенных, он объединил традиции материализма и формализма. Тем, что он использовал понятие конечной «причины», он признал роль идеалов в природе и искусстве и таким образом включил в свою систему одну из важнейших характерных черт платонизма. Конечно, Аристотель мог отождествить свое представление о материальных «причинах» с милетской физикой, а действенную «причину» – с понятиями насилия, силы, энергии, которые время от времени появлялись у предшествующих философов. «Причины» – остроумная и мощная философская идея. Точки, где сходятся все четыре «причины», – это всегда конкретные индивидуумы, точно воспроизводящие тот тип, к которому принадлежат, так что типичной единицей реальности в философии Аристотеля является субстанция, или экземпляр типа. В каждой разновидности вещей «причины» уравновешивают друг друга по-своему. Чтобы выяснить, каков баланс «причин» в определенной области, нужно провести наблюдение за каждой индивидуальной вещью из этой области и сравнить ее с остальными вещами. Обобщение и классификация могут быть выполнены верно только после изучения и сбора фактов. III. Система видов реальности по АристотелюЧтобы иметь возможность доказать, что четыре «причины» можно найти у всего, Аристотель сначала должен был провести различия между отдельными видами реальности и знания и составить исчерпывающие списки. Результатом этой работы стала схема, которая приводится ниже. Эта схема – одно из самых впечатляющих достижений Аристотеля; в ней видны гениальный дар классифицировать и умение Аристотеля включать в свою систему открытия предшественников.  ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ АРИСТОТЕЛЯ (Прописными буквами указаны причины, звездочками отмечены несколько дополнительных элементов классификации, которых нет в явном виде у Аристотеля.) ЗНАНИЕ бывает (1) инструментальным, (2) теоретическим, (3) практическим и (4) продуктивным (эти четыре вида знания находятся в однозначном соответствии с четырьмя «причинами»). 1. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ имеет предметом изучения язык. Оно изучает те формы языка, которые наиболее эффективно применяются в трех специализированных видах общения: доказывании, убеждении и поэзии: использование языка а) для доказывания утверждений – это предмет ЛОГИКИ, b) для убеждения – РИТОРИКИ, с) в поэзии – ПОЭТИКИ. a) ЛОГИКА делится на три раздела – АНАЛИТИКУ, ДИАЛЕКТИКУ и СОФИСТИКУ. ТЕРМИНЫ объединяются в ПРЕДЛОЖЕНИЯ, а предложения связываются в группы-СИЛЛОГИЗМЫ, по три предложения в каждой. Соединяя силлогизмы в цепочки, мы получаем в результате ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. Их исходным пунктом 1) могут быть подлинные НАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ, и в этом случае результат будет АНАЛИТИЧЕСКИМ (в том смысле, который придавал этому слову Аристотель, а не в современном его смысле); 2) доказательство может начаться с МНЕНИЯ, и в этом случае результат будет ДИАЛЕКТИЧЕСКИМ (опять-таки в том смысле, который придавал слову «диалектика» Аристотель); 3) рассуждение может состоять в том, что говорящий просто играет словами, их оттенками, то есть может быть чисто словесным, и в таком случае Аристотель называет его СОФИСТСКИМ; b) РИТОРИКА – это использование СЛОВ и СУЖДЕНИИ с целью убедить кого-либо в чем-либо. В ней есть три основных фактора – оратор, слушатели и речь. В риторике используются не силлогизмы, а другой вид аргументов – энтимемы. Энтимема – это суждение, которое передает уже существующее у слушателей отношение к обсуждаемой теме. Она отличается от силлогизма только тем, что ее результат – не новое знание, а действие. Существуют три вида энтимем: СУДЕБНАЯ, СОВЕЩАТЕЛЬНАЯ И ЭПИДЕЙКТИЧЕСКАЯ (ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ); с) ПОЭТИКА включает в себя как одну из частей теорию поэтического языка. Мы должны классифицировать слова: 1) по сфере применения языка (обычный стиль, наукообразный стиль, высокий стиль и т. д.), 2) по РАЗМЕРУ и ЗВУЧАНИЮ, а также по тому, какие изменяющие их «поэтические вольности» допустимы в стихах (элизия, удлинение и т. д.). 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ – это беспристрастное объективное изучение того, что существует. Основные области, на которые оно делится, соответствуют видам того, что может быть реально познано объективным научным путем. Это (а) ФИЛОСОФИЯ ПРИРОДЫ, которая изучает все, что движется или изменяется18; (b) МАТЕМАТИКА, которая изучает неменяющиеся абстрактные модели и структуры, и (с) ПЕРВАЯ ФИЛОСОФИЯ (МЕТАФИЗИКА), которая изучает взаимодействие материи и идеи-формы в мире, где существует упорядоченное последовательное изменение: а) ФИЛОСОФИЯ ПРИРОДЫ, то есть изучение всего, что меняется, в свою очередь, делится на три части соответственно типам изменения. Эти части – АСТРОНОМИЯ, БИОЛОГИЯ и НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. (1) АСТРОНОМИЯ изучает объекты, которые движутся только по кругу, никогда не стареют и никогда не отступают от строго кругового типа движения. Аристотель коротко описывает ее как «изучение вечных способных чувствовать субстанций». (2) БИОЛОГИЯ изучает все, что растет, умирает и производит на свет других особей той же разновидности. (3) НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ изучает неживые объекты, которые движутся по прямым траекториям каждый к тому месту, которое ему полагается занимать в зависимости от характерной для него силы притяжения; b) МАТЕМАТИКА изучает область неменяющихся структур, чисел и соотношений. Аристотель четко разделил эту область на (1) АРИФМЕТИКУ и (2) ГЕОМЕТРИЮ и до некоторой степени предвидел возникновение (3) ОБЩЕЙ МАТЕМАТИКИ, которая стала бы изучать более абстрактные модели, общие для этих двух дисциплин; c) МЕТАФИЗИКА, о которой будет более подробно сказано дальше, изучает то, как неменяющиеся идеи-формы выполняют функции образцов и целей в изменчивом материальном мире. В этом исследовании Аристотель пытается средствами философии оправдать существование и материализма и формализма. 3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ – это результат изучения мира с точки зрения человеческой жизни, человеческой природы и ценности человека. Его предмет – (а) привычки и решения, которые формируют индивидуальный характер человека (этика); (b) условности и учреждения, которые различные общества создают для достижения общего блага, и (c) сложные взаимоотношения между природным и условным, благодаря которым человек приобретает в обществе «вторую натуру», более или менее соответствующую его идеалу самореализации (политика). 4. ПРОДУКТИВНОЕ ЗНАНИЕ рассматривает вещи с точки зрения того, что из них можно составить или создать. Оно делится на два основных раздела в зависимости от того, (а) приносят ли производимые вещи пользу как инструменты или средства для чего-либо – в таком случае это произведения ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА, или же (b) они красивы и сделаны ради себя самих – тогда это произведения ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ. Некоторые особенности этой схемы заслуживают отдельного рассмотрения. Первая из них – то, как именно Аристотель извлек пользу из новых для его времени исследований языка, которые были начаты софистами. В его системе изучение слов четко отделено от изучения вещей; таким путем Аристотель избегает того наивного отождествления вещи и ее названия, которое было у греческих мыслителей в более ранние времена. Вторая особенность состоит в том, что он в своей теоретической схеме нашел место и для материалистической, и для формалистической традиции: у каждой из них по-своему увиденная картина мира и свой предмет изучения. Третья особенность – то, что Аристотель разделяет чисто описательное изучение мира и его исследование с точки зрения этики. До софистов философы строили свои философии на основе изучения мира, не обращая внимания на природу человека и на его попытки реализовать добро либо в собственном характере, либо в планах, которые он разрабатывает для человеческого сообщества. IV. Теоретическая наукаA. Философия природыХотя философия природы у Аристотеля делится на три основных раздела, фактически он изучает эту дисциплину методами, принятыми в биологии19. Именно к биологии у него самого был особенно большой интерес, и восхищение тем, что сделал Аристотель как биолог, не угасает вплоть до нашего времени. Биология также была областью, где учение о четырех «причинах» заставляло искать способ, позволяющий объединить, с одной стороны, Эмпедокла и атомистов с их теориями естественного отбора и, с другой, Академию с ее теорией, где ценности являются «причинами». Биология изучает живых индивидуумов, которые вырастают, воспроизводят свой род и умирают. Формальные «причины», которые изучает биолог, – повторяющиеся типы, иначе говоря, виды живых существ, обнаруживаемые в природе. Материальные «причины» – ткани, органы и силы, дающие определенной идее-форме возможность обрести жизнь в качестве конкретного существа. Каждое живое существо рождается от родителей, принадлежащих к тому же виду. Действенными «причинами» являются эти самые индивидуумы-родители20. Инстинкт сохранения вида – это космическая сила; он порождает желание произвести на свет потомство. Смертный индивидуум все же имеет долю в бессмертии тем, что дает жизнь бессмертному виду или разновидности. Аристотель оставил после себя большую и блестяще написанную книгу заметок о классификации животных («История животных»), где он выявляет существующие в природе разные типы живых существ. То же самое он сделал для процесса воспроизводства животных (книга «О размножении животных») и в этом случае исследовал ту область причинно-следственных связей, благодаря которой вид остается бессмертным. Он также написал классическую работу о материальных «причинах» в биологии – труд по сравнительной анатомии различных родов и видов («О частях животных»). Во всех этих работах он предполагает, что взгляд с точки зрения конечной причинности, то есть направления и цели, вполне правомерен при поиске научных объяснений21. Каждое единичное животное или растение имеет свои собственные, заданные природой направление роста и последовательность его этапов. Каждое из них «старается» реализовать свои возможности, то есть стать зрелой особью своего вида. Котенок, например, сначала учится видеть, потом ходить, дальше играть, а после этого охотиться. Его органы согласованно и последовательно развиваются таким образом, чтобы котенок имел возможность стать взрослым котом. Формальная «причина» здесь выполняет и функцию «причины» конечной: идея-форма полностью развившейся взрослой особи определенного вида действует как цель и идеал, направляя рост индивидуума по определенному предсказуемому жизненному циклу, при этом внутреннее влечение индивидуума к раскрытию своих возможностей и его внутренние «силы» совместно руководят его физическим ростом и поведением. Аристотель не видел препятствий для того, чтобы природа была одновременно и необходимой последовательностью физических изменений такого рода, и постоянной реализацией цели. Когда физические изменения уже произошли, им всегда можно подобрать объяснения из области механики. Но эти изменения – не случайная совокупность столкновений частиц. Они доступным для понимания образом нацелены на то, чтобы индивидуум рос, и поэтому, чтобы их понять, лучше всего считать их частями единого целенаправленного усилия, которое совершается всюду в природе. Таким образом, в теории Аристотеля находится место как для механистической биологии Эмпедокла и атомистов, так и для взглядов Анаксагора и Академии, которые наделяли природу большей целенаправленностью. Я потому уделил здесь довольно много места обсуждению конечной причинности в биологии, что в этом случае взгляды Аристотеля противоположны нашим современным – по крайней мере, обычно считают, что противоположны. Несколько сделанных одно за другим достижений технического характера привели биологов нашего времени к убеждению, что не существует никаких загадочных «жизненных сил», действие которых нельзя было бы объяснить химическими и физическими процессами, и они часто полагают, будто это доказывает ненужность и ошибочность аристотелевского понятия конечной «причины». Но биологи ошибаются, когда считают, что такие успехи прогресса, как синтез органических веществ из неорганических компонентов, противоречат взглядам Аристотеля: Аристотель тоже был уверен, что любому физическому изменению после того, как оно произошло, можно дать нецелевое механистическое объяснение. Теория эволюции заставила нас пересмотреть взгляды Аристотеля на количество видов в природе и на их неизменность, но это не снимает с рассмотрения вопрос о цели – о том, почему направление, в котором эволюционировала жизнь, практически не менялось. Может быть, Аристотель проложил путь для синтеза противоположных точек зрения – таких, как взгляды Спенсера, жившего в XIX веке сторонника «чистого механицизма», и Бергсона, который начал ХХ век доводами в пользу «творческой эволюции», в ходе которой действует целенаправленная сила.  ЧЕТЫРЕ «ПРИЧИНЫ» АРИСТОТЕЛЯ В ЗООЛОГИИ (S означает единичную особь) Свою работу в биологии Аристотель вел одновременно со своими попытками показать, что одна и та же схема причинно-следственных связей действует в астрономии и в химии, двух других больших разделах природы. По сути дела, он подошел к изучению звезд и камней так, словно и те и другие – частные случаи понятия «живой организм». Работы Аристотеля действительно показали, что эти явления можно системно объяснить на основе его причинно-следственной модели. Однако из-за своей ориентации на биологию Аристотель сделал несколько принципиальных ошибок в объяснении того, каковы основные различия между живым и неживым, смертным и вечным. Некоторые существующие в природе различия выглядели достаточно очевидными. В астрономии вещи были «вечными и чувствующими» и были способны только на один вид изменений – движение по кругу. В химии вещи стремились попасть каждая на свое «положенное место». Они изменялись, либо изменяя свои свойства – становясь горячими, холодными, влажными или сухими, либо перемещаясь по прямой. На своих положенных местах они находились в состоянии покоя, причем «более тяжелые» вещи располагались ниже «более легких». Здесь становится очевидным, что Аристотель по складу ума был прежде всего биологом: тяжесть и легкость он истолковывал как конечные «причины», что-то вроде желания или силы самореализации, которая заставляет камень «хотеть» упасть. В случае с небом и звездами Аристотеля не удовлетворяла ни чисто математическая астрономия Академии, ни чисто механистическая у атомистов. Он попытался соединить их вместе с помощью одного решительного шага: предположил, что веществом, из которого состоит небо, является «пятый элемент» – эфир (aither по-гречески). Этот aither отличался от земных элементов тем, что его природа – круговое движение. Из этого предполагаемого нового вещества Аристотель попытался построить физическую модель – «хрустальные сферы», которые в какой-то мере стали бы конкретным воплощением чисто геометрических конструкций Академии в объектах механики22. Но теории Аристотеля в области астрономии и химии, хотя и господствовали в науке в конце Средних веков, не были ни так тщательно разработаны, ни так свободны от неувязок между компонентами, как его биология23. B и C. Математика и метафизикаАристотель связал свою трехчастную схему с проблемой причинности и использовал ее как план для изложения истории существовавшей до него научной мысли. Представители материалистической традиции, в том числе атомисты, имели склонность изучать только естественные субстанции и поэтому действительно считали, что сфера философии ограничивается физикой; формалисты имели склонность сосредоточивать свое внимание только на абстрактных измерениях и классификациях и поэтому на самом деле полагали, что вся философия концентрируется в математике. Ни одна из этих точек зрения не может объяснить, как материя соотносится с идеей-формой, поскольку у материалиста нет методики для анализа идей, а у формалиста нет в его теории места для материи. Аристотель предложил доказательство того, что философия третьего типа – его собственная – может объединить эти две науки. В схеме Аристотеля философия природы включает в себя все индивидуальные вещи, имеющие свою природу, то есть внутреннюю направленность, которая реализуется в изменении – движении, росте и так далее. Математика имеет дело с неменяющимися количествами – числами, фигурами, соотношениями, которые математик рассматривает так, словно они существуют сами по себе. Однако в действительности такие вещи, как квадрат, не существуют отдельно от других вещей: только с помощью мыслительной операции математик абстрагирует идеальный квадрат от различных известных ему конкретных квадратов. Этот квадрат он представляет себе не как физический объект, а в математическом пространстве, которое доступно для понимания. Метафизика занимается теми вещами, которые представляют собой неменяющиеся, отдельные одна от другой субстанции, а не абстракции. Аристотель утверждает, что такие отдельные одна от другой неподвижные вещи должны существовать, поскольку они действуют в формальных и конечных причинно-следственных отношениях. В своей «Метафизике» Аристотель после вводной части, где он излагает историю философии, переходит к анализу, цель которого – показать, что живое существо всегда представляет собой сплав идеи и материи, то есть что для его существования нужны и материя, и идея-форма. Действительно, жизнь любого существа – это движение к идее-форме и проявление скрытой в этом существе силы (материальной и действенной «причин»), а направление пути задает актуальная идея (формальная и конечная «причины»). Затем Аристотель коротко напоминает нам, что чистая материя и чистая идея, предоставленные самим себе, никогда не стали бы ни взаимодействовать, ни образовывать сочетания; даже если бы прошло бесконечно много времени, мир все равно остался бы разделенным на не смешивающиеся друг с другом, как масло и вода, океан «чистой материи» (похожий на «все вещи вместе» Анаксагора) и множество ни к чему не прикрепленных «чистых идей», которые не были бы идеями чего-то24. Резкое разграничение материи и идеи-формы порождает вопрос о том, каким должен быть мир, где мы живем, если в нем возможно то взаимодействие формы и материи, которое мы наблюдаем25. Для единичных естественных вещей ответ на этот вопрос – действие конечных и действенных «причин». Действенная «причина» вначале заставляет определенную часть материи начать путь к полному принятию вида, определяемого сответствующей идеей-формой. Она запускает процесс роста, на каждом этапе которого существует сила для того, чтобы принять вид, соответствующий новой идее, и желание достичь этой идеи. Завершающая полная идея-форма является целью, то есть идеалом, который заставляет каждую вещь сохранять тот уровень совершенства, которого она достигла, и стремиться достичь большего. Разнообразие действующих в природе идей не безгранично: существует строго определенный набор их разновидностей, которые повторяются или существуют в течение долгого времени. Эта точка зрения заставляет нас предположить, что Аристотель, если бы от него настойчиво требовали ответа, признал бы, что индивидуальные особи в каком-то смысле являются материалом для этих избранных идей. Вид остается неизменным и бессмертным, но последовательно воплощается в сменяющих друг друга индивидуумах, которые один за другим проходят характерный для него жизненный цикл. Это ясно показывает, в чем заключается разница между Аристотелевой идеей-формой и простой абстракцией. Похожая модель причинности верна и для всего мира как целого. По утверждению Аристотеля, действенной «причиной», заставляющей начаться реализацию сил, в этом случае является энергия, поступающая с неба, прежде всего от Солнца. Так обеспечивается постоянный приток энергии извне, который необходим, чтобы процесс реализации сил шел без остановки. Но для того, чтобы объяснить, почему небеса не перестают двигаться, а материя продолжает улавливать и сохранять в себе идею-форму, философы, по мнению Аристотеля, должны также признать существование конечной «причины», которую он назвал «первичным двигателем». Первичный двигатель – не механическая сила, которая толкает или тянет предметы; скорее это тот, кто движет и является целью желания. Сохранение идеи-формы и постоянное направленное изменение в природе, которые мы наблюдаем, имеют место потому, что «все вещи желают Бога». Хотя Аристотель часто называет первичный двигатель Богом, а иногда говорит о своей первой философии как о теологии, позже критики часто подчеркивали, что это не тот Бог, которого почитают верующие. Это скорее научный закон сохранения актуальности, чем Бог религии26. Та притягательность, которой Бог продолжает обладать для мира, и объясняет, почему небеса постоянно вращаются: они желают достичь конечного совершенства, чтобы обрести свое надлежащее место и покой; а поскольку все точки круга одинаковы, небеса никогда не достигнут этой цели. Эта же притягательность Бога является и «причиной» бессмертия видов – того постоянного желания произвести потомство и раскрыть свои возможности, которое управляет каждым живым созданием. Чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к далекой конечной «причине» всей природы, первичный двигатель должен быть совершенным, неменяющимся и чисто актуальным. Аристотель предполагает, что можно провести аналогию между первичным двигателем и «чистым разумом». Наши собственные способности к творческим озарениям тоже являются силами, но не физическими и не имеют протяженности во времени. Аристотель описывает их как мгновенные реализации (сравните это с мифами Платона, в которых знание – это припоминание). При определении природы такого божественного разума возникают проблемы, и Аристотель исследует некоторые из них. Поскольку Бог не имеет тела, а значит, не имеет и органов чувств, он не может познавать конкретные материальные единичные вещи нашего мира. Аристотель считает это признаком высшего совершенства: временные и случайные вещи не стоят того, чтобы Бог их познавал. Божественная мысль – это «мысль, мыслящая сама себя», – описание, которое ставит читателя в тупик. Иногда это понимают как постоянное недифференцированное осознавание себя самого. Но Аристотель явно имел в виду что-то другое, поскольку осознавание себя самого по его определению – одна из операций нашего обыденного сознания, которого у Бога быть не может. Вечно бездействовать и не думать ни о чем совершенный разум тоже не может, «поскольку», спрашивает Аристотель, «что в этом достойного?». Более поздние замечания Аристотеля о «добре в природе», в которых он говорит, что оно «является и вождем, и порядком», заставляют предположить, что, возможно, Бог созерцает вечные идеи в их прекрасной системной взаимосвязанности. Это не противоречит словам «мысль, мыслящая самая себя», поскольку, если речь идет о нематериальных вещах, «мысль и вещь, о которой мыслят, – одно и то же». Не будет противоречить сказанному выше и предположение, что чистый разум может познавать идеи отдельно от их материальных «причин»: это иногда могут делать и наши человеческие умы. В любом случае очевидно, что представление Аристотеля о Боге действительно далеко от более ранней наивной веры во многих богов, у каждого из которых человеческое тело и капризный нрав27. Аристотелево описание Бога, который может быть познан с помощью теоретической науки, конечно, оставляет открытым вопрос о том, что может прибавить к этому знанию религиозная вера, основанная на чем-то ином, чем теоретические исследования. И действительно, учение Аристотеля, который доказывает, что наука нуждается в Боге, но мало что способна узнать о Нем, может служить философским введением к трем различным религиям, каждая из которых утверждает, что заменила этот вывод древнего философа другим умозаключением, более подробным. В III веке н. э. такой религией был неоплатонизм, в XII – ислам, в XIII – христианство. Однако у Аристотеля притягательная сила идеи-формы всегда действует специфически и избирательно. «Все вещи желают Бога» нужно понимать так: каждая вещь желает достичь совершенства, но совершенства в своем собственном роде. Плоский червь стремится раскрыть свои возможности, но все, на что он способен, и его единственная цель – стать идеальным взрослым плоским червем. Аристотель считал, что у каждой разновидности вещей есть своя конечная «причина» и что было бы безответственным уходом в поэзию говорить, будто у плоского червя есть какая-то неосознанная жажда выйти за пределы собственной природы и стать человеком или звездой28. Эта точка зрения Аристотеля отразилась в его астрономии, зоологии и метафизике. В астрономии «первичный двигатель» является конечной «причиной» для «первого неба» – самой внешней сферы, период обращения которой равен одному дню. Но все другие перемещения планет и Солнца, поскольку у них разные скорости и разные направления движения, должны были иметь другие конечные «причины»; количество этих «причин» было равно количеству независимых друг от друга движений составных частей неба. Основываясь на работе ученых Академии, Аристотель считал, что количество этих движущихся низших разумов равно «либо 47, либо 55». Но он не исследовал подробно различия между ними, возможно, потому, что не видел никакой возможности проверить такие рассуждения опытным путем. В зоологии Аристотель создал учение о вечности видов. Он считал, что количество разновидностей живых существ задано раз и навсегда и что природа наделила каждую такую разновидность бессмертием. Было и еще одно положение, вытекавшее из его концепции конечных «причин». Поскольку особь определенной разновидности существ является частью общего порядка природы лишь потому, что имеет какую-то ценность, а каждый индивидуум старается наиболее полно реализовать себя, структуру своей разновидности, то мы можем сказать, что материалистическая, иначе описательная, наука пытается классифицировать вещи без учета целей и ценностей, а формалистическая, иначе платоновская, наука пытается классифицировать вещи по влекущим их к себе притягательной силой идеалам. Поскольку все, что существует, становится одновременно ограничением материи с помощью идеи и поиском ценности, в Аристотелевой философии природы уже не действует старая дихотомия ценности и факта. В математике это дает следующий результат: природа предоставляет математику готовый пример симметрии, системы и порядка, и он руководствуется этим примером, когда исследует безграничную область возможных абстракций. Понятию «сила» Аристотель придает расширенный смысл, включая в него возможность и потенциал, и помещает его определение непосредственно перед рассуждением о «первичном двигателе». Для этого толкования потребовалось ввести очень важное с философской точки зрения различие между видами сил. В природе существует два таких вида. Как правило, вещи имеют «одностороннюю» потенциальность: огонь обладает силой гореть, но не противоположной горению силой замерзать; желуди имеют силу развиться в дубы (если не помешает что-то извне), но не в особей какого-нибудь другого вида. Каждая разновидность животных имеет набор сил, которые заранее заданным образом развиваются в направлении, ведущем к специфической для этой разновидности цели. Каждая природная потенциальная возможность прочно связана с какой-либо одной формально-конечной «причиной», которая направляет и ограничивает ее «актуализацию»33. Но человек в этом отношении является исключением благодаря своему уму, который наделяет его двухсторонней потенциальностью. Врач (возьмем один из тех примеров, которые часто применяет Аристотель) имеет силу не только лечить, но и убивать. Похоже, что на уровне человека ум всегда обладает такой свободой. Вследствие этого природа человека не всегда автоматически подсказывает ему единственную модель привычного или иного поведения, как это можно наблюдать у пчел и муравьев. Для человека естественно стремиться к очевидному благу. Конечная «причина» влечет его к себе. Но природа и поведение человека испытывают воздействие ошибок, несчастных случаев и ответственности за выбор и этим сильно отличаются от всей остальной реальности. Из этого Аристотель делает вывод, что такая наука об обществе, о которой мечтал Платон, невозможна29. Свобода возникает из-за особого места человека в метафизической картине мира. Это значит, что природа не командует развитием ума и душевного благородства. Каждый человек, чтобы развить в себе эти качества, сначала должен сам свободно решить, будет он это делать или нет. Человеческий ум может лишь в самых общих чертах представлять себе, какого рода привычки, какой тип характера и какие виды учебных занятий ведут к полному раскрытию возможностей человека. Вся остальная природа воплощает в себе закрытое множество идей, а свобода человека приводит к созданию множества новых идей – общественных институтов, нравственности и произведений изящных искусств. Эти созданные человеком идеи по природе и функциям похожи на формальные «причины» в теоретической науке, но изобретательность человека действует постепенно, и у идей-форм, которые она создает, идеальное не совпадает, как у природных видов, с актуальным. Конечная «причина» человека задана ему природой, но у его пути к ней есть много боковых ответвлений, из которых он может выбирать, и они проходят через разные идеи. То, что любой набор общественных институтов и законов, который могут разработать люди, обладает какой-то ценностью, создает для нас постоянную опасность упустить большее благо ради обладания тем, что всего лишь неплохо. Или же мы можем потерять благо, которое имеем, если уничтожим какую-то общественную идею, желая ее улучшить, а замену ей найти не сумеем. Таким образом, практическая наука, то есть изучение человеческой природы и поведения людей, смотрит в неизвестное будущее, у которого может быть много вариантов, и не может знать его всегда и абсолютно точно. Тем не менее и практическая и теоретическая наука являются частями одного и того же реального мира и обладают четырьмя измерениями причинности. Аристотель по-новому определяет роль философа. Дело философа – делать яснее методы других специалистов, начиная с астрономов и кончая конгрессменами и поэтами, но при этом, в свою очередь, признавать открытия каждого из этих специалистов истинными в той дисциплине, которую специалист изучил. Это вовсе не дает знатоку права прятаться за мелкие профессиональные особенности его данных и заявлять что-нибудь вроде того, что никто не может понять современную физику, если не научился пользоваться уравнениями квантовой теории. В любом мире, где теории имеют какую-либо объяснительную силу, каждая область научных исследований имеет несколько основных понятий, которые определяют ее предмет и используются для объяснения каких-либо черт того или иного явления путем логического вывода следствий из «причин». Эти «принципы» способен понять любой студент, достаточно подготовленный для гуманитарного образования30. Лекции самого Аристотеля по сравнительной анатомии, дисциплине, которая, по тогдашним представлениям, имела дело с «отвратительными вещами» и не подходила для включения в состав гуманитарного образования, выразили своей тематикой выдающуюся мысль Аристотеля: если действительно вся природа упорядочена однотипно, то – делает он вывод – наука должна двигаться вперед по пути специализации и узкопрофессиональных исследований; но любая наука, смысл которой не затуманили своими произвольными действиями специалисты, не имеющие четко определенной методики, может изложить свои принципы на языке четких терминов, которые пригодны для общеобразовательных курсов, входящих в программу гуманитарного образования. И если исследования, проведенные Аристотелем (или их распространение на другие области в наше время), доказывают, как он полагал, что вся действительность состоит из одинаковых и одинаковым образом упорядоченных причинно-следственных связей, это требование четкого формулирования принципов должно оставаться в силе и теперь. Но оно должно быть скорректировано другим открытием Аристотеля – пониманием того, что лекции и дискуссии не могут заменить работу непосредственно с предметом исследования: одна диалектика не наполнит слова смыслом, это могут сделать только опыт и эксперимент31. V. Практические наукиA. ПолитикаНачнем с причин, а для этого заглянем в труд Аристотеля «Политика». В политической теории, как и в философии природы, Аристотель обнаруживает два традиционных типа взглядов. С одной стороны, существуют формалисты и идеалисты, которые говорят только о формальных и конечных «причинах». Они делают вывод, что, поскольку отдаленная конечная «причина» – оттиск одинакова для всех обществ, различия в политике между обществами нереалистичны, и единственной задачей политической теории становится просвещение всех людей для того, чтобы они начали ясно видеть эту общую для них абстрактную цель32. В этой точке зрения есть две коренные ошибки. Во-первых, отдаленная «причина» конкретизируется до пригодной для реализации степени лишь через посредство специфических промежуточных «причин». Например, всемирное братство свободных людей – идеал, приемлемый для большинства народов современного мира, – делается специфическим, когда приближается к реальному воплощению с помощью таких средств, как свободное частное предпринимательство, пролетарская революция, равенство возможностей, распределение потребительских товаров поровну, одна религия для всего мира и т. д.33 Каждое из этих средств может служить для достижения хорошей и приемлемой цели, но не может совмещаться с остальными, если рассматривается как конкретная социальная цель. Во-вторых, формалисты ошибаются, когда считают, что только формальные и конечные «причины» – идеалы и законы – являются реальными «причинами» общества. Формалист имеет склонность нереалистически основывать все на конституциях, договорах и законах. Он забывает, что устав, написанный на бумаге, – это еще неработающий общественный институт. Предположим, например, что какое-то сообщество людей посчитало свою конституцию (которой оно в высшей степени довольно) самой лучшей и стало экспортировать ее во все другие страны, которые желают достичь такого же уровня промышленного и культурного развития, как у этого сообщества. В результате государства в Соединенных Штатах и, скажем, в Республике Конго на бумаге будут одинаковыми – но лишь на бумаге. Например, те специфические формальные «причины», которые лучше всего действуют при высоком уровне образования, окажутся совершенно не способны обеспечить существование эффективно работающего представительного правительства там, где уровень образования низок. Слабость любой центральной власти, естественная для Древней Греции с ее горными хребтами, вероятнее всего, привела бы к катастрофе на огромных возделанных крестьянами египетских равнинах возле Нила. Договор Афин, скажем, с Персией не произвел бы на Аристотеля хорошего впечатления, если бы этот договор полностью противоречил интересам Персии и ее традиционному влиянию на побережье Малой Азии. Он предсказал бы, что такое формальное соглашение, не учитывающее материальные «причины» и непригодное для эффективного претворения в жизнь, не сможет стать реальностью. Но Аристотель также знал о противоположной традиции в практической политике и политических дискуссиях и ее тоже критиковал. Политики-реалисты, начиная с абстрактных теоретиков-софистов и кончая практиками, определявшими политическую тактику греческих городов-государств, единогласно считали, что политика – это стремление к власти и выгоде. Для таких политиков утопии были только поэзией, и ничем больше, а ход истории определялся богатством народов, контролем над ресурсами и средствами производства и приходом к власти тех или иных людей. При этом подходе законы, конституции и идеалы не принимались в расчет, так как считались всего лишь условностями, которые умный человек может использовать, чтобы добиться преимущества для себя. Такие взгляды не удовлетворяли Аристотеля, видимо, по причинам того же рода, что и причины, из-за которых Сократа перестала удовлетворять ионийская наука. Аристотель признавал, что и богатство и сила – необходимые составные части политических союзов. Но, утверждал он, реальные общественные институты и идеи, которые служат каналами для движения богатства и силы, тоже играют определенную роль как «причины». Афинская демократия и сиракузская тирания отличаются друг от друга только этими формальными сторонами общественного устройства – вот как много могут они значить. Материальные богатство и сила не порождают автоматически ту или иную форму правления, а являются сырьем, из которого может быть (и было) построено много разных видов государства34. Из этого с очевидностью следует, что в политическом споре так же, как в философской дискуссии, последователь Аристотеля чутко реагирует на опасности, которые возникают, если дискуссия ведется на основании неполного анализа. Если один человек видит роль формальных и конечных «причин» и говорит лишь о них, а другой в ответ на это признает действительно значимыми только действенные и материальные «причины», этот спор будет продолжаться бесконечно. Примером того, какое большое значение имеет этот анализ в нашей сегодняшней общественной ситуации, является аристотелевская роль Ричарда Маккейна в политических дискуссиях, особенно в дискуссии на симпозиуме ЮНЕСКО в 1953 году. На этом симпозиуме и западные участники, и участники-марксисты восхваляли демократию, но, когда их просили дать определение демократии, западная группа основывала его почти лишь на одних конституционных гарантиях и установленных законом правах, а марксистская излагала свою точку зрения почти только в терминах собственности на средства производства и свободы от формального классового угнетения35. Женевские дискуссии по разоружению, происходившие за два года до того, как были написаны эти строки, – еще один пример, когда проявилась эта поляризация точек зрения. Советские делегаты, обсуждая всеобщее разоружение, говорили о нем в терминах потенциалов для производства оружия, а представители Запада – в терминах законодательства, позволяющего контролировать уже существующие оружие и базы. Вполне возможно, эта разница подходов частично была вызвана скрытыми мотивами, но играло роль и различие философских подходов к определению того, что такое настоящее разоружение. Эти два представления о разоружении были основаны на альтернативных неполных анализах причинно-следственных связей. Возникавшие в результате разногласия, не будь они правильно поняты, могли бы привести к взаимному недоверию и подозрительности, несмотря на самые лучшие намерения сторон. Политическая теория у Аристотеля сложнее, поскольку государство, хотя оно явно не единичное живое существо, все же представляет собой что-то близкое к живому организму36. После того как идея начала существовать во времени и пространстве, она старается поддержать свое существование и, похоже, почти совершает действия в целях самосохранения. Государство – воплощение этой тенденции. Общественный институт имеет встроенную в него конечную «причину» – цель, для достижения которой он служит особенно хорошо. Более отдаленная конечная «причина» – благо и свобода людей – важнее, чем встроенная. Простое сохранение какого-либо общественного института может препятствовать осуществлению этой цели, но общественные институты не хотят расставаться с реальностью и цепко держатся за нее. Почти кажется, что они участвуют в желании бессмертия, которое есть у всех природных субстанций37. Государство в системе Аристотеля занимает свое собственное особое место. Оно – не истинный «организм», которым, по мнению Аристотеля, его делал Платон, в чем Аристотель упрекает своего учителя. Но государство и не условность, которая не существует отдельно от граждан, из которых состоит, как сказали бы софисты или Демокрит38. Политическая теория Аристотеля учитывает тот факт, что в политической истории есть и диалектическое развитие, и непредсказуемые изменения. B. ПоэтикаВ поэзии и этике так же, как в политической теории, свобода человека делает возможным появление новых вещей – нового вида искусства, новой конституции, нового представления о духовном благородстве человека. Конечная «причина» в этих областях господствует меньше, чем в остальной природе, как ее представлял себе Аристотель, и допускает более чем одно направление, более чем одну форму своего выражения. Произведения изящных искусств, законы и сам характер человека не являются природными в том строгом смысле этого слова, в котором оно применяется ко всему остальному миру от астрономии до химии. Однако то, что искусственные вещи реальны, придает и им тоже ту четырехмерность, которая понимается и объясняется с помощью «причин». В 30-х годах XX века в Чикагском университете было сделано открытие, что история литературной критики может быть понята как постоянный перенос центра внимания с одной из четырех «причин» на другую при отсутствии сбалансированной точки зрения, при которой в центре было бы то произведение искусства, которое анализируется. Критик может, например, сосредоточить свое внимание на выразительности, то есть на авторе как действенной «причине»; на стиле, то есть среде – носителе материальной «причины»; на идее, то есть на истине или сообщении как невоплощенной формальной «причине» (это платоновское представление о них) или на воздействии на аудиторию, то есть риторическом сведении художественного произведения к отдаленной конечной «причине». Объединяет все эти четыре аспекта само произведение. Это имеет достаточно большое сходство со способностью природной субстанции фокусировать на себе и объединять четыре измерения причинности, каждую из которых другие критические теории анализируют отдельно от остальных. И художественное произведение настолько является существующим, что, как и в природе, конечная «причина» – истинное эстетическое удовольствие – кажется, встроена в само произведение и не зависит от случайной реакции аудитории39. Этот подход к искусству прекрасен, если не забывать о двух вещах. Во-первых, у произведения есть значимые «причины» вне его. Во-вторых, метод, предлагаемый в «Поэтике», – критический, а не творческий. Равновесие четырех «причин» возникает после того, как творческая энергия, пластичная среда и фиксированная формальная структура откорректировали положения относительно друг друга и наконец достигли устойчивого состояния, при котором хорошо уживаются вместе. Может быть, эта «аристотелевская» тенденция в современных критических дискуссиях иногда заходит слишком далеко. Возможно, равновесие «причин» возникает при завершении любого произведения, но, как это равновесие создается, не говорят ни сам Аристотель, ни его последователи40. Впрочем, Аристотель не обещал сказать это, и его великое доказательство также не требовало от него это говорить. А вот положение Аристотеля о том, что художественное произведение достаточно похоже на субстанцию, чтобы иметь те же измерения причинности, верно: это подтверждают современные работы. C. Этика: человеческое «я»Этика – это изучение человеческой индивидуальности. Предмет исследования у нее тот же, что у политики, но центр внимания другой. В этике Аристотель исследует природу человеческого «я» и его развитие. Опираясь на открытия Сократа и Платона, он посвящает десять книг «Никомаховой этики» вопросам реализации человеком своих возможностей. В каждой книге к уже рассмотренным уровням самореализации добавляется еще один новый, и возможности человеческого «я» расширяются. Начиная с ядра «я» – субъективной чувствительности – мы развиваем наши человеческие силы и в конце концов доводим их до уровня родства человеческого «я» с космическим разумом – первичным двигателем. «Этика» – одна из немногих книг в своей области, в которых автор дает читателю советы по самосовершенствованию и сообщает некоторые технические приемы самооценки. Наше британско-американское представление о джентльмене выросло в основном из первой половины «Никомаховой этики». Этика исследует человеческое «я». Деятельность человека находится где-то посередине между свойственным природе повторением типичных индивидов и непредсказуемыми процессами, породившими чудовищ у Эмпедокла. Это объясняется тем, что сам человек занимает в Аристотелевой Вселенной совершенно уникальное место. Если бы люди были звездами, у них не было бы ни проблем, ни решений: они вели бы себя одним и тем же предсказуемым образом, двигаясь виток за витком по круговой орбите, где нет точки покоя – места, которое было бы предназначено им природой и в котором они могли бы остановиться. Если бы люди были элементарными частицами, они бы сталкивались между собой и отскакивали друг от друга случайным образом под влиянием постоянной слепой жажды двигаться самым коротким путем к своему «положенному месту» в центре мира. Но человек – это сложная равновесная система из нескольких уровней инстинкта, привычки и ума; он имеет смутное интуитивное представление о том, в каком направлении находится его природная конечная «причина», но в его психику не встроен, как у муравьев и пчел, заранее заданный единственный путь к ней41. «Этика», в которой Аристотель прослеживает становление человеческого «я» до полной зрелости, еще раз показывает, что для раскрытия возможностей человека имеют значение все четыре «причины». Аристотель пытается с помощью аккуратного анализа и большого количества разграничений показать, как из накопленных привычек и стремления выйти за пространственно-временные рамки одной жизни может возникнуть личность42. Он начинает показом того, как повседневный язык с помощью похвалы или порицания обусловливает социальное поведение каждого человека, а кончает свой анализ рассмотрением того, как полностью раскрываются возможности человека, если он смотрит на мир под теоретическим углом зрения43. Этапы имеют сложную структуру, и это заставляет Аристотеля для рассмотрения подробностей делать большие отступления от главной темы, что мешает видеть основную конструкцию его мысли. Кроме того, он нередко приводит слишком частные примеры для иллюстрации интуитивного открытия, которое можно сформулировать более обобщенно (например, когда иллюстрирует перечислением конкретных случаев свое знаменитое определение морального совершенства: наивысшее благородство в том, чтобы всегда быть посередине между крайностями вожделения или страсти). Но к началу третьей книги «Никомаховой этики» становится очевидной позиция самого Аристотеля. Даже наш обычный язык показывает, что мы восхищаемся «тем, что благородно», то есть конечной «причиной», не совпадающей ни с простым одобрением общества, ни с личным комфортом, но становимся мы тем, чем делают нас привычки, которые формируются внутри определенной культуры44. Интерес наших современников к этике, политике и теории поэзии Аристотеля возник, я полагаю, оттого, что в результате внимательного наблюдения за фактами Аристотель признал: его четыре «причины» не диктуют вещам неизменное повторение типа в тех случаях, когда в предмете изучения присутствуют свобода и изобретательность. Без философского тезиса о четырех «причинах» труды Аристотеля в области практической науки и эстетики казались бы нам безнадежно устаревшими. Соблазнительно думать, что в определенном контексте этот тезис может оказаться верным, хотя сам Аристотель неправомерно применил его в астрономии, зоологии и остальной философии природы45. D. ЗаключениеАристотель с его гениальным даром структурирования и открытием, что реальность постижима в подробностях, написал для греческой философии подходящий для нее конец. Он был слишком большим оптимистом, когда думал, что разум после нового в то время открытия – разработки методов обобщения и дедукции – стал способен дать ответы на все вопросы, касающиеся фактов, и на все философские вопросы, и был слишком склонен доверять природе, когда считал, что она всегда точно следует типу и поэтому, проводя наблюдения, достаточно сделать их одно или два. Тем не менее то, что сделал Аристотель, может считаться одним из крупных достижений человеческого духа на пути к тому, что благородно. Сегодня у нас может возникнуть ощущение, что Аристотель, возможно, был бы справедливее к жившим до него мыслителям, если бы проявил больше внимания к их неприглаженным мощным откровениям, выходящим за границы того обычного мира, сохранением и упорядочением которого занимался он сам. Темный космический поток Гераклита, пророческое ясновидение, путем которого Платон постиг, что идея добра всего одна, и восторг Эмпедокла по поводу естественного отбора следовало ослабить и приглушить, чтобы стало возможным классифицировать и аккуратно совместить идеи, составив из них единое целое46. Тем не менее открытие Аристотелем того, что классификация способна разгадать тайну многомерности всех, даже самых обычных вещей, и сочетание у него страсти, широкого кругозора в теоретических рассуждениях и точности делают его одним из величайших философов всех времен47. Авторитет Аристотеля признан во всем мире; например, в XIII веке Жиль из Рима, автор трактата «Ошибки философов», начал свою книгу так: «И первым перед читателем пройдет Аристотель…» В нашем рассказе о возникновении философии в греческой мысли Аристотель прошел перед читателем последним. Это дает ему преимущество – позволяет сказать последнее слово перед тем, как параллельно с изменениями в обществе мыслители также изменились и стали проявлять интерес к другим темам и способам рассмотрения тем, ставшим характерными для эллинистической и раннехристианской мысли. По сути дела, в практических работах Аристотеля допущения и иллюстративные примеры взяты из эпохи, которая во время написания этих работ подходила к концу. Эта ирония судьбы вызвала к жизни замечание Гегеля: «Сова Афины вылетает в сумерках». Но завершающее слово Аристотеля, несмотря на устарелость своей иллюстративной части, сказано с высоким профессионализмом и большим мастерством. От своего времени до наших дней он был не только одним из трех или четырех наиболее изучаемых и вызывавших наибольшее восхищение философов, но и одним из тех мыслителей, которые сильнее всего повлияли на формирование нашего образа мыслей. |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Вверх |
||||
|
|
||||
