|
||||
|
|
Первые 29 лет с мамой и АлексеевымиВместо предисловияВо все времена находились люди, которые вели дневники, фиксировали на бумаге события, свидетелями которых они были, то есть писали мемуары. Мемуары известных людей – Личностей, вынесенных на гребень любых областей истории человечества, – всегда находят любителей, их с интересом читают и изучают потомки. Но существует масса мемуаров, воспоминаний людей, самих по себе не известных; эти рукописи, в лучшем случае, лежат где-то в общественных архивах, а чаще остаются в архивах семейных. В наше время мемуары пишут все, кому не лень, и я в их числе, хотя признаюсь – мне писать мемуары лень, они отнимают массу времени и сил, душевных и физических, но, тем не менее, я пишу быть может потому, что привык жить творческой жизнью! Иначе – пустота… Честно говоря, я полагаю, что кроме простого желания сесть за письменный стол или осознания своего долга перед историей и памятью об ушедших в «лучший мир» рассказать потомкам о нравах, событиях и людях своего времени, нами, кто не составил себе за истекшую жизнь громкого имени и известности, то есть людьми самыми обыкновенными, подсознательно руководит еще и эгоистическая потребность оставить о себе хоть какой-то, по возможности хороший, приятный, интересный для потомков след о нашем собственном существовании, ведь воспоминания часто пишутся от первого лица. Вообще-то я не вижу в этом ничего плохого, если, конечно, авторы ведут свой рассказ правдиво и объективно, без предвзятости и тенденциозности. Чем больше людей напишет об одних и тех же фактах истории, тем объективнее смогут судить о них потомки. Кроме того, у каждого автора можно почти всегда почерпнуть какие-то частности, дающие дополнительную информацию о событиях и людях с большими именами, о людях, вошедших в историю. Таким образом, можно считать, что в какой-то мере любые мемуары могут представлять для потомков известный интерес. Ну а если человек, сам ничем не прославившийся (как, скажем, я) принадлежит к семейному клану, из которого вышло много известных общественных деятелей, активно влиявших на течение событий и на судьбы своих современников (как, например, известная семья московских купцов Алексеевых), то, мне кажется, ему сам Бог велит правдиво и объективно (хоть и воспринимая все, как правило, через свое «я», что, увы, неизбежно, написать о людях и событиях, с коими его столкнула жизнь, равно как и об атмосфере той, навсегда ушедшей в небытие эпохи. В основном я пишу о двух представителях семьи фабриканта и промышленника, потомственного почетного гражданина, коммерции советника Сергея Владимировича Алексеева: его дочери Любови Сергеевне (в замужествах Струве, Бостанжогло, Коргановой) и ее младшей сестре, моей матери, – Марии Сергеевне (в замужествах Олениной, Севастьяновой, известной как оперная певица под сценическим псевдонимом М. С. Аллина). Они мало известны в мемуарной литературе, а между тем обе были Личностями, и их жизни соприкасались с жизнями известных и уважаемых людей. Так как сам я младший сын Марии Сергеевны, родившийся накануне Первой империалистической войны, то начну писать с этого времени и до Отечественной войны 1941 года, когда их обеих, то есть тети Любы и моей мамы, не стало. О молодых годах моей матери мною написан очерк «Оперная певица Мария Сергеевна Аллина (Севастьянова)» и совместно с альбомами ее фотографий передан на хранение в архивы Музея МХАТ и Музея-квартиры Ф. И. Шаляпина. Конечно, мои воспоминания коснутся и других представителей рода Алексеевых, в том числе К. С. Станиславского и З. С. Соколовой из старшего поколения – поколения моей мамы, а также нас, ее детей, наших отцов, наших жен и мужей, маминых внуков – выходцев из старинного рода Алексеевых и косвенных его продолжателей. Я старался изложить все в хронологическом порядке, чтобы описываемые дни и события следовали строгой чередой, но, конечно, встречаются отступления, так что рассказ мой достаточно фрагментарен и ни в какой степени не претендует на полноту жизнеописания. Я и моя семья в дореволюционные годыЯ родился 3 октября (20 сентября по старому стилю) 1912 года в Москве, на Петровке, в доме страхового общества «Якорь», где у мамы была большая квартира, в которой жили все мои братья и сестры от ее двух предыдущих браков. Всего нас, детей, было у мамы семеро, я – самый младший. Несмотря на то, что родились мы от разных отцов, мы всегда относились друг к другу как родные. Мои родители были оперные певцы: мать – колоратурное сопрано, выступавшая под псевдонимом М. С. Аллина или иногда под фамилией второго мужа Севастьянова; отец, Балашов Степан Васильевич (1883—1966), – высокий лирический тенор. По происхождению отец считался сыном крестьянина Рязанской губернии, Зарайского уезда, Белоомутских волости и села, хотя его отец, мой дед Василий Захарович Балашов крестьянином как таковым не был, а работал кем-то вроде эконома у какого-то помещика, содержа на свое жалование семью – жену и восьмерых детей (шесть мальчиков и две девочки). Моя мать – Мария Сергеевна, урожденная Алексеева (1878—1942), была родной, самой младшей сестрой будущего Народного артиста СССР Константина Сергеевича Алексеева-Станиславского; семья их отца вела свое начало от крепостного крестьянина Ярославского уезда, бесфамильного Алексея Петрова сына (1724—1775). Первый и второй мужья нашей мамы – Петр Сергеевич Оленин (1870—1922) и Василий Сергеевич Севастьянов (1875—1929) тоже были оперными певцами и театральными деятелями, таким образом, нашу семью можно считать «насквозь театральной». В первый год моей жизни отец служил в театре Сергея Ивановича Зимина в Москве (в сезон 1912/13 годов), но в начале марта 1913 года дебютировал в заглавной партии оперы «Фауст» Ш. Гуно (Мефистофеля исполнял Ф. И. Шаляпин – это была их первая творческая встреча) в антрепризе Николая Николаевича Фигнера на сцене оперного театра Народного дома в Петербурге. Дебют прошел удачно, и Н. Н. Фигнер принял отца в труппу с сезона 1913—1914 годов. Это послужило причиной переезда маминой многодетной семьи из Москвы в Петербург (за исключением моей сестры Марины Олениной, которая училась в балетном училище Большого театра и осталась в Москве на попечении бывшей маминой гувернантки Лидии Егоровны Гольст). Таким образом, в возрасте нескольких месяцев я стал петербуржцем и вся моя дальнейшая жизнь, за исключением военных 1941—1944 годов, была связана с нежно и глубоко мною любимым Петербургом-Петроградом-Ленинградом, вплоть до конца 1977 года, когда, волею судьбы, я возвратился в Москву. Первую квартиру в Петербурге сняли в доме на углу Кронверкского проспекта и Съезжинской улицы, совсем близко от Народного дома, в котором отец служил в антрепризе Н. Н. Фигнера. Прожили мы там недолго и я, по малости лет, ее не помню. Только знаю по рассказам мамы, что в соседней квартире проживал симпатичный пожилой доктор, который любил заводить граммофон, и почти всегда звучала одна и та же пластинка – песня «Разлука ты разлука…» (у доктора жены не было), а слышимость в комнате, где находилась спальня моих родителей, была очень хорошая, и иногда отец стучал в стенку и кричал: «Доктор, пощадите, перемените пластинку, поставьте что-нибудь оперное». «Сейчас, сейчас поставлю» – кричал в ответ доктор и действительно менял пластинку. Познакомившись, родители стали приглашать его, если в семье кто-то заболевал, а иногда отец, когда ему нездоровилось, стучал в стенку и спрашивал совета у милого, любезного доктора, который сразу, через ту же стенку, давал свою консультацию. Затем мы переехали в дом № 19 по Съезжинской улице, заняв сначала две квартиры, № 5 и № 6, на втором и третьем этажах для нашей большой семьи с нянькой, экономкой и кухаркой. С течением времени за нами осталась только шестикомнатная квартира № 6 на третьем этаже, в которой мы прожили до апреля 1923 года. Так случилось, что последним театральным сезоном молодой певицы М. С. Аллиной (нашей мамы) оказался сезон 1911—1912 годов в московском Театре миниатюр, помещавшемся в Мамоновском переулке, ныне называющемся улицей Садовских. В этом здании теперь играет Московский ТЮЗ. Директрисой театра тогда была Мария Александровна Арцыбушева. В репертуаре были одноактные оперы Моцарта, Гретри и оперетты Адама, Оффенбаха, Делиба, Лекока… Но для одной из премьерш театра – оперной певицы М. С. Аллиной периодически включались также отдельные акты из «Травиаты» Верди, в которой певица исполняла одну из своих любимых партий, партию Виолетты. Ее партнером по репертуару и в партии Альфреда в «Травиате» стал молодой, только что принятый в театр тенор Степан Васильевич Балашов (будущий мой отец); до этого он выступал в концертах и был участником московского Кружка исторической музыки. До сезона 1911/12 годов М. С. Аллина уже успела спеть партию Микаэллы в опере «Кармен» Бизе в спектаклях, шедших на сцене консерватории в Санкт-Петербурге (1908 год), участвовала в Москве в гала-спектаклях, обычно дававшихся по повышенным расценкам в пользу малоимущих студентов; в этих спектаклях Мария Сергеевна исполняла партии Серполетты в оперетте «Корневильские колокола» Планкетта и Арсены в «Цыганском бароне» Штрауса, проходивших в сезонах 1906—1909 годов; Мария Сергеевна была участницей оперных сезонов 1909—1910 годов в Казани и Самаре, исполняла партии колоратурного сопрано в их обширном репертуаре, в том числе свои любимые партии Марфы в опере «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова, Людмилы в «Руслане и Людмила» М. И. Глинки, Виолетты в «Травиате» Дж. Верди, Маргариты в «Фаусте» Ш. Гуно и другие. В последующие годы, после моего рождения и переезда семьи в Петербург, мама выступала от случая к случаю. Потом судьба послала ей две неблагополучные беременности от моего отца, с преждевременными выкидышами. Я не помню, когда именно, был еще мал, но знаю, что после одной из них у мамы началось общее заражение крови (сепсис) и консилиум лучших петроградских докторов признал маму безнадежной, смертницей. Мама попросила вызвать из Москвы доктора П. Н. Яковлева, лечившего ее в прежние годы. Приехавший Яковлев пошел против мнения своих коллег и сказал больной, что будет лечить ее новым (кажется, английского производства) препаратом, еще мало испытанным в медицинской практике России, но обнадеживающим, который, возможно, на начальной стадии применения может даже вызвать ухудшение состояния. У мамы не было выхода, она согласилась, и, дав соответствующие указания, Яковлев возвратился в Москву. Через неделю у мамы наступило ухудшение, о чем доктор Яковлев был извещен телеграммой, и также телеграммой ответил: «Проболеете долго зпт останетесь живы». Так и случилось. Мама долго болела и за болезнь стала совсем седой, волосы ее сделались голубовато-белоснежными; было маме в это время года 33-34. Когда Мария Сергеевна поправилась, и на ее прекрасном молодом лице вновь появился румянец, друзья и знакомые стали называть ее Маркизой, так она была хороша. Мама рассказывала, что незадолго до этого страшного заболевания ей приснился сон, будто она стоит перед застекленной дверью и через стекло видит большой обеденный стол, за которым сидят родные, а во главе стола – ее мать, маманя Елизавета Васильевна; вдруг на мамину голову сверху стал спускаться большой паук (мама не любила и боялась пауков); он хотел вцепиться ей в голову, и все сидящие за столом от испуга ахнули, но маманя встала и, быстро схватив со стола тарелку, бросила ее в стекло двери, разбила его и попала в паука – тот рассыпался на куски, а маманя обратилась к сидящим за столом и спокойно произнесла: «Что вы испугались, я же сказала, что все будет хорошо». Я родился под трехцветным флагом российского самодержавия и прожил под ним пять первых детских лет, из которых только 1 год и 10 месяцев были мирными, затем началась Первая империалистическая война, естественно, сразу же сказавшаяся прямо или косвенно на судьбах всех людей, населявших, пока еще, великую царскую Российскую империю. Начавшаяся 14 августа 1914 года война сразу же отразилась и на нашей семье, и лично на мне – был мобилизован и уехал в действующую армию мой отец, мой любимый веселый, так хорошо певший папака. Служил он в 3-м парке тяжелой артиллерии, перемещавшемся по Галиции. Вскоре начались периодические отъезды мамы (моей мамаки) к отцу в действующую армию, под видом некоего Макара, денщика прапорщика Балашова; так как женщинам было запрещено появляться на фронтах, в целях маскировки мама наряжалась в мужскую военную форму. Мы, дети, остались на попечении няни Маши Киселевой и экономки, ведшей наше домашнее хозяйство, вдовы генерала Елизаветы Михайловны Сушковой или, попросту, тети Лизы, женщины высоченного роста и могучего телосложения, курившей папиросы и выпускающей дым широкими струями из широких ноздрей мясистого носа. Из-за войны затормозился бракоразводный процесс мамы с ее вторым мужем Василием Сергеевичем Севастьяновым, поэтому брак моего отца с мамой оставался гражданским, а я, в силу действующих церковных и гражданских законов Российской империи, должен был иметь фамилию и отчество по имени моего крестного отца – Василия Васильевича Балашова и, следовательно, прозываться Степаном Васильевичем Васильевым, а не Степаном Степановичем Балашовым. Вероятно, кто-то сказал мне об этом или поддразнил меня, научив (малое еще дитя), что моя фамилия Васильев; к тому же, видимо, была у меня врожденная привычка собирать все валявшееся, брошенное, за что меня прозвали Плюшкиным. И вот, слыша как взрослые говорят по телефону, и подражая им, я приставлял кулачок к уху и проговаривал следующую фразу: «Кто говорит?», «Васильев-Плюшкин», «Хорошо, прощайте!». Судьба воспрепятствовала тому, чтобы родители мои оформили свое супружество официально, мама так и не была разведена с В. С. Севастьяновым, несмотря на хлопоты в течение нескольких лет, чему, конечно, препятствовали и начавшаяся Первая империалистическая война, и последовавшие за ней в России Февральская и Октябрьская революции, принесшие стране нашей разруху, гражданскую войну, голод, террор, беззаконие, страх за судьбы своих близких и свою собственную судьбу. Однако под сенью красного с серпом и молотом знамени оказалось, что, как говорится, нет худа без добра! Когда пришло время отдавать меня в школу, мама залила (будто невзначай) чернилами страницу в своей трудкнижке[26], на которой я был вписан; мама сказала, что церковная метрика, выданная мне при крещении, утеряна, и тогда в школу меня записали с маминых слов, как Степу Балашова, сына известного певца академических оперных театров Петрограда Степана Васильевича Балашова. Выходит, я прожил жизнь не под своим формально законным именем. Большая половина детства, юность, годы обучения в советской школе, в советском высшем учебном заведении, первые годы работы инженером-прибористом, вхождения в гущу жизни пали на двадцатые и тридцатые годы, когда еще отголоски революционного подъема и веры, что мы должны жить и трудиться во имя светлого будущего последующих поколений в счастливом социалистическом обществе, которое должны строить вот теперь, своими руками, были очень сильны, а теория жестокой и неизбежной классовой борьбы неуклонно и систематически вбивалась в наши горячие, пылкие, все жадно впитывавшие молодые головы. Периодически появлялись в нашей жизни, в нашем быте, кратковременные свидетельства того, что жизнь в стране налаживается, улучшается. Первым, наиболее ярким доказательством было введение НЭПа. До революции, когда мы жили на Съезжинской улице в доме № 19, семья насчитывала, кроме нашей мамы и моего отца, шестерых детей[27], няню Машу Киселеву, экономку тетю Лизу Сушкову, периодически подолгу живших у нас прапорщика Саню Киселева – племянника няни Маши, мамину постоянную портниху (приезжавшую из Москвы) Настю Карулину а так как дом наш всегда отличался гостеприимством, то нередко жили у нас по несколько дней и друг семьи, холостяк Гаррик Мелик-Пашаев, и товарищи моих старших братьев по гимназии: Коля Шеповальников, Миша Дубинчик, Коля Гренц, Жорж Качуев. Из Москвы часто приезжал двоюродный брат моего отца Саша Черкасов; засиживались допоздна и оставались ночевать артисты – сослуживцы отца по Народному дому. На ночь для гостей застилались бельем все диваны, кресла, стащенные с кроватей на пол тюфяки, и, когда места в комнатах все равно кому-нибудь не хватало, даже накрывали досками ванну и устраивали импровизированную кровать. Жили весело и широко. Молодые люди влюблялись и ухаживали за хорошенькой сестрой Аллой, которой хоть и было еще лет 12-14, но выглядела она уже барышней, да еще и отличалась незаурядным поэтическим даром. Однажды какие-то ее стихи услышал Леонид Витальевич Собинов и попросил их у Аллы, чтобы положить на музыку, но автор не дала согласия, и говорили, что Леонид Витальевич даже попытался похитить на время тетрадку со стихами. Старшие дети часто ходили на спектакли в Народный дом, где служил мой отец и часто гастролировали Федор Иванович Шаляпин и Лидия Яковлевна Липковская, а также в Музыкальную драму в которой одним из директоров был отец Аллы, Коти и Тисы Василий Сергеевич Севастьянов. Братья Женя и Сережа с раннего детства увлекались теннисом, благо свой корт был в подмосковной усадьбе Алексеевых, Любимовке, где дети проводили лето. Сережа настолько хорошо играл, что в возрасте 12 лет обыграл чемпиона Финляндии, и судейской коллегии пришлось спасать мальчишку и присматривать за ним, так как финляндский чемпион не мог смириться с горечью поражения и грозился своего «обидчика» зарезать. Вся семейная богема была полна и жила театром, главным образом оперным и, конечно, Московским художественным – «театром дяди Кости», жадно прислушиваясь ко всему, что касалось этого театра. Сережа хорошо играл на пианино и хотел поступать в консерваторию, но его отец, Петр Сергеевич Оленин, настоял на том, чтобы он прежде закончил гимназию. А учились все плохо – до ученья ли было, когда интерес всех был в театре: Сережа проигрывал клавиры опер, а остальные наизусть пели все партии из «Кармен», «Пиковой дамы», «Риголетто» и других опер. Когда приходили гости, устраивались домашние концерты; на них Сережа аккомпанировал маме и моему отцу, который в те годы кроме оперных партий увлекался романсами Рахманинова и Глиэра. Но одним из его коронных номеров был романс Гречанинова «Сирена»; могу сказать с совершенно чистой совестью, что лучшего исполнения этого романса ни по темпераменту, ни по звуковедению за всю свою жизнь я ни у кого не слышал – оно просто «захлестывало» слушателя. Мама часто пела романс «Цыганка» Доницетти, арии из «Травиаты», «Жизни за царя» (Антонида), «Руслана и Людмилы» (Людмила), романс Чайковского «Страшная минута», «Колыбельную» Годара и другое. В этот период жизни семьи за стол садились 15-20 человек, и моя совсем еще детская память прочно запечатлела, как перед каждым прибором ставилась по утрам банка сгущенного молока, а сливочное масло подавалось в виде скатанных шариков диаметром 10-12 мм, которые мне очень нравились и по виду, и по вкусу. Запомнился мне с тех лет на долгие годы и вкус спаржи, которую я тоже очень любил, и когда в 1973 году мне довелось побывать в Югославии, первое, что я заказал себе на завтрак, была спаржа, но она оказалась совсем другой, мелкой и какой-то безвкусной – полное разочарование! В возрасте трех с половиной – четырех лет меня впервые в жизни взяли в театр, в Народный дом, на спектакль «Евгений Онегин», в котором Ленского пел отец. Сам я этого не помню, а по рассказам знаю, что по наущению кого-то из домашних шутников после исполнения куплетов месье Трике я захлопал в ладошки и громко закричал: «Браво, браво, месье Трикешка…». А вот посещение спектакля «Севильский цирюльник» в том же Народном доме, примерно в том же возрасте, в целом я помню хотя и смутно, но довольно ярко запомнилась вспышка детской ревности – в тот момент, когда граф Альмавива (которого пел мой отец) поцеловал руку Розине (ее, помнится, пела Р. Г. Горская) я, негодуя, закричал: «Ах ты, паршивец!» – «паршивцем» бранил меня отец в минуты, когда бывал мною недоволен. «Риголетто» и «Севильский цирюльник» сопровождали меня всю жизнь, а полюбил я эти оперы с самого раннего детства, так как арии и дуэты из них часто пелись дома моими родителями. Конечно, я воображал себя и герцогом Мантуанским, и графом Альмавивой, и даже в нежном возрасте четырех лет впервые в жизни ощутил некое чувство, похожее на влюбленность, к моей «первой Розине» – певице Марии Дмитриевне Турчаниновой, партнерше отца, бывавшей у нас в доме; вспоминается, как однажды, стоя полураздетым няней в моей детской кроватке (с надетыми сетками по ее бокам, чтобы я не вывалился во сне на пол), я что-то пытался «спеть дуэтом» с подошедшей ко мне «моей Розиной»[28]. Мои первые детские воспоминания начинаются с трех с половиной – четырех лет, и, как это ни странным может показаться в таком возрасте, связаны с оперным театром, которым была пропитана вся наша семья. Смутно помню маму, аккомпанирующую на пианино[29] распевающемуся или разучивающему партию отцу, при этом, если идет дуэт, мама ему подпевает, или же они оба репетируют прежний дуэт, чаще всего из «Травиаты» или «Риголетто» Верди. Иной раз они пели арии и дуэты из оперетт, в которых вместе выступали в московском Театре миниатюр в сезоне 1911—1912 годов, когда, собственно, и начался их роман, хотя отец приметил маму еще лет за пять до того, как они познакомились. Отец мой, Степан Васильевич Балашов, был интересный шатен с курчавой головой, веселый и остроумный, обладавший великолепным лирическим, мужественным тенором; поклонниц у него и в жизни, и в театре была масса, по натуре же он был человек компанейский и увлекающийся, например, мог забыться за игрой на бильярде и по трое суток не приходить домой, не помня о времени и необходимости предупредить своих близких о том, где он находится; он любил живопись, коллекционировал открытки и марки и, бывало, просиживал ночи напролет, занимаясь своей довольно солидной коллекцией, – мама даже ревновала его к маркам, ей казалось, что за этим занятием отец забывает о ней. Отец самым серьезным образом был увлечен своей обожаемой певческой работой, ежедневно подолгу занимался пением, вокализами и разучиванием партий или романсов, дыхательной гимнастикой и с годами вырос в первоклассного вокалиста. Так как папа был красив, обаятелен, приветлив и, как правило, всегда весел, женщины «вешались на него гроздьями» и, конечно, какой-нибудь из них он в конце концов увлекался и сам; он шутил: «Как можно не ответить на чувства прекрасной женщины, ведь я же джентльмен!». Понятно, что беззаветно любившая моего отца мама постоянно его к кому-то ревновала и, надо сказать, бывало, что и не зря: к сожалению, отец, часто бездумно, давал для этого поводы. Поэтому жизнь мамы превращалась в муку, сопровождалась ссорами и сценами ревности, которые в какой-то степени отражались на всей семье и, конечно, по мере моего взросления, на мне. При всем при том отец мой был отзывчивый и добрый, совсем не жадный, готовый помочь даже незнакомому человеку, попавшему в беду. Но к близким ему женщинам он бывал жесток, так как в юные годы ему довелось пережить личную душевную драму, ожесточившую его против прекрасного пола человеческого. Однако вернемся к моим воспоминаниям раннего детства. От природы у меня был неплохой слух, Бог одарил меня певческим голосом (который я не уберег, к сожалению); я стал довольно рано запоминать и напевать арии и романсы, которые слышал дома, беря все высокие ноты. Отец даже рассказывал, что когда он разучивал трудную, местами очень высокую партию Звездочета в «Золотом петушке» Римского-Корсакова (кстати, в ней отец дебютировал в 1919 году в Мариинском театре и был принят в труппу), ему долго не удавалось нащупать, как брать высокую ноту (насколько я помню, ре диез третьей октавы) в конце ответа Звездочета царю Додону: Я, признаться, не горяч И, якобы, однажды я ему сказал (мне тогда было лет пять): «Папака, вот как надо», и спел ему эту высокую ноту; уловив мою манеру, отец, наконец, тоже взял эту трудную ноту уже несколько раз подряд и потом пел всю партию Звездочета, как было написано в клавире, без транспонировки высоких нот. О мамином втором муже Василии Сергеевиче Севастьянове в моей детской голове сложилось впечатление как о человеке скорее враждебном маме и нашей семье, несмотря на то, что он был отцом некоторых ее детей, как о человеке, от которого можно было ожидать всего самого неожиданного, непредсказуемого, неприятного, о чем я слышал разговоры взрослых, плохо понимая, о чем конкретно идет речь. Теперь, сопоставляя события давно минувших дней, я думаю, что дело обстояло следующим образом. С юристом велись переговоры о бракоразводном процессе мамы с Василием Сергеевичем. Очевидно, он продолжал любить маму, любил детей и был к ним привязан и, возможно, не давал согласия на расторжение брака или ставил какие-то условия, не устраивавшие маму. А тут еще так случилось, что мой отец в 1915 году приезжал в Петербург с фронта в краткосрочный отпуск; соскучившись по любимой профессии, по сцене, по театру, он позволил себе спеть в Народном доме какой-то спектакль (скорее всего, это был или «Фауст», или «Евгений Онегин», или «Севильский цирюльник») без упоминания его фамилии в афише спектакля, так как существовал закон, запрещающий офицерам (а отец был прапорщиком) выступать на сцене. Сразу после выступления отец был задержан военным патрулем и увезен в городскую комендатуру на Садовой улице, где был посажен под арест; над ним нависла угроза военного суда, с отправкой в штрафной батальон. Кто же мог донести в комендатуру, что прапорщик Балашов С. В. поет в Народном доме спектакль? Подозрение пало на Василия Сергеевича Севастьянова, возможно, решившего свести счеты со счастливым соперником, разлучившим его с любимой женой и матерью его детей. Так ли это было на самом деле, я не знаю… После тщательных хлопот отца удалось освободить из-под ареста и от суда, и он уехал на фронт в свою артиллерийскую часть. Подозрение же, что донес Василий Сергеевич, так и осталось, поэтому мама опасалась и других враждебных поступков с его стороны. В какой-то мере это оправдалось, когда в 1918 году Василий Сергеевич, без согласия Марии Сергеевны, тайком увез на юг дочь Таисию (Тису), которой было тогда около семи лет. Я вполне могу понять возможную ревность и неприязнь Василия Сергеевича Севастьянова к моему отцу, якобы разбившему его семейную жизнь и разлучившего с любимой женой. Но, право, Василий Сергеевич ошибался: не Степан Васильевич явился причиной краха его отношений с Марией Сергеевной. Еще до знакомства моей мамы с отцом (во второй половине 1911 года), у нее уже случались серьезные увлечения, ей было около тридцати лет – возраст полного расцвета женщины; она была красива, обаятельна, темпераментна (как все сестры Алексеевы), талантлива, беспечна и, вероятно, склонна к романтике, а мужчин вокруг нее, и красивых, и талантливых, умных и содержательных, как, например, Александр Алексеевич Остужев, Леонид Миронович Леонидов – великих русских актеров, певцов, дирижеров, художников, всегда было много. Но тогда, в возрасте четырех лет, я не понимал, почему подаренный мне (кем-то из старших братьев или сестер) от имени Василия Сергеевича Севастьянова большой игрушечный желтый трамвай, о котором можно было только мечтать (я обожал трамваи, как всякий мальчишка обожает машины своего времени), и от одного вида которого душа моя затрепетала и наполнилась благодарностью, почему эту желанную игрушку у меня очень скоро отобрали, по той причине (как я понял), что этот трамвай может таить какой-то подвох, способный мне навредить?! Чем и почему навредить, я, конечно, не понял, но лишиться великолепного, почти всамделишного трамвая мне было обидно и жалко! Последним летом, проведенным детьми Марии Сергеевны в подмосковной усадьбе Алексеевых Любимовка, стало лето 1917 года. К этому времени мой старший брат Женя Оленин оказался на фронте Первой империалистической войны; и так не отличаясь крепким здоровьем, он перенес гнойный плеврит и резекцию ребра, и его, кажется, мобилизовали санитаром в поезд-госпиталь, который назывался «Артист – Солдату» (будучи от природы очень талантливым, с буйной фантазией, Женя в 1916 году, без специальной актерской подготовки стал артистом Московского драматического театра). Незадолго до отправки на фронт Женя прислал своему отчиму Степану Васильевичу в Петроград следующее письмо, написанное на своей фотографии-открытке в гриме и костюме Пьеро из спектакля «Тот, кто получает пощечины»:
Покончивший с Театром музыкальной драмы в Петрограде Василий Сергеевич Севастьянов собирался держать в Одессе сезон 1918/19 годов и направлялся туда со своей гражданской женой, певицей Адой Владимировной Поляковой. Видимо, в конце лета 1918 года состоялась его встреча с Марией Сергеевной на квартире ее сестры Любови Сергеевны Коргановой, на Тверском бульваре, д. 9, кв. 21. Василий Сергеевич хотел забрать детей с собой, просил маму отпустить их. Мама ответила, что дети пусть сами решают, с кем они хотят быть. Тогда Ляля (Алла Севастьянова) решила остаться с матерью, а Котя (Герман Севастьянов) – ехать с отцом в Одессу. Но кроме Коти Василий Сергеевич увез с собой еще и дочь Тису (Таисию), – как я уже ранее сказал, без согласия на то нашей матери. В это время сестра Марина Оленина заканчивала балетное училище Большого театра в Москве. Она и брат Сергей Оленин решили поехать, на свой страх и риск, к югу от Москвы с концертами, подзаработать, но их настигла начавшаяся гражданская война. Сережа подался на сторону «красных», вскоре был ранен, и под Белгородом, в селе Шебекино, ему ампутировали ногу[31]. Марина влюбилась в царского офицера, вышла за него замуж и родила дочку, но при наступлении «красных» муж их бросил. Девочка вскоре скончалась; Марина страшно бедствовала. После Октябрьской революцииКрасновато-желто-оранжевые отблески огня и неопределенная, колеблющаяся тень головы и плеч прыгали по когда-то белой, а ныне грязноватой, закопченной стене погруженной в полный мрак большой кухни, посередине которой, перед небольшой круглой железной печкой (получившей от обывателей название «буржуйки») со стоящим на ее конфорке чайником, сидела маленькая фигурка мальчика лет шести-семи. Спина и плечи его были закутаны в шерстяную синюю тальму на красной подкладке, которую маленький ее обладатель называл «Фырфыркой»; тальма была уже далеко не новая и становилась коротковатой, а прозвище «Фырфырка» получила от своего маленького хозяина, когда впервые мама и няня облачили его в тальмочку, и кто-то из них сказал: «Посмотри в зеркало, какой ты красивый и расфуфыренный, прямо как генерал на красной подкладке!» Видимо, непонятное, но понравившееся слово «расфуфыренный» обрело своеобразное преломление, и маленький обладатель тальмы стал называть ее «Фырфыркой». Уже много дней, как только за окнами темнело, в квартире наступала кромешная тьма; – электричества не было впрочем, как и воды в кране – шла холодная и голодная зима 1918-19 годов. Сначала освещались стеариновыми свечами, сохранившимися с дореволюционного времени, керосиновыми лампами, пока удавалось достать керосин, а позднее коптилками – фитильками, пропущенными через трубочку на легкой перекладинке, опущенными в маленькую баночку с керосином или каким-нибудь жидким минеральным, машинным или даже конопляным маслом. Кафельные (изразцовые) печи нашей шестикомнатной квартиры давно уже бездействовали; холод царил невероятный, в иной день даже хуже, чем на улице. Жили, сгрудившись все в одну комнату, бывшую детскую, в которой стояла круглая железная печь, ее легче было натопить, чем кафельную. Когда дрова кончались, отапливались тем, что было под рукой и могло гореть, включая мебель. Впрочем, в городе властями организовывалась разборка (слом) деревянных домов силами населения. Доски и даже балки сразу же растаскивались по квартирам теми, кто был посмелее, а в целом все разобранное дерево складывалось вместе и потом, по какой-то норме, раздавалось населению по ордерам. Сидевший перед «буржуйкой» малыш периодически подкладывал заранее наколотые щепки и изредка попадавшиеся среди них небольшие полешки, помешивал кочергой в печке и терпеливо ждал, когда закипит чайник, и мама заварит «кухаркин» фруктовоягодный чай, продававшийся раньше в виде плиток, завернутых в бумажную цветастую обертку. Бывало, собираясь по вечерам на кухне, этот чай любили пить кухарка, горничная и иногда няня Маша. Настоящий (так сказать, «барский» чай) давно уже был выпит. Через какое-то время водопровод и канализация замерзали, в летнее время вновь начинали работать, зимой же опять промерзали; наконец трубы разорвало, из ванной комнаты протекла по коридору вода, залившая и вход в кухню. С 1919 года так продолжалось три или четыре зимы кряду. Однако люди не теряли врожденного юмора и надежды на лучшее будущее, помогавшие переносить тяготы и неудобства, голод и холод послереволюционных лет. Так ли, сяк ли, несмотря на все трудности, жизнь продолжалась, родители работали, играли на пианино и учили играть нас, детей, писали стихи и письма в стихах, как это давно повелось в семье Алексеевых, всячески тянулись к искусству, продолжали жить интересами театра. Мой отец Степан Васильевич Балашов, поступивший с сезона 1919 года в Мариинку, с утра до ночи был занят на репетициях и спектаклях. Он переживал расцвет творческих сил, и за ним вечно бегал «хвост» поклонниц, часть которых приходила и к нам домой; среди них оказалась Клавдия Гавриловна Потапова (получившая прозвище Клёш[32]), знакомая по гимназии с моей сестрой Аллой. Как и большинство актеров, отца мобилизовали в военизированную дружину по охране театра, и кроме своей прямой работы певца-солиста он должен был нести какие-то дежурства. Подобно многим другим в то время он ходил в черной кожаной тужурке полувоенного покроя. Помимо работы в театре, отец много ездил по заводам, фабрикам, казармам, каким-то зрелищным заведениям на так называемые «халтуры» – пел в концертах и спектаклях, которые чаще всего оплачивались продуктами: сахаром, мукой, селедками, воблой, конопляным и даже машинным (у железнодорожников) маслом. Между тем цены росли, а покупательная способность денег неукоснительно падала; продуктов от пайков и халтур отца явно не хватало для семьи. Мы продолжали менять и продавать вещи, все что только можно было, чтобы не умереть с голоду. Появившаяся масса спекулянтов (городских и деревенских) скупала за гроши и выменивали на продукты у населения драгоценности, золото, серебро, а новая большевистская власть производила массовые обыски и реквизировала все без разбора «на нужды революции». Вскоре от маминых драгоценностей и столового серебра ничего не осталось и она одна или с помощью детей вынуждена была по утрам таскать на Сытный или Центральный рынки вещи, раскладывать их на тряпке прямо на земле и торговать ими. Конечно, сначала продавались вещи, казавшиеся менее нужными, потом же сбывалось все подряд за гроши мелким спекулянтам, лихо наживавшимся на «гнилой интеллигенции» и «буржуазии». По утрам мы смотрели во двор и прислушивались, не кричат ли там: «Халат, халат!», то есть не появился ли кто из «князей-татар», скупщиков вещей, приглашали их к себе и «спускали» им все, что еще так ли, сяк ли можно было продать, чтобы продержаться. Потом пришло время, когда ничего более или менее ценного в доме не осталось, кроме золотой цепочки от часов моего отца, которую он никогда не носил, но мама приберегала на «черный день» полного безденежья, так как ее всегда можно было заложить в ломбард. Как мы с мамой съездили…Когда мама получила известие о том, что Сереже ампутировали ногу в каком-то захолустном селе Шебекино под Белгородом, а было это, помнится, осенью 1918 года, она быстро собралась и, прихватив меня с собой (так как оставить меня, шестилетнего, было не на кого), на последние имевшиеся деньги выехала к нему. Как свойственно всем Алексеевым, багажа оказалось немало; мама взяла носильные вещи для меня, себя и Сережи, так как ехали мы на неопределенный срок, по существу – в неизвестность. Но доехать до Сережи нам не было суждено. Перебравшись в Москве на извозчике с Николаевского вокзала (с Каланчевской площади) на Курский, мы увидели, что там все углы забиты толпами немытых, небритых, грязных людей, беспорядочно сидящих и лежащих на узлах, мешках, баулах, корзинках и видимо, уже много дней, жаждущих попасть на тот или иной поезд дальнего следования. Многие были в солдатских шинелях. Среди всей этой серой неопрятной толпы шныряли вездесущие цыгане и беспризорники. С трудом найдя в одном из залов вокзала небольшое, более или менее свободное место (где носильщик и опустил наш багаж, слегка потеснив соседей), мама стала спрашивать случайно оказавшихся рядом людей, каково положение с поездами и где можно прокомпостировать железнодорожные билеты. Очевидно, ничего вразумительного и определенного никто ей не сказал, все пребывали в одинаковом незнании. Побоявшись оставить меня одного, мама попросила соседей присмотреть за нашим багажом, взяла меня за руку, и мы пошли наводить справки у работников вокзала, с трудом продираясь сквозь шумевшую, галдящую толпу. Долго ли мы ходили, с кем удалось маме поговорить и что узнать, я, по малости лет, не помню, но когда мы вернулись туда, где оставили наши вещи, их не оказалось, как и кого-то из прежних соседей; на их и нашем месте сидели другие люди, которые сказали, что ничего не видели, ничего не знают… Так мы с мамой оказались лишь в том, что было на нас надето, без вещей и без денег. He оставалось ничего другого, как идти к тете Любе (маминой сестре Любови Сергеевне Коргановой) на Тверской бульвар, просить ее приютить нас на время. Выйдя из Курского вокзала, мы тихо побрели по булыжной привокзальной площади – видимо, мама прикидывала, хватит ли у нее оставшихся денег на извозчика или же нужно спросить, как можно доехать на трамвае. Как мы добрались до тети Любы – не помню. Пожалуй, в описываемое время тетя Люба была для мамы самой близкой сестрой. Тетя Люба и ее муж Алексей Дмитриевич Очкин (уже известный хирург) встретили нас радушно. Надо было как-то выходить из создавшегося положения, и через несколько дней мы с мамой отправились к другой маминой сестре, Анне Сергеевне Штекер-Красюк, жившей в Комаровке, за Любимовкой. Вероятно, нас сопровождал Игорь Алексеев[33] – то ли он специально приехал помогать маме, то ли случайно оказался в Комаровке, я не знаю, не помню. Как добирались до Любимовки, тоже не помню, но тогда была лишь одна возможность – ехать с Ярославского вокзала до платформы Тарасовка, а от нее пешком или на извозчике три версты до Любимовки, от которой до Комаровки еще одна верста. Видимо, в то время Любимовку еще официально не национализировали, поскольку все строения усадьбы были заперты и пока что не разворованы. Maма поехала прямо к сестре Нюше повидаться с ней и ее домочадцами, затем хотела пройти из Комаровки в Любимовку, на дачу (в бывший Театральный флигель времен «Алексеевского кружка»), чтобы забрать оставшиеся с дореволюционного времени вещи, которые можно было бы продать в Москве на Сухаревке и, таким образом, добыть денег. Кажется, у тети Нюши все засиделись до сумерек, и у меня осталось в памяти, как уже в темноте мама, Игорь, несший меня на закорках, и еще кто-то шли из Комаровки по Новой дорожке в Любимовку; я трусил в темноте и ворчал: «Что же это такое? Ночью в лес несут…» Смутно помню Любимовку, погруженную в темноту, помню, как свернули с Новой дорожки на Любимовский двор, пересекли его и при тусклом свете чьего-то ручного фонаря, сгрудившись на главной террасе, отпирали дверь, как вошли затем в бывший театральный зал с двумя ярусами темных в это вечернее время окон по одной стене – на первом и втором этажах. Слева от входной двери виднелась довольно широкая, витая лестница, ведущая на второй этаж, к двери внутрь дачи. На первом этаже, за этой лестницей, почему-то мне запомнился рояль, потом в разных местах зала, несколько (два, три) стульев, а на противоположной стене от входа с террасы, наискосок справа (в сторону бывшей сцены) – дверь, за которой по всей длине дачи тянулся коридор. Аналогичный коридор был и на втором этаже, за стенкой двухсветного театрального зала. В бывшем театральном зале оказалась знаменитая любимовская игрушка, запомнившаяся мне на всю жизнь, – довольно большая лошадь, раскачивавшаяся на шарнирах и пружинах вперед и назад, имитируя скачку. Конечно, меня посадили на эту замечательную лошадь и дали немного «поскакать», но все торопились и, при блеклом свете ручного фонаря, отправились в какие-то комнаты к сундукам, где хранились детские и взрослые еще новые, неношеные и старые вещи, стали их просматривать, отбирать и связывать в узлы. Потом осталось в памяти, что кто-то (вероятно, Игорь) пошел через двор вправо от маминой дачи в какой-то сарай или галерею – может быть, в галерею бабушкиной и дедушкиной дачи (той, которую теперь называют «дом с ушами»), – а остальные остались ждать его в темноте; этот «кто-то» быстро вернулся, сказав: «Там только театральные вещи». Что было дальше, как возвращались в Комаровку, не помню, – вероятно, по малости лет, да еще в темноте, я заснул и меня несли спящего. Как возвращались затем в Москву, к тете Любе, также не помню. Но вспоминается, что в последующие дни мама стала уходить из дома на несколько часов – ездила на Сухаревку продавать привезенные из Любимовки вещи. Потом помню, что возвращались мы в Петроград почему-то с довольно длительными задержками в пути, и поезд наш пришел не на Николаевский (ныне Московский) вокзал, как ему полагалось, а на Финляндский. Трамваи почему-то не ходили, и мы с мамой, нагруженной привезенными из Москвы вещами, медленно шли на Петроградскую сторону пешком, через Самсоньевский мост (ныне мост Свободы), далее по Вульфовой улице до Каменоостровского проспекта, по Большой Пушкарской, к нам – на Съезжинскую улицу. 1920 годВесна и лето 1920 года выдались на удивление жаркими. Мой отец, которому 3 апреля (по новому стилю) минуло 37 лет, был в расцвете своих сил и певческого таланта; недавно принятый в труппу Мариинского театра, по рекомендации много с ним певшего Ф. И. Шаляпина, он все увереннее начинал входить в репертуар Академических оперных театров Петрограда, где требовался лирический тенор, все увереннее занимал положение ведущего исполнителя, в особенности в репертуаре Театра комической оперы, как тогда называли Михайловский театр, являвшийся филиалом Мариинки. Отец пользовался большим успехом у дам. На одном из спектаклей группа поклонниц преподнесла ему большую корзину с кустиками лиловой и белой сирени, поступившую затем в мое полное владение; тогда я стал «разводить сад» на подоконнике небольшой комнаты, в которой прежде жила прислуга, с окном, выходящим на юго-запад, внутрь типичного для домов Петрограда двора-колодца. Насколько я помню, кроме корзины с великолепной сиренью у меня были горшочки с розовыми и белыми маргаритками, столь характерными для общественных садов того времени. После жарких весны и лета пришли короткая осень и ранняя зима – помню совершенно отчетливо, что 20 сентября (это день моего рождения по старому стилю, а к новому стилю мы все только еще привыкали) выпал первый обильный снег, а мама и я лежали в постелях в бывшей детской, болея сыпным тифом. Ухаживать за нами было некому; отец, естественно, боялся заразиться, да он и занят был с утра до позднего вечера в театре и на «халтурах». Пренебрегать ими было невыгодно, население Петрограда снабжалось городскими властями очень скудно, кормить же семью следовало; любимая же мамина дочь, Алла Севастьянова, училась в театральной студии Леонида Сергеевича Вивьена и Николая Николаевича Арбатова при Народном доме и жила в студенческом общежитии. С риском заболеть самой, маму и меня стала выхаживать поклонница отца (в недалеком прошлом соученица Аллы по гимназии) семнадцатилетняя Клавдия Гавриловна Потапова. С этого времени она постепенно стала все более сближаться с нашей семьей и в конце концов сделалась полностью своим человеком. В Петрограде шли повальные обыски в квартирах интеллигентных семей, искали и реквизировали царские золотые монеты, золотые и другие украшения, бриллианты, столовое и прочее серебро. Оставшиеся «не съеденными» в 1918—1919 годы драгоценные вещи больная мама, лежа в постели, зашила внутрь моей игрушки – белой лохматой заводной собачки, передвигавшейся на колесиках, закрепленных на каждой лапе. Собачку положили мне в кровать. Когда «товарищи» пришли к нам с обыском, то, обнаружив двух сыпнотифозных больных, только прошли через комнату, не обратив внимания на лежавшую в кровати ребенка игрушку. В октябре или ноябре 1920 года из детского дома-приюта в Екатеринодаре (Краснодаре) неожиданно приехала сестра Тиса, наголо остриженная, в неряшливом неопределенного темного цвета платьице, все личико в рыжих веснушках, с простуженным вечно мокрым носиком-сапожком. В этом вызывавшем жалость ребенке было трудно узнать ту девочку-куколку с длинными вьющимися локонами, какой она была несколько лет назад. На маленькую Тису (ей было всего 10 лет) сразу навалились заботы по дому, хождение в магазины, позднее – на рынки, и постепенно Тиса сделалась кем-то вроде девочки на побегушках. Голод не тётка!К 1920-21 годам в Петрограде сложилось такое положение с продовольствием, что власти население уже практически ничем не снабжали, остались отдельные частные магазины хоть что-то еще продававшие, например, кофе «Мокко», сушеную воблу. Город был полон своими и заезжими оборотистыми спекулянтами, сновавшими по ближайшим провинциальным городам, селам и деревням, выменивая на вещи или скупая за деньги продукты. А перевезя их в Петроград продавали населению втридорога. Всегда сплоченные, хорошо организованные, инициативные евреи стали открывать общественные столовые дли своих соплеменников, но, конечно, подкармливали и русских. Готовили, как говорится, не Бог весть что, но вполне удобоваримое после практически несъедобной дуранды, каковой снабжало население государство; это чаще всего были форшмаки из селедки и супы на рыбьих (тоже, вероятно, селедочных) головах. В этих условиях городские власти через партийно-профсоюзные органы на заводах, фабриках и в учреждениях стали разрешать поездки в провинцию на рынки, базары для закупки и обмена на вещи продовольствия у крестьян и прочих местных жителей; таким образом питерским горожанам удавалось добыть муки, пшена или, если повезет, гречки, мяса, творога и масла – о чем в полуголодном Питере можно было только мечтать! Для таких поездок организовывались специальные поезда – продовольственные эшелоны, в которые можно было попасть строго по специальному документу, называемому провизионкой. Провизионки всегда выдавались только на одно лицо с указанием фамилии, имени и отчества едущего в эшелоне и, кажется, с указанием года рождения а также наименования учреждения, выдавшего сей документ. Эшелоны обычно формировались из вагонов пригородных составов, реже – товарных, оборудованных нарами. Места, конечно, нумерованы не были и занимались отъезжавшими счастливчиками «с боем», народу набивалось до отказа, и нужно было считать за удачу, если удавалось занять третью багажную полку в пассажирском вагоне, на которой можно вытянуть ноги и задремать. Обычно люди объединялись по двое-трое, чтобы пробиться в вагон при посадке и успеть занять для всех места поприличнее, а также для того чтобы следить за вещами, оберегая их от многочисленных воров, и оберегать места своих партнеров, временно куда-либо отошедших. Когда эшелон останавливался на промежуточных станциях, многие устремлялись на перрон, спеша успеть купить что-нибудь у местных жителей, выносивших к поезду пирожки с кашей, картошкой, морковью, грибами, а также овощи и, изредка, соленое сало. Все торопились, поскольку времени остановки никто не знал, и эшелон мог тронуться в любую секунду. Когда поезд возвращался в Петроград, производилась повальная проверка провизионок с дотошным допросом касательно всех означенных в них данных – вылавливали спекулянтов и лиц, едущих по чужим документам. Простым питерским жителям провизионок не выдавали, но, конечно, находились «обходные пути» – люди, имевшие доступ к оформлению и выдаче разрешений, тоже не зевали, оформляли и выдавали провизионки по знакомству или «за мзду». Чаще всего приходилось ездить под чужой фамилией. Если при проверке данных обнаруживался подлог, продукты отбирались, а человека арестовывали до выяснения личности. Мама и Сережа с риском быть задержанными несколько раз ездили за продуктами в Бежецк по чужим провизионкам, при этом приходилось заучивать наизусть все указанные в них данные и, по возможности, любые дополнительные сведения о лице, по документам которого они ехали. В такие поездки приходилось и одеваться соответственно тому, что гласил документ. Воспоминания сохранили и смешные, и печальные случаи. Сереже, инвалиду с одной ногой, было трудно слезать со второй или третьей полки, он больше смотрел за вещами и за тем, чтобы не заняли мамино место, когда она отлучалась. А отлучаться ей приходилось довольно часто – то на остановках эшелона, купить пирожков, добыть кипятку; то по естественной надобности, то под потолком вагона на верхней полке становилось слишком душно. Тогда женщины брюк не носили, мама была в юбке. И вот однажды, сидевшие на нижних местах мужики начали ей кричать: «Перестань ты шастать туды-сюды, надоело нам твою панораму глядеть!» Другой раз, выскочив на перрон и стараясь скорее купить пирожки, мама, наслушавшись звучавшего кругом народного говора, закричала Сереже в окошке вагона: «Говори скорее, с чем тебе? С кашам, аль с грибам?» В одну из поездок маме с Сережей подвезло – им удалось сторговать за сходную цену целую баранью тушу, но везти ее было не в чем: требовались мешок или рогожа, чтобы ее укрыть, не вывалять за дорогу в грязи. Мешок удалось купить, в него тяжелого барана и засунули. Благополучно прибыв домой, наши «купцы» похвастались своей удачей, а когда общими усилиями извлекли добычу из мешка, она, к общему огорчению и даже ужасу, оказалась грязно-коричневого цвета. Все подумали, что за дорогу домой мясо протухло! По счастью, нет – просто мешок был из-под цикория… В большом оцинкованном корыте, общими усилиями мы старались отмыть жирную тушу да не тут-то было: до товарного вида баран никак не отмывался, и намерение Сережи «спекульнуть на редком товаре, чтобы хоть частично оправдать расходы» оказалось невыполнимым. К общему семейному удовольствию злополучного барана пришлось съесть самим. Выгрузка из эшелона с привезенными драгоценными продуктами всегда проходила на нервах – приходилось зорко смотреть, чтобы шныряющее вокруг ворье чего-нибудь не утащило из-под носа! Нужно было найти и нанять человека, который бы поднес кули и корзины к трамвайной остановке и помог погрузиться в вагон со всем скарбом, а в идеальном варианте – согласился бы поехать с вами и дотащить все тяжести до дома. Вот еще почему по провизионкам ездили как минимум вдвоем! Все это требовало большей нервной и физической выносливости. Как-то маме подвезло купить две или три сотни яиц, которые она бережно уложила в плетеную корзину размером с не очень большой чемодан. В вагонной толчее всю трудную дорогу мама всячески оберегала свою корзину с хрупким товаром и, когда в Петрограде на вокзале наняла мужика, чтобы тот помог довезти все покупки до дома, просила его особенно быть осторожным с этой корзиной, с яйцами. Мужик оказался то ли рассеянным, то ли не понял, о чем просила нанявшая его тетка, только, дойдя до трамвайной остановки, сбросил с плеч тяжелые вещи и, отдуваясь, оперся коленом на злополучную корзину. И тут, с криком: «Осторожно, яйца!», мама непроизвольно дернула ногой и, нечаянно, конечно, ударила мужика по «причинному месту», отчего он, бедный, взвыл и стал материться. Мама долго извинялась и с трудом уломала беднягу не бросать ее, а, как и было обещано, довезти до дома. В то время мне и сестре Тисе давала уроки музыки приходившая к нам на дом Ольга Александровна Веденисова – интеллигентная, мягкая, застенчивая, с очень милым, но некрасивым лицом тихая женщина, дальняя родственница, а за давностью лет скорее свойственница семьи Алексеевых. Ольга Александровна была одной из многочисленных дочерей Александра Петровича Веденисова[34], который много лет являлся доверенным лицом Алексеевых в Милане. Александр Петрович прожил почти всю жизнь в Италии; как мне рассказывала мама, он был дважды женат и произвел на свет то ли 28, то ли 29 детей, имена которых сам вечно путал. Выросшая в Италии, Ольга Александровна говорила по-русски с сильным акцентом. После революции она сильно бедствовала и подрабатывала уроками музыки. Мама и Сережа уговаривали ее поехать с ними по провизионке. Она долго не соглашалась (боялась), но нужда все же вынудила ее рискнуть, и она поехала. Однако ей не повезло. Когда в эшелоне шла проверка провизионок, Ольгу Александровну подвел-таки ее иностранный акцент, и хотя она упорно старалась доказать, что это именно ее документы (как честный человек Ольга Александровна боялась подвести незнакомую ей женщину), краснела, дрожала, заливалась потом, чуть не плакала, «товарищи» ей не верили и продолжали выпытывать ее настоящую фамилию. Наконец, видимо поняв, что перед ними не спекулянтка, а честная женщина, вынужденно поставленная в трудное положение, мучители пообещали отпустить ее, не арестовывать, если она назовет наконец свои настоящие фамилию, имя и отчество. И тут, гордо выпрямившись, Ольга Александровна твердо ответила: «Я – Веденисова!» Люди, видевшие всю эту сцену, смеялись – кто зло, кто с сочувствием; ей же, бедной, измученней допросом, было не до смеха! Отобрали ли у несчастной женщины так дорого и мучительно добытые продукты – не помню. Кажется, все-таки отобрали… П. С. Оленин и свадьба АллыЯ не знаю, чем объяснить – тем ли, что Петр Сергеевич Оленин был первой в жизни Мани Алексеевой (нашей общей мамы) настоящей глубокой Любовью (именно с большой буквы), или же моей привязанностью с малых лет к сводным старшим братьям Жене и Сереже, сыновьям Петра Сергеевича, только к нему я всегда питал какое-то теплое родственное чувство. Петр Сергеевич был какой-то свой, семейный; в самом начале двадцатых годов он появлялся у нас в доме со своей второй женой, балериной Софией Васильевной Федоровой (второй), еще недавно танцевавшей в Большом театре Москвы, в тот же период мама (со мной) ненадолго заезжала по каким-то делам к ним на квартиру, на Театральной площади Петрограда (недалеко от Мариинского театра, где последние годы своей жизни Петр Сергеевич заведовал труппой). Наконец, если мне не изменяет память, Петр Сергеевич дал согласие быть посаженым отцом на свадьбе моей сводной сестры Аллы Севастьяновой с драматическим актером Владимиром Михайловичем Мичуриным (по сцене Азанчеевым). Венчались они в соборе Святого Князя Владимира (на Петроградской стороне) в 7 часов яркого солнечного вечера 30 мая 1921 года. Жили же мы на Съезжинской улице, за три-четыре квартала от собора, и свадебная процессия шла пешком, а впереди «молодых» нес икону (как это полагалось в старину) автор этих воспоминаний. Было мне тогда 8 лет и 8 месяцев. Гостей на свадьбе было много – родные «молодых», их друзья по театру и театральной студии, друзья нашей семьи. После венчания, как полагается, устроили свадебный стол, потом, помню, играли во всякие игры – фокусы и надувательства, например, как прилепить к потолку комнаты стакан с водой (на эту «удочку» попался брат жениха, артист Большого драматического театра Геннадий Михайлович Мичурин – его молодая хорошенькая женщина, показывавшая фокус, попросила помочь: чуть придержать конец палки, которой был приперт к потолку стакан); желающих «полететь на самолете» (авиация в России еще только-только начиналась) – с завязанными глазами поднимали на доске и «стукали» головой о потолок – подставляли книгу в твердом переплете; молодые девушки визжали от страха и удовольствия. Удивляли гостей также фокусом с «волшебной палочкой»: один из показывающих фокус выходил из комнаты, затем возвращался и с помощью «палочки» отгадывал задуманного всеми присутствующими, находящегося среди них человека. Этот фокус, гениально простой по своей сущности, производил ошеломляющее впечатление – все наперебой предлагали свои варианты, как его делать, пробовали, и ни у кого фокус не получался. Наконец, кто-то брался отгадать позу вышедшего в соседнюю комнату человека, какой бы замысловатой она ни оказалась. Это вызвался сыграть Петр Сергеевич Оленин; он охотно ушел в соседнюю комнату, плотно закрыл за собой дверь и принял невероятно замысловатую позу, стоя на одной ноге, с руками закрученными в разные стороны. По условиям игры, человек, принявший позу, должен был громко (чтоб его услышали из-за двери) спросить: «Как я стою?» Когда Петр Сергеевич задал этот вопрос, его дочь, Марина Оленина, ответила: «Как дурак!» и быстро распахнула дверь – все увидели Петра Сергеевича в его невероятной позе, крайне смущенного и обескураженного. Потом молодой, красивый и талантливый Володя Азанчеев к общему удовольствию прочитал модную тогда поэму Блока «Двенадцать», подражая манере знаменитого Юрия Михайловича Юрьева (премьера Александрийского театра, одного из основателей Большого драматического театра в Петрограде). 15 января 1922 года Петр Сергеевич Оленин скончался в возрасте 51 года от нефрита, в Институте скорой помощи в Петрограде. Его тело было перевезено в Москву и захоронено на Ваганьковском кладбище недалеко от церкви. Помнится, проводить Петра Сергеевича в последний путь на место вечного упокоения ездил его сын Сергей Петрович Оленин со своей матерью Марией Сергеевной – первой женой Петра Сергеевича. Еще в годы обучения в Московском университете на медика Петр Сергеевич Оленин был деятельным участником московского Общества искусств и литературы под руководством К. С. Станиславского, и, будучи от природы неплохим актером и режиссером, пытался полученные знания и методы работы перенести в оперное дело, что проявилось особенно заметно в годы, когда он занимался режиссурой и постановками в театре С. И. Зимина, а позднее – в Большом театре; П. С. Оленин старался, хотел перевести оперные спектакли с уровня костюмированных концертов (каковыми они по сути были) на уровень психологически осмысленного художественного действия – был в какой-то мере последователем постановок МХТ. Свидетельством такого подхода Петра Сергеевича Оленина к работе с актерами-певцами при постановке оперного спектакля может косвенно служить письмо К. С. Станиславского директору Большого театра В. А. Теляковскому от 16 декабря 1915 года, появившемуся в результате инициативы, проявленной Петром Сергеевичем (см. К. С. Станиславский, Собр. соч. в 9 т., «Искусство», М, 1998; т. 8, письмо 393, с. 423 и комментарии к нему, с. 541). Несомненно, в истории русского оперного театра начала XX века режиссерская деятельность П. С. Оленина оставила заметный след. Семейно-коммунальное житье. Переезд на новую квартируИз Ташкента в Петроград приехал и поселился у нас в одной из пустующих комнат мамин племянник Александр Владимирович Алексеев (сын ее брата Владимира Сергеевича Алексеева) с семьей, состоявшей из его второй жены Антонины Семеновны Тарсиной (красивой, стройной), ее дочери от первого брака прехорошенькой Милюси (Милицы), собственных двух сыновей (от первого брака) Семы и Мити (моих сверстников). Решив однажды устроить скромный родственный прием, он прислал маме с кем-то из детей письменное приглашение, в котором, не без юмора, было написано, что «к речке „Коридорке“ и к озеру „Кухоне“ для гостей будут поданы, бесплатно, галоши». В то время наши «семейные вечера» обычно сопровождались угощением кофе «Мокко» (еще свободно продававшимся в фирменных металлических коробочках частными магазинами) и простыми домашними булочками (если в доме была мука), которые мама замешивала на воде с солью, быстро черствевшими и получившими шутливое название «Манин пуп»[35]. Пили с сахарином, за неимением сахара. Впрочем, бывало, что и глицерин ели. Однажды о нашем житье-бытье Александр Владимирович Алексеев (Шура) написал своему двоюродному брату Евгению Петровичу Оленину (Жене) письмо в стихах, описав в них, в юмористическом ключе, нашу повседневную жизнь. В то время Женя находился в Италии, зарабатывая на жизнь танцами в каком-то маленьком театре, а может быть, даже в ресторане. Ниже приводятся отрывки из этого письма. (Написано А. В. Алексеевым в июне 1922 года.) Caro nostro Italiano (Дорогой наш итальянец) Об этом же отрезке совместно прожитой жизни через много лет, а именно в марте 1978 года, я напомнил Антонине Семеновне Тарсиной в стихах, написанных мною к ее 90-летию. Моей любимой тетке Тоне в день её… летияДавай-ка вспомним Петроград Фактически наша квартира № 6 по Съезжинской улице дом № 19 превратилась в семейно-коммунальную, неудобную для нашей семьи, ибо самая большая изолированная комната (когда-то, до революции, служившая спальней для моих родителей и кабинетом для занятий отца) была отдана семье Шуры Алексеева, состоявшей из пяти человек; мама, отец, я и временами Алла жили в изолированной бывшей детской, самой теплой комнате с круглой железной печью; в соседней проходной комнате, занятой огромным шкафомгардеробом, жила Тиса; в следующей проходной комнате-столовой обитали Оленины – брат мой Сережа с беременной женой Галей, приехавшие из села Шебекино, где они поженились; в столовую было передвинуто пианино, на котором я и Тиса занимались музыкой с учительницей Ольгой Александровной Веденисовой. На нем же Сережа играл, а Степан Васильевич распевался. В квартире была еще одна изолированная комната, в которой до революции жили мои братья Женя и Сережа Оленины, а также Котя (Герман) Севастьянов (который так привязался когда-то к отчиму Степану Васильевичу, что подписывался в письмах «Герман Балашов»), но теперь жить там стало невозможно, так как в ней треснула и отошла наружная стена и внутри царил холод, как на улице, за что комната эта получила название «Холодильник», и в ней хранили пока что ненужные вещи. Вот так получилось, что у отца не оказалось кабинета, где бы он мог спокойно заниматься своей любимой коллекцией марок и открытками, которые тоже собирал, а главное – спокойно разучивать и репетировать свои партии, хотя, когда ему нужно было работать, из столовой все уходили. У Сережи с Галей 12 августа 1922 года родился очаровательный сын, которого в честь дедушки по отцовской линии назвали Петром. Шура Алексеев подыскал для своей семьи квартиру на Большой Пушкарской, в доме на углу с Шамшевой улицей, и наша мама тоже надумала снять в этом же доме новую квартиру, с расчетом чтобы в ней все удобно разместились, а для Степана Васильевича была бы отдельная комната – личный кабинет с пианино, кожаным диваном, двумя креслами и красивым, под черное дерево, книжным шкафом с резьбой и черной мраморной плитой сверху (из родового дома Алексеевых на Садово-Черногрязской улице в Москве, доставшимся маме по наследству после кончины Елизаветы Васильевны Алексеевой). Это был последний шанс удержать Степана Васильевича в семье. К тому времени он почти уже жил у хористки Михайловского театра, работавшей, понятно, в одном с ним театре, и, конечно, об их связи в театре знали; женщина эта была младше моего отца на 18 лет. Она считалась, как говорят, насквозь театральным человеком – ее отец, Алексей Владимирович Таскин, в свое время известный автор салонных романсов, аккомпаниатор Анастасии Дмитриевны Вяльцевой, а позднее – эстрадной певицы Марины Нежальской, был вхож в элитарные оперные круги, в частности к Ф. И. Шаляпину. Итак, молодая женщина, разбивавшая нашу семью и личную жизнь моей матери, отнимавшая у меня отца в то время, когда он становился все более и более мне необходимым, звалась Вера Алексеевна Таскина. Переехали мы на новую квартиру по адресу: Большая Пушкарская, дом № 28/2, кв. 19 (через некоторое время домовое управление изменило номер квартиры на 17) в апреле 1923 года. Отцу было 40 лет, он находился в расцвете своих творческих возможностей, был премьером на амплуа лирического тенора в Мариинском театре и его (тогда) филиале – Михайловском театре, стал много зарабатывать, что весьма устраивало молодую хористку, претендующую на официальное замужество с ведущим премьером двух оперных театров. Маме же уже стукнуло 44, она имела несчастье быть старше своего мужа на четыре с половиной года! Несмотря на ставшую всем известной измену мужа, на оскорбленные человеческое достоинство и женское самолюбие, непрестанные муки ревности, Мария Сергеевна продолжала глубоко и горячо любить Степана Васильевича и старалась делать все, чтобы его удержать, но не могла казаться равнодушной и безразличной к нему, да он бы и не поверил… Ссоры на почве ревности, бывавшие и раньше (до появления в их жизни В. А. Таскиной), теперь участились. Переезд наш на новую квартиру не помог – отец в семью не вернулся, только изредка приходил и иногда задерживался с ночевкой, что маме приносило больше горя, чем кратковременное иллюзорное счастье. Квартира на последнем, пятом этаже дома № 28/2, с окнами на Шамшеву улицу, состояла из шести комнат, включая людскую (как говорили в старину), то есть комнату при кухне, где обычно проживала прислуга (окно этой комнаты выходило в типичный для Петрограда двор-колодец). В самой большой комнате, крайней со стороны закрытой в ту пору парадной лестницы, поселилась семья Сережи – он сам, его жена Галя и их девятимесячный первенец Петяшка. В соседней с ними комнате устроили столовую и, помнится, она же служила пристанищем для Аллы во время ее довольно частых побегов к маме от гражданского мужа Василия Павловича Юдичева, человека грубого, малоинтеллигентного, занимавшегося «рукоприкладством». В следующей за столовой комнате мама устроила кабинет моего отца, что, как я уже говорил, было одним из стимулов переезда на новую квартиру, но практически кабинет уже не пригодился. Следующей, крайней комнатой была спальня мамы, где расположились большая семейная двуспальная кровать, на которой когда-то рождались мы, ее дети, и моя детская кровать, низкий комодпеленальник с тремя широкими выдвижными ящиками для белья и двумя досками, покрытыми темно-зеленой клеенкой, выдвигавшимися вправо и влево, увеличивая вдвое полезную площадь пеленальника – такого комода нынче днем с огнем не найдешь! Также в спальне мамы стояло большое зеркало, покачивающееся на высокой орехового дерева подставке в виде напольной лиры; в простенке между двух окон красовался резной письменный стол с полкой и шкафчиком посередине, считавшийся собственностью моего отца (хотя, признаться, я никогда не видел, чтобы он за ним сидел), но в последующие годы сослуживший мне добрую службу; в правом углу около второго окна разместился небольшой шкаф – низ от углового киота, на котором мама устроила себе скромный туалетный столик, которым можно было пользоваться только стоя перед ним. Для этой же комнаты мама купила мебельный гарнитур, состоявший из глубокого низкого дивана и двух больших глубоких кресел к нему, обитых зеленым плюшем; диван хорошо разместился в нише комнаты, придав ей уют, – на диване было очень удобно «свернуться калачиком». Позднее в мамину спальню было передвинуто (большое, на семь октав, облицованное красным деревом) пианино фирмы «Беккер», а перед двуспальной семейной кроватью разместился круглый, под черное дерево, резной столик, доставшийся когда-то маме из вещей московского Красноворотского дома ее родителей; за этим столиком она пила чай с любимыми ею соевыми батончиками или завтракала по утрам, а иногда, по вечерам, мы все за ним ужинали. На противоположной окнам стене висели большой портрет мамы, снятой в большой круглой шляпе – ее лучший фотопортрет, выполненный в 1900 году в период оперных сезонов, а также большая рама-панно с набором фотографий мамы в разных оперных, спетых ею ролях. И, наконец, по другую сторону передней, у закрытого парадного входа в квартиру, была еще одна комната – небольшая, с окнами во двор, первоначально предназначавшаяся Тисе, но так получилось, что вскоре после нашего переезда в этой комнате поселилась моя крестная мать Варвара Семеновна Гецевич, бывшая хористка и жена оперного режиссера Станислава Антоновича Гецевича, – они были соратниками мамы по оперным сезонам в Казани и Самаре, где антрепризу держал второй муж мамы Василий Сергеевич Севастьянов. Помнится, они оба служили перед войной 1914 года и после нее в оперном театре Народного дома в Петрограде. После революции 1917 года и гражданской войны Варвара Семеновна с мужем куда-то исчезли, затем она, тетя Варя, как мы, дети, ее называли, уже за последние годы овдовевшая, вновь оказалась в Петрограде, без пристанища, и мама поселила ее у нас, в новой квартире. Ох уж эти кошки…После переезда на новую квартиру, одолеваемые крысами, мы были вынуждены искать, где бы купить кошку, что было не просто, так как за послереволюционные годы почти всех собак и кошек голодающие горожане съели. Наконец кто-то из знакомых удружил, и мама купила за один миллион рублей трехцветного котенка (по народному поверью – счастливой масти), которого за его кругленькое брюшко назвали Пузатиком, но оказалось, что это Пузатиха, то есть кошечка. Тем не менее котенка все продолжали звать Пузатиком. К нашему огорчению, Пузатик мирно уживался со все более наглевшими крысами, по 15-20 штук зараз вылезавшими по вечерам на кухню, так что прежде чем войти туда, мы вынуждены были швырять от дверей заранее припасенные в коридоре поленья: крысы бросались врассыпную, иной раз нам под ноги. Так мы узнали, что, оказывается, существуют на свете кошки-крысоловы и кошки-птицеловы – Пузатик оказался из второй породы, к крысам относился индифферентно, да и те не обращали на него никакого внимания. Через некоторое время мы с Тисой подобрали на улице тоже трехцветного котенка, которого соседи выкинули на наших глазах из окна пятого этажа. Слава Богу, котенок ничего себе не поломал, но, видимо, либо ударился нижней челюстью, либо что-то не сильно отбил внутри, так как изо рта у него сочилась кровь; за три-четыре дня котенок отлежался, пришел более или менее в себя и стал есть, к общей нашей радости. Это тоже оказалась кошечка с прелестной мордочкой, чем-то напоминавшей маме дочь Марину, за что так и была наречена – Марина! С годами у мамы сложилось какое-то суеверное отношение к этой кошке – она жила у нас много лет, и у мамы было такое чувство, что пока эта кошка жива, в доме все будет хорошо… Через какие-нибудь год-полтора Пузатик и Марина после прогулок на черную лестницу народили котят обоего пола и стали затем, уже без выскакивания из квартиры, по 2-3 раза в год приносить потомство. Никто из нас не хотел брать грех на душу – топить котят, и настало время, когда кошки стали одолевать нас пуще крыс: много грязи, шерсти и запаха принесли в дом и буквально объедали нас – съедали около двух третей нашего бюджета, ибо кроме печенки или легких ничего другого есть не желали, а проголодавшись, начинали орать на всю квартиру. С течением времени кошки изгадили и изорвали когтями кабинетный кожаный диван и оба кресла к нему. Сначала мы отдали кому-то нескольких котят, но время шло, кошачьего племени у всех в городе народилось пруд-пруди, и наших «детишек» уже никто не брал, так как они были непородистыми – плебеями, так сказать! Наконец тетя Варя взяла грех на душу и стала топить в ведре очередные потомства. Очевидно, прослышав про наше отношение к кошкам, в один прекрасный день кто-то из соседей подбросил нам еще и щенка неопределенной породы – видимо, помесь дворняжки с эрдельтерьером. Щенок был очаровательный, мы, дети, конечно, «растаяли», да и как было решиться выгнать на улицу, на бездомье это ласковое, веселое, беззащитное существо. Маме, не очень любившей собак, брезговавшей ими и не переносившей их запаха, все же пришлось согласиться оставить щенка. Тогда мы увлекались кинофильмами с участием Дугласа Фербенкса, Мэри Пикфорд и Полы Негри, например, знаменитой, обошедшей экраны всего мира картиной «Знак Зорро», в которой был некий капитан Гонзалес, преследовавший и ловивший Зорро, и почему-то мы, дети, назвали щенка Гонзалесом. Но так получилось, что вскоре пришел навестить нас мой отец Степан Васильевич, который очень любил собак и держал дома здоровенного рыжего короткошерстного кобеля, дворнягу Бобку, какие в то время чаще всего встречались на рынках в мясных рядах. Увидев нашего щенка, Степан Васильевич «влюбился» в него, но сказал: «Какой же это Гонзалес, кто это придумал? Это же Тютька!» и, к полному удовольствию мамы, увел его к себе. Тютька прожил у отца несколько лет в мире с Бобкой и под его защитой в собачьих драках, был очень умен и понятлив – «только что не разговаривает!», смеялся Степан Васильевич. Однажды во время обеда, в пылу разгоревшейся домашней ссоры с молодой женой и тещей, Степан Васильевич схватил со стола жареную курицу и швырнул ее на пол, а случившийся тут же Тютька моментально схватил нежданную добычу и исчез из комнаты; с тех пор, как только Тютька слышал разговоры на повышенных тонах с признаками возможной ссоры, он был тут как тут! Лет через восемь-десять нам удалось избавиться, вернее, почти избавиться от нашего кошачьего племени: мы отыскали женщину, которая собирала бездомных кошек, получая за это дотацию от общества охраны животных, и умолили ее взять наших «питомцев» к себе. Было это уже где-то в середине тридцатых годов. Но кошку Марину, которую за почтенный возраст уже стали называть просто Старухой, мама не отдала, оставила дома. Со Старухой-Мариной связан анекдотичный эпизод, имевший место, вероятно, уже году в 1937. Мама и я были в Москве, когда пришло письмо из Ленинграда от Тисы: она сообщала маме, что кошка Старуха, похоже, серьезно заболела – ничего не ест, очень похудела. Мама сильно разволновалась, взяла лист бумаги и стала что-то писать. Потом сказала мне: «Пожалуйста. сходи сейчас на почту у Никитских ворот, пошли эту телеграмму». Я взял из рук мамы текст и, не удосужившись его прочитать, пришел на почту и протянул листок в окошечко телеграфистке; та быстро пробежала глазами написанное, как-то странно на меня посмотрела, будто с возмущением и даже презрением, потом произнесла: «Однако!», и тут, заглянув через окошечко на ее стол, я прочитал наконец написанный мамой текст: «Старухе постелите мягко лежать, позовите ветеринара, кормите фаршем». «Это о кошке», – сказал я и улыбнулся возмущенной девушке. По ее лицу скользнуло удивление, потом глаза чуть потеплели, она недоуменно передернула плечиками, но, отдавая мне квитанцию, все же посмотрела на меня сурово, строго и недоверчиво… Мы с Тисой идем в школуДом № 19 по Съезжинской улице принадлежал Ивану Ивановичу Калинину, который жил там с женой Еленой Ивановной, матерью и четырьмя сестрами. В этом же доме жили семьи двух профессоров ботаников – Сергея Сергеевича Ганешина и Владимира Андреевича Траншеля, преподававших, насколько я помню, в Петербургском университете и занимавшихся научной работой в Ботаническом саду (на Аптекарском острове). С годами наши семьи сблизились, я дружил с их детьми, а мать семейства Траншель, Мария Николаевна, была моей первой учительницей, подготовившей меня для поступления в 1923 году сразу в 3-й класс Первой показательной школы (переименованной впоследствии в Единую трудовую школу № 200). Педагогический состав там отличался высокой квалификацией и интеллигентностью. После проверки моих знаний маме сказали, что по уровню общей подготовки меня приняли бы и в 4-й класс, но по географии я «не мог пройти», поэтому меня принимают в 3-й. Был я мальчиком маленького роста, ниже своих сверстников, слабоват здоровьем и совсем домашний, интеллигентный, хорошо воспитанный мамой ребенок. Одновременно со мной в тот же 3-й класс была принята моя сестра Тиса (Таисия Севастьянова), которая была старше меня на 2 года, но у нее так сложилась жизнь, что в годы послереволюционной разрухи и гражданской войны она оказалась в Екатеринодаре (ныне Краснодар) у ее тетки по отцу, которая была вынуждена, из-за наступившего голода, отдать Тису в детский дом, где она провела два или три года и откуда осенью 1920 года, по просьбе мамы, ее вызволил и переправил в Петроград Леонид Витальевич Собинов. Наша школа располагалась на Петровском острове в рабочем городке Сан-Галли, где, если не ошибаюсь, были фабрики канатов и сурового холста, а недалеко находился Яхт-клуб. В то время трамвай на Петровский остров не ходил, и нам было довольно сложно и далеко добираться до школы, в основном весь путь пешком, поэтому мы постоянно опаздывали к началу занятий. Правда, по Большому проспекту Петроградской стороны мы могли проехать на трамвае две остановки до Тучкова моста, но чаще и этот путь мы проделывали пешком. Не доходя до Тучкова моста, на площади, образованной пересечением нынешнего проспекта Добролюбова (кажется, в те времена он еще назывался Александровским) и Большого проспекта, ближе к речке, ныне называемой Ждановкой, располагалась поилка для лошадей, вокруг которой всегда скапливалось несколько грузовых телег и пролеток, пока не было снега, а когда устанавливался зимний путь, то саней, в том числе розвальней. Мы старались найти розвальни, которые поедут на Петровский остров по единственной наезженной, с ухабами и взлетами по сугробам дороге в городок Сан-Галли, и попросить хозяина-извозчика довезти нас туда. Грубоватые, но сердечные мужики жалели ребятишек, разрешали сесть в сани, говорили нам: «Ну, держитесь!» – и, выехав по мосту через Ждановку на Петровский остров, вихрем неслись вперед. Подбрасываемые на ухабах, с замирающими от страха сердцами, мы не раз приезжали в школу без ранцев, вылетавших где-то во время езды, но одной рукой бережно прижимали к груди глиняные горшки с едой, которыми нас снаряжала заботливая мама, а другой за что-нибудь держались, чтобы не вылететь из розвальней самим. Конечно, в школе была какая-то столовая, однако мама боялась, что мы можем чем-нибудь заразиться, и делала нам завтраки в небольших глиняных, облитых коричневой глазурью горшках с перпендикулярно торчащими ручками. Эти надоедливые горшки с едой были в классе нашим посмешищем, к тому же таскать их нужно было осторожно, чтобы не разлить содержимое, и мы их возненавидели! Однако настал такой день, когда кто-то из нас (я или Тиса) случайно уронил и разбил ненавистный горшок; в первый момент мы испугались, но через мгновенье второй горшок был уже специально брошен на землю и разбит вдребезги; мы проплясали вокруг черепков нечто похожее на победный воинственный танец индейцев и, возвратясь домой, категорически отказались таскать в школу другие горшки или кастрюли с едой, на что маме в конце концов, пришлось согласиться. Мамино воспитаниеВ нашей (то есть маминой) семье все были верующими, но церковь посещали редко, от случая к случаю (несравненно реже, чем театры), а вот на Пасху, в Святую Пятницу ходили в церковь к Плащанице – прощаться с Телом Христа и мысленно просить у Бога прощения за содеянное нами зло; всегда любили торжественный пасхальный колокольный звон, в пасхальную ночь (к полуночи) ходили встречать около церкви крестный ход, стояли с зажженными свечами и дожидались обращаемых к народу торжественных, троекратно повторяемых слов: «Христос Воскресе!», «Христос Воскресе!», «Христос Воскресе!», на что вместе с народом дружно как бы «выдыхали» после каждого обращения ответные слова: «Воистину Воскресе!», «Воистину Воскресе!», «Воистину Воскресе!»; затем несколько раз слушали, как пропоют, и сами пели: «Христос Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и, сущий во гробе, живот даровал!» Возвращались домой от заутрени, стараясь донести до дома горящими свои свечи. Дома сразу все садились разговляться пасхой и куличами. До революции полагалось обязательно иметь к пасхальному столу окорок ветчины, так же, как к праздничному столу в Рождество полагалось запекать гуся или утку с антоновскими яблоками. (Конечно, мы любили Рождество Христово, с нарядной красивой елкой, увешанной игрушками, золотыми и серебряными нитями, с горящими разноцветными свечками, с подарками для всех членов семьи, включая кошек и прислугу.) Посты соблюдать как-то у нас не было принято и лично я, будучи мальчиком лет десяти-одиннадцати, единственный раз в жизни постился несколько дней перед Пасхой, исповедался и причастился, после чего действительно ощутил в своей душе какой-то особый настрой и праздничный подъем, но это произошло скорее благодаря моей крестной матери Варваре Семеновне Гецевич (жившей вместе с нами), посещавшей баптистов и как-то взявшей меня с собой. Кто меня научил молиться и первой молитве: «Господи, ангел хранитель, спасите и сохраните младенца Степу!», помню смутно – то ли мама, то ли моя няня Маша Киселева, вернее, пожалуй, что мама, а няня приучила проговаривать эту молитву по утрам, когда меня поднимали из постели, и вечером, перед тем, как укладывали спать. Сама мама всегда молилась по утрам и перед сном и, видимо, когда мне было уже лет около пяти и няня Маша ушла из моей жизни, я остался под полным присмотром мамы, я выучил молитвы «Богородица Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с тобою…» и «Отче наш…» Еще позднее – молитвам при отходе ко сну («Господи Боже наш, еже согрешил во дни сем словом, делом и помышлением, яко благ и Человеколюбец, прости мя…») и при утреннем подъеме («К тебе Владыко Человеколюбче, от сна возстав прибегаю и на дела Твои подвязаюся…») – ее, насколько помню, я услышал от друга нашей семьи, моей первой учительницы, Марии Николаевны Траншель. В годы (вероятно, начиная с 1920—1921), когда отец мой начал постепенно отходить от семьи, мама ездила со мной, в часовню Ксении Блаженной на Смоленском кладбище в Петрограде, часовню, помещавшуюся в Домике Петра Первого на берегу Невы, недалеко от Петропавловской крепости, и ныне не существующую часовню, которая была на Невском проспекте между Гостиным Двором и зданием бывшей Думы; когда бывали в Москве – ходили в часовню Иверской Божьей Матери, позднее снесенную и вновь ныне восстановленную, располагающуюся между зданием бывшей Думы и Историческим музеем. Ездили и ходили по церквям, прося и вымаливая, чтобы отец не ушел из семьи, а потом, когда это случилось, чтобы вернулся!… Я был тихим ребенком небольшого роста, медленно подрастал, всегда умел найти себе какое-то занятие (так что взрослым занимать меня не приходилось), был очень самолюбив, но когда меня задевали за живое, не кричал, не кидался с кулаками, а уходил в себя и довольно длительное время мучительно, но молча переживал. Мне это давалось тем тяжелее, что характером от природы я обладал нетерпеливым и порывистым. Благодарен маме за то, что лет с пяти она стала приучать меня к домашнему труду, быть ей помощником, хотя в дальнейшей жизни жалела меня и к моей помощи прибегала редко. Учила вытирать пыль, мести пол, не разбрасывать, а наоборот – прибирать свои вещи. Помню, как не хотелось, как претило мне перетирать бесчисленное множество каких-то повсюду наставленных мелких предметов – вазочек, пепельниц, тарелочек, рамочек с фотографиями, безделушек, книжек, стоявших и лежавших на столах, буфете, тумбочках возле кровати и так далее. Приучала меня мама и убирать за собой. Мама учила меня манерам: как здороваться со взрослыми и вести себя в их обществе, не шуметь, не кричать, не приставать со своими вопросами, не встревать в разговоры со своими замечаниями, не браниться, уступать женщинам и девочкам, а также людям старше меня дорогу, не подавать первым руку взрослым и женщинам, пока они сами не протянут мне руку чтобы поздороваться или попрощаться; дамам, когда они здороваются или прощаются, с уважением целовать руку, но ни при каких обстоятельствах не делать этого у девушек и девочек; когда со мной здоровается или прощается взрослый – не кривляться, а встать прямо и шаркнуть ножкой; пришедшим гостям предлагать присесть, если нужно и есть такая возможность, то подать стул; не занимать первым сидячее место, а, наоборот, уступать его взрослым, в особенности если это женщина, барышня или даже девочка; при спорах не терять самообладания, не повышать голоса и не терять чувство собственного достоинства, и т. д. и т. д! Одним словом, мама старалась сделать из меня образцово воспитанного ребенка и человека. Знакомые находили, что труды мамы не пропали даром, что таковым воспитанным мальчиком и юношей я стал, а вот дальше, в более взрослые годы, широко общаясь с окружавшим нас народом, плохо знавшим все эти правила и премудрости этикета, я стал все больше и больше ощущать себя «белой вороной», над которой подсмеивались, а иной раз даже пытались издеваться, и, с течением времени, «лоск» воспитания стал с меня слезать, я начал ловить себя на том, что поступил или поступаю невоспитанно, не по этикету а так, «как ныне принято», и, конечно, постепенно почти все позабыл и растерял, стал даже повышать голос и ругаться, иногда совсем нецензурно, чувствуя, впрочем, как вслед поднимаются стыд и досада на самого себя. Но, как говорится, – «с волками жить – поволчьи выть!», хотя, конечно, это слабое оправдание… У нашей доброй, терпеливой и всепрощающей мамы было замечательное свойство: когда кто-нибудь «оступался» в жизни, делал что-то недозволенное, не принятое в человеческом обществе, она никогда его не осуждала, как говорят, сплеча, а старалась сначала разобраться, найти причины, побудившие человека так, казалось бы, неправильно, некрасиво поступить, пыталась это чем-то объяснить, и часто приносила тем самым моральное облегчение «оступившемуся». Поэтому люди иногда приходили к маме за советом, но она плохо знала изнанку жизни, так как сама была душевно чистым человеком и, как правило, жизненно-деловых рекомендаций давать не умела, но могла помочь морально. Мама учила меня быть правдивым даже в трудных, тяжелых обстоятельствах и не следовать слепо мнениям окружающих людей, но на все иметь свое мнение, даже если оно идет вразрез с общепринятым. В практике нашей нивелированной, нелегкой жизни это было часто достаточно нелегко. Я столкнулся с этим еще в детские годы. Так, где-то в 1925 или в 1926 году, когда я учился в пятом или шестом классе, в школах велась усиленная пропаганда атеизма, детям внушали, что религия отвлекает от единственно правильного материалистического мировоззрения, что занятиям в школе мешает церковный звон, отвлекающий школьников от мышления и восприятия даваемых учителями знаний, а совсем недалеко была тогда еще действующая церковь, и колокольный звон доносился в открытые окна классов. Однажды кто-то из дирекции пришел к нам в класс с предложением проголосовать за то, чтобы послать от школы прошение в соответствующие инстанции о снятии с этой церкви колоколов, звон которых, якобы, отвлекает нас от занятий, мешает нам. Я не хотел кривить душой, мне колокольный звон совершенно не мешал, мне даже казалось, что он вносит какое-то успокоение, гармонию, поэтому я проголосовал против и, конечно, попал на заметку, как ребенок с отсталой, «интеллигентской» идеологией. К тому же мне показалось, что наша милая, пожилая интеллигентная классная руководительница Юлия Петровна Струве как-то не очень уверенно проголосовала за снятие колоколов, и лицо у нее при этом сделалось печальное и какое-то отрешенное. В перерыве между уроками я догнал Юлию Петровну в коридоре и, идя с ней рядом, тихо спросил, верит ли она в Бога? На долю секунды приостановив шаг, она со скорбным лицом тихо ответила: «Верю!» «Тогда зачем же Вы голосовали за снятие колоколов?» – спросил я с детской прямолинейностью и жестокостью. Продолжая идти, с секундной паузой после моего неуместного вопроса, Юлия Петровна тихо ответила: «Так было нужно!», и я понял, что поставил ее в трудное положение. Мне стало мучительно стыдно за себя (вероятно, я сильно покраснел) и нехорошо на душе – я своей бездумностью сделал очень больно этой уже сильно пожилой женщине, всегда мягкой, ровной и внимательной со всеми нами, своими учениками! После этого разговора я не мог поднять на нее глаза, хотел извиниться за неуместные вопросы, но эта значило бы снова вернуться к тому разговору и еще раз сделать ей больно. Я так и не извинился и по возможности избегал общения с Юлией Петровной. В следующем учебном году Ю. П. Струве в школе не оказалось. Ушла ли она сама, или ее уволили, заболела или была здорова, я так и не узнал, а совесть за допущенную жестокую бестактность продолжала мучить меня еще довольно продолжительное время, а потом постепенно происшедшее стало забываться, но, как видно, совсем не забылось и до сих пор «царапает» душу и сердце. Возвращаясь к моему воспитанию, добавлю, что мама наставляла меня быть всегда обязательным, точным, пунктуальным в общении с людьми и в делах. Если тебя кто-то ждет – не опаздывай, это невежливо, невоспитанно, неинтеллигентно. Если кому-то что-то обещал – непременно выполни и постарайся сделать это в обещанный срок. «Точность и обязательность – вежливость королей!» Имей свое мнение, свою точку зрения – не иди ни у кого на поводу. Будь к людям доброжелателен, и люди ответят тебе тем же. Не отказывай людям в помощи, если ты в состоянии им помочь! И еще – запомнившееся мне наставление моего отца: «Никому, даже врагу не желай того, чего сам себе не желаешь!» В какой степени я усвоил все сказанное и как применяю его в жизни, пусть, по совести, оценят и скажут люди, знающие меня. Мама ведет семьюВернемся в 1923 год. После ухода моего отца материальное положение нашей семьи, естественно, ухудшилось, хотя Степан Васильевич помогал деньгами на мое воспитание и много-много раз дополнительно выручал при безвыходном положении: в таких случаях мама сама, или, по маминому поручению, Тиса приезжали к нему в театр просить денег. Он не был жадным человеком и давал какую-то сумму из имевшихся при себе наличных, но бывало, что, несмотря на приличные заработки, денег у него не оказывалось – содержание молодой жены обходилось недешево, а ее запросы и оплачиваемые им расходы неуклонно возрастали. На эту тему артист (бас) Алексей Иванович Демидов-Крючков даже сочинил насмешливые, может быть не во всем справедливые куплеты, распевавшиеся на мотив полу– блатной, модной в двадцатые годы, песни с припевом «Ламца-дрица, хоп-ца-ца!» Прежде чем привести их, следует сделать следующие пояснения: молодая жена Вера Алексеевна Таскина имела удлиненный тонкий нос и тонкие ноги, за что ее прозвали Цаплей; домашним хозяйством она не занималась и, при отсутствии домработницы или тещи, приготовление завтраков и чего-нибудь к обеду брал на себя сам Степан Васильевич; когда отец еще жил с нами, он много лет коллекционировал марки (кстати сказать, его занятие марками в моем присутствии, когда я имел возможность задавать ему вопросы, очень много дало для моего развития). Итак, ехидные куплеты А. И. Демидова, посвященные артисту Академических оперных театров С. В. Балашову: Есть у нас тенор премьер, Но возвратимся к финансовому положению маминой семьи. Получала мама некоторую денежную помощь от старших своих братьев Владимира Сергеевича и Константина Сергеевича, обычно деньги переводил по почте Владимир Сергеевич. Иногда присылала небольшие суммы старшая сестра Зинаида Сергеевна, поскольку Маня осталась без мужа, с двумя детьми школьного возраста. Но все равно денег на жизнь никогда не хватало, мама занимала у знакомых, закладывала в ломбард какие-то вещи – долги и ломбардные квитанции накапливались. Материальные трудности заставляли маму искать способы добывать дополнительные деньги, а тут сама экономика молодой Советской страны стала поворачивать к рынку, к грядущему НЭПу, о каковом мама и понятия не имела, так как ничего ни в политике, ни в экономике не понимала и другого источника денег кроме продажи чего-то не видела. Итак, нужно было пробовать торговать… Но чем? Опять кашей или пирожками на рынке, как два с небольшим года назад? Но теперь уже другое время, другие требования и условия жизни… Когда-то мама немного занималась вышиванием для собственного удовольствия, а теперь одна из знакомых посоветовал ей попробовать делать аппликации, входившие тогда в моду. И мама сделала несколько пробных диванных подушек, разукрасив их аппликациями по рисунку головы Пьеро. Подушки были размером сантиметров по сорок и чуть меньше, насколько я помню: круглые, обрамленные по периметру волнистым воланом; сшила их мама из подручного материала, который нашелся в доме. На белом яйцеобразном куске аппликации мама изобразила разными карандашами лицо Пьеро и на рисунок нашила кусочки цветных материй. Подушки получились довольно импозантного вида и сколько-то их удалось продать. Но это был товар очень трудоемкий и не массового спроса, на любителя, кроме того, для пошива приходилось покупать довольно дорогие исходные материалы. Тогда в продаже не было игрушек, скажем, кукол, нужных каждой девочке, и мама решила попробовать наладить их пошив. Из белого материала выкраивались и делались мешочки, которым предстояло стать туго набитыми древесными опилками головами, туловищами, руками и ногами будущих кукол. Всей семьей, включая домработницу, мы просиживали целые вечера, изготавливая кукол: одни выкраивали части кукольных тел и сшивали их в мешочки, другие, с помощью палочек и пальцев, как можно туже набивали их опилками, кто-то сшивал набитые части воедино, нашивал волосы из пакли, шил из старых кофточек, платьев, рубашек одежду, разрисовывал куклам лица и пальцы на руках. А на следующий день Тиса несла куклы на рынок сбывать. Зa неимением лучших, сначала наши куклы покупали довольно охотно, они на рынке были в новинку, потом спрос на них упал. Следовало найти и предложить что-то другое, менее трудоемкое (по возможности), но пользующееся спросом. Тогда в моду вошли искусственные цветы, на рынках ими торговало много женщин, каждая – своей разновидностью искусственных цветов. Мама решила попытать счастья и в этом деле, накупила рулончики разноцветной мелко гофрированной бумаги, моток мягкой проволоки, и вся наша «домашняя команда» стала по вечерам крутить цветы никому не известного видa – «phantasi» на палочках, которые та же Тиса или сама мама тащили следующим утром на рынок. Цветы покупали… Свидетельство об этом времени осталось в стихах (не очень гладких), написанных самой мамой: Изделие цветов нас просто одолело! Если вдуматься – это не стихи, а крик усталой маминой души! Несомненно, беззаветная, бескомпромиссная любовь к театру всегда вносили в жизнь нашей семьи элемент богемности; театр несомненно превалировал над другими интересами, чему несомненно способствовала природная причастность Алексеевых к сцене, ведь дядя Костя (Станиславский) стал создателем знаменитого Московского художественного театра; наши отцы – известные оперные певцы, да и мама тоже хорошая оперная певица (хотя и не имевшая столь громкой известности), яркий тому пример. Наши с Тисой старшие братья Женя и Сережа, а также старшие сестры Марина и Алла искренне стремились связать свое будущее с жанрами театрального искусства – исполнительского и даже композиторского: музыкой, балетом, драмой, эстрадой, подразумевавшей пение и танцы, и даже оперой, о каковой, например, в переходном возрасте мечтала Алла. Наконец, автор этих строк еще с самых малых лет тоже любил петь, выучил на слух и распевал многое из репертуара своего отца. Одним словом – все дети, имея от природы музыкальный слух, пели и любили танцевать, так сказать, «пребывали в эмпиреях»!… Ближе всех к жизни обыденной и простой стоял брат Котя (Герман). С малолетства живя летом в подмосковной усадьбе Алексеевых Любимовке, он любил бывать в каретном сарае и конюшне и мечтал стать извозчиком; когда же Котя стал взрослым, и судьба привела его в Париж, жизнь внесла свои коррективы в детские мечты во вполне современном духе XX века – он несколько лет зарабатывал себе на жизнь, работая шофером. Для мамы и ее детей двадцатые годы оказались чрезвычайно трудными (о чем я уже упоминал), но неисправимая оптимистка Алла (с присущим семье Алексеевых юмором) про нашу с мамой ленинградскую жизнь написала веселые, озорные куплеты, приводимые далее. К концу двадцатых годов в Советском Союзе начал входить в моду джаз, и для своих куплетов Алла выбрала мотив популярной тогда песенки, начинавшейся словами: «Мы только негры, мы только негры, мы всем волнуем кровь»: 12 марта 1928 года. Мы только Азия, Первые гастроли в ПетроградеЗимой 1923/24 годов в Петроград впервые приехала на гастроли Оперная студия Большого театра, руководимая К. С. Станиславским. Сам Константин Сергеевич в это время находился в США, где шел второй сезон гастролей Московского художественного театра. Оперная студия привезла два своих первых спектакля – «Вертер» Масснэ и «Евгения Онегина» Чайковского; они проходили на сцене Консерватории. Об удивительных, необычных для оперных спектаклей того времени постановках этих опер, до Петроградских театральных кругов уже около полутора лет доходили из Москвы восторженные отзывы очевидцев, побывавших на представлениях, проходивших в Леонтьевском переулке (на квартире К. С. Станиславского) и в Новом театре на Театральной площади, против Малого театра. Правда, официальная пресса Москвы и вторившая ей пресса Петрограда всячески поносили «Вертера» за его, якобы, мелкобуржуазный драматизм, чуждый «нашей новой революционной действительности», однако зрители, как московские, так и петроградские, встретили спектакль с большим интересом, с полным сочувствием и пониманием реально показанных чувств. О «Ларинском» же бале в «Евгении Онегине» рассказывали, как о чуде – в этом акте, мол, все так отработано и в массовых сценах, и солирующими исполнителями, как в лучших спектаклях Московского художественного театра. Мамины брат и сестра – Владимир Сергеевич Алексеев и Зинаида Сергеевна Соколова, работавшие в Оперной студии, еще задолго до начала гастролей писали, что у них появился молодой тенор с удивительным тембром голоса, со «слезой», очень одаренный по драматической линии; что он очень славный, но у бедняги, кажется, костный туберкуле и, якобы, одна фаланга пальца на какой-то руке чем-то набита взамен удаленной кости. Живет он с матерью, которую очень любит, в большой нищете, и Зинаида Сергеевна его подкармливает, при случае. Первые гастроли Оперной студии Большого театра в Петрограде возглавляли Владимир Сергеевич Алексеев и Зинаида Сергеевна Соколова; своими «живыми» рассказами об этом удивительно одаренном студийце Николае Константиновиче Печковском, которого они называли просто Колей, они еще больше «разогрели» интерес всего нашего семейства во главе с мамой, и все взрослые при первой же возможности поехали смотреть и слушать студийные спектакли, с чудо-тенором Колей в партиях Вертера и Ленского. Памятуя, что Клавдия Гавриловна (Клеш) тоже очень любит оперу, для нее, разумеется, у дяди Володи и тети Зины выпросили места. Все побывавшие на спектаклях Оперной студии возвращались в полном восторге от их постановок и их нового тенора Коли Печковского с удивительным тембром голоса, проникавшим в души и сердца зрителей; поражала осмысленность всего происходящего на сцене, полная логичность и достоверность действий. Такое же впечатление оставалось и у всех наших знакомых, посмотревших спектакли студии; оперы перестали быть привычными костюмированными концертами: кто-то пел лучше, кто-то хуже, но все персонажи на сцене – солисты, хор, мимический состав – предстали «подлинными, живыми людьми»! Можно сказать, что почти все видевшие и слышавшие Николая Константиновича Печковского в партиях Вертера и Ленского в тот первый приезд Оперной студии в Петроград, запомнили его и стали поклонниками его таланта и незабываемого тембра голоса. В их числе оказались также наша мама и… Клеш! Смерть В. И. Ленина прервала гастроли, много петроградцев не успели посмотреть спектакли. Тем не менее гастроли Оперной студии Большого театра, руководимой К. С. Станиславским, запомнились петроградским меломанам осмысленностью режиссерско-постановочиых решений. Думаю, благоприятному впечатлению от спектаклей в немалой степени поспособствовало участие в них Н. Печковского, так как скромные вокальные данные многих прочих студийцев не шли в сравнение с прекрасными голосами певцов петроградских академических оперных театров. Запомнившиеся постановки «Вертера» и «Евгения Онегина» несомненно благоприятно сказались на ожидании следующих гастролей студии, которые состоялись в 1928 году уже под вывеской Оперного театра-студии имени К. С. Станиславского; эти гастроли проходили с более широким репертуаром, в который, помимо уже знакомого «Евгений Онегин» Чайковского, вошли «Тайный брак» Доменико Чимарезы, «Царская невеста» и «Майская ночь» Римского-Корсакова, а также «Богема» Пуччини. Несмотря на отсутствие в Оперном театре-студии имени К. С. Станиславского выдающихся голосов (Н. Печковский уже четвертый год пел в Мариинском театре), гастроли ожидали с интересом, явно предвкушая новые необычные режиссерско-постановочные решения и, надо сказать, не зря – тому, кто видел спектакли гастролей 1928 года на всю жизнь запомнились постановки обеих опер Римского-Корсакова и «Богемы», от которой особо чувствительные слушательницы исходили слезами – так это было по-настоящему, по-человечески глубоко и, поверьте мне, современно. После разрываХотя отец уже более года назад окончательно ушел из семьи, мама понимала это умом, но не сердцем, быть может оттого, что иногда он по вечерам приходил, как прежде садился за свою коллекцию марок, а я присоединялся к нему, занимаясь своей, пока что крохотной, и тоже мечтая стать коллекционером[48]. Казалось, все идет посемейному. Мама подавала отцу его любимый чай, а когда и ужин – прямо на стол, где он раскладывал альбомы и кляссеры, и вечер незаметно проходил. Потом отец спохватывался, что пора уходить; мама чуть ли не умоляюще предлагала ему остаться ночевать, говорила, что уже поздний час и что нет смысла тащиться с Петроградской стороны через полгорода. Отец колебался – уходить или остаться, иной раз явно затягивая свое решение: старая многолетняя привычка, что его настоящий дом здесь, у нас, еще действовала. Иногда в комнату заходил брат Сережа и говорил: «Степа! Не валяй дурака, оставайся, завтра тебе рано вставать и бежать на репетицию…» Бывало, что отцу явно хотелось остаться, но сделать это мешали, видимо, данное им слово, что ночевать он не останется, и вполне вероятный скандал в новой семье, дружно, всем кагалом, на него нападавшей – молодая жена, ее весьма напористый старший брат и теща. Оставался отец не каждый раз как приходил, и мама, молча мучаясь с конца вечера мыслью «Уйдет или останется?», с надеждой в душе, что останется, всячески старалась угодить любимому, создать уют и домашнее тепло. Когда отец оставался и ложился спать в давно привычную семейную двуспальную кровать, между ним и мамой иногда возобновлялась близость – как женщина мама ему нравилась, а она, счастливая, бывало всю-то ночь не спала, смотрела на него спящего и берегла сон любимого ею больше жизни человека. В такие становящиеся все более редкими дни у мамы вновь вспыхивала иллюзия, что отец может возвратится к ней, и тем больнее ей было переживать в дальнейшем разлуку с ним неделями, а то и месяцами, давя в душе оскорбленное женское самолюбие. Вдруг отец неожиданно снова приходил, и погасшие, с болью заглушенные надежды мамы на возможное возвращение любимого вновь вспыхивали в ее сердце. Маме было еще 44-45 лет, она не утратила своей красоты и женской привлекательности, отцу же – 40. В любви и преданности мамы (Мумы, как он ее называл) он никогда не сомневался, но (хоть это было глупо) с самого начала их романа очень ревновал маму к ее прошлому, к прежним замужествам. Мама была перед ним чиста, и вся ее «вечная вина» заключалась лишь в том, что судьба послала ей любимого на четыре с половиной года моложе! Любовь Сергеевна Корганова (урожденная Алексеева)У купца, фабриканта и промышленника, коммерции советника, почетного гражданина Сергея Владимировича Алексеева и его жены Елизаветы Васильевны (урожденной Яковлевой), сразу без памяти влюбившихся друг в друга и хранивших взаимную верность до конца дней своих, было десять детей. Случись такое при советской власти, Елизавета Васильевна могла бы попасть в число матерей-героинь. Однако в старину иметь много детей было только нормально, а многодетные матери пользовались общим уважением. Правда, не все дети супругов Алексеевых дожили до преклонных лет – их третий сын Александр умер младенцем, а предпоследний ребенок, сын Павел, скончался в возрасте 13 лет от менингита на почве туберкулеза, и никакие предпринятые меры лечения, в том числе отправка на кумыс, в целебность которого верили в то время, результатов не дали и никакие деньги достаточно богатого Сергея Владимировича не смогли спасти их сына. Подтвердилась бытующая теория, что туберкулез передается в третье поколение, а Пава Алексеев по линии отца был внуком Елизаветы Александровны Алексеевой (урожденной Москвиной), скончавшейся от туберкулез за в сравнительно молодом еще возрасте, 47 лет. Остальные дети Сергея Владимировича дожили до старости. Из них первые четыре получили известность как театральные деятели, артисты, и вошли в историю русского и, отчасти, мирового театра. Владимир Сергеевич Алексеев, Константин Сергеевич Алексеев (Станиславский) и Зинаида Сергеевна Соколова (урожденная Алексеева) в советское время удостоились правительственных наград: Владимир Сергеевич и Зинаида Сергеевна – званий Заслуженных артистов Российской Федерации, а Константин Сергеевич Станиславский – Народного артиста Российской Федерации и Народного артиста Советского Союза. Анна Сергеевна Штекер (урожденная Алексеева) была весьма талантлива, но званий не имела, а была известна как актриса первых сезонов молодого Московского Художественного театра, выступавшая под псевдонимом А. С. Алеева. Следующий их сын, Георгий Сергеевич Алексеев, активный участник «Алексеевского кружка», талантливый актер, отдал дань театру на уровне любителя. Жил он со своей семье й в Харькове, где возглавлял представительство семейной фирмы «Товарищество Владимир Алексеев». Георгий Сергеевич организовал в Харькове общественный любительский театр, выступавший на достаточно высоком профессиональном уровне[49]. Следующий сын, Борис Сергеевич, в 1900—1901 годах был артистом МХТ, выступал под псевдонимом Б. С. Полянский. Последний (десятый) ребенок Сергея Владимировича и Елизаветы Васильевны Алексеевых, дочь, Мария Сергеевна (в замужествах Оленина, Севастьянова, Балашова), была оперная певица, выступавшая под псевдонимом М. С. Аллина. И только восьмой их ребенок, дочь Любовь (двойняшка с братом Борисом), не имела непосредственного отношения к театру хотя в юности была участницей, на небольших ролях – хористкой домашнего «Алексеевского кружка»; сохранились ее фотографии в массовых сценах оперетты «Микадо или город Титипу» английского композитора Салливена. Любовь Сергеевну знала вся интеллигентная Москва, она славилась своей красотой, за каковую прозвали ее Московской Венерой. С осени 1886 года семейный «Алексеевский кружок» работал над опереттой «Микадо или город Титипу», а декорации к спектаклю создавал молодой, начинающий, в будущем знаменитый художник Константин Алексеевич Коровин; еще в ту пору он отдал дань красоте юной 15-летней Любы Алексеевой, создав для нее одеяние Ангела – сохранилась фотография Любови Сергеевны в этом костюме. Позднее, когда Любовь Сергеевна была уже замужем, ее одарили своим вниманием Леонид Витальевич Собинов и Федор Иванович Шаляпин. С Федором Ивановичем у Любови Сергеевны, видимо, назревал серьезный роман, неожиданно для Федора Ивановича прервавшийся. Свидетельством тому служат сохранившиеся два письма Шаляпина к Анне Сергеевне Штекер (старшей сестре Любови Сергеевны). Одновременно они свидетельствуют о существовавшей близкой дружбе между молодым, начинающим свою карьеру Ф. И. Шаляпиным и семьей Алексеевых. В письме от 27 декабря 1898 года Федор Иванович писал:
Другое свое письмо к Анне Сергеевне Штекер (написано в 1900 г. не позднее ноября) Ф. И. Шаляпин кончил фразой: «Мне хочется узнать, где Л…, что с ней и хорошо ли ей живется… счастлива ли она?»[50] Об их романтических отношениях свидетельствует и следующий эпизод, о котором рассказывал племянник Любови Сергеевны (сын ее сестры Марии Сергеевны) Герман Васильевич Севастьянов. Произошло это в конце двадцатых, начале тридцатых годов; гуляя по Парижу, Федор Иванович Шаляпин увидел идущего ему навстречу по другой стороне улицы Германа Васильевича, которого знал с детских лет; узнав его еще издали, Федор Иванович быстро пересек улицу и на ходу, еще приближаясь к Герману Васильевичу громко стал спрашивать его: «А Люба, Любушка-то как? Как она?» Этот эпизод говорит сам за себя, в особенности если принять во внимание, что с их романтических лет прошло около, или даже больше 30 лет, а Федор Иванович не забыл о Любови Сергеевне! Есть еще одно, хотя, быть может, косвенное доказательство если не романтических, то дружественных отношений между Любовью Сергеевной и Федором Ивановичем Шаляпиным. Автор этих строк, то есть я, в 1935 году окончил высшее учебное заведение, и Любовь Сергеевна, в качестве подарка, преподнесла мне клавир оперы «Алеко» С. В. Рахманинова, когда-то принадлежавший Шаляпину, в котором были собственноручные карандашные пометки Федора Ивановича, транспонировавшего некоторые высокие для него, баса, места партии Алеко, написанную композитором для баритона, а Шаляпин мечтал спеть и создать этот образ. Ему удалось, и в начале сезона 1921—1922 годов (последние сезоны Ф. И. Шаляпина в Советском Союзе перед его отъездом за границу) в Малом оперном театре Петрограда я имел счастье видеть и слушать его в партии Алеко. Но, возвратимся к клавиру, когда-то принадлежавшему Шаляпину и оказавшемуся у Любови Сергеевны – мне кажется, есть основания предполагать, что Федор Иванович подарил его Любови Сергеевне на память о себе, о дружеских отношениях между ними; наконец, можно предположить, что, будучи у Любови Сергеевны в гостях, Шаляпин пробовал репетировать у рояля партию Алеко и забыл клавир, когда уходил. Как бы то ни было, факт остается фактом. Любовь Сергеевна оказалась владелицей этого клавира. В семье моих родителей всегда существовал своеобразный «культ» Леонида Витальевича Собинова, которого в молодости боготворил мой отец, и Федора Ивановича Шаляпина, тогда же совершенно ошеломившего отца в партии Грозного в опере «Псковитянка». А через 15 лет отцу суждено было встретиться с Шаляпиным на сцене Народного дома в Петербурге. Было это в 1913 году и в последующие годы, вплоть до отъезда Шаляпина, они часто пели вместе в разных операх, на разных сценических площадках Петрограда. Моя мать с молодых лет, как и вся семья Алексеевых, была знакома и дружила с обоими знаменитыми певцами; мы, дети, постоянно слышали разговоры о Собинове и Шаляпине и понятно, что подаренный мне тетей Любой клавир «Алеко», когда-то принадлежавший самому Шаляпину, был так для меня дорог. Но случилась воина 1941 года, я работал на военном заводе и был с ним эвакуирован под город Омск. Мама ехала со мной в эвакуацию, и мы, сентиментальные, непрактичные люди, прежде всего начали откладывать, что бы взять с собой – фотографии близких, родных и друзей, дорогие сердцу предметы, забыв, что едем в Сибирь, неизвестно куда и в какие условия, и что вскоре нас ожидает жестокая сибирская зима. В числе сразу отобранных предметов были «Моя жизнь в искусстве», подаренная мне К. С. Станиславским с его автографом, и клавир «Алеко», подарок тети Любы – клавир Шаляпина! Но нам разрешили взять с собой в эвакуацию не более чем по 50 кг груза на человека, и надо было выбирать более прозаические, но жизненно необходимые вещи; ранее отложенные дорогие сердцу предметы пришлось спешно пересматривать, потому что срок сборов был очень мал, и многое следовало оставить в Ленинграде. Любимые вещи несколько раз перекладывались туда-сюда, в том числе и клавир «Алеко», взять который с собой все-таки не довелось. Возвратясь в декабре 1944 года из эвакуации, я не обнаружил многого: книг, альбомов с открытками, нот и прочего – что-то разворовали, что-то сожгли в «буржуйках», спасаясь от страшного холода. Винить за это людей было бы грешно и несправедливо. Исчез и уникальный клавир с пометками Ф. И. Шаляпина. Но вернемся к Любови Сергеевне. Красивая, очаровательная Любочка Алексеева в 1890 году вышла замуж за участника «Алексеевского кружка» Георгия Густавовича Струве. Брак оказался недолгим. Не знаю, что их разлучило, может, то печальное обстоятельство, что Любовь Сергеевна не могла вынашивать детей ввиду обнаружившегося у нее заболевания почек, и доктора запретили ей беременеть, так как это грозило потерей зрения! Однако, возможно, сыграли роль природная влюбчивость и сильный темперамент, свойственные всем сестрам Алексеевым (за исключением, пожалуй, Зинаиды Сергеевны, обладавшей железной волей и несколько аскетическими взглядами на жизнь). Но факт остается фактом – в 1893 году Любовь Сергеевна вторично вышла замуж за своего двоюродного брата, умного и необыкновенно обаятельного Василия Николаевича Бостанжогло (свадьба состоялась 2 мая 1893 г.) Василий Николаевич был старше Любови Сергеевны на 11-12 лет. Однако их брак тоже оказался не столь уж длительным, а почему прервался, я не знаю и могу только догадываться. Из пояснений к «Генеалогическому древу Бостанжогло-Яковлевых», составленных Вадимом Борисовичем Рэкстом, прямым потомком Марии Васильевны Бостанжогло (урожденной Яковлевой, родной сестры Елизаветы Васильевны Алексеевой, матери Любови Сергеевны), следует, что Василий Николаевич Бостанжогло был долгое время в близких отношениях с Александрой Петровной Смирновой (дочерью Петра Арсеньевича Смирнова, владельца знаменитых водочных заводов), у которой от Василия Николаевича был сын Вадим Васильевич Борисовский, впоследствии известный альтист, игравший в Квартете имени Бетховена, создатель русской школы альтистов. Вадим Васильевич Борисовский родился в 1900 году. Теперь вспомним про приведенные ранее письма Ф. И. Шаляпина к Анне Сергеевне Штекер. Первое письмо от 27 декабря 1898 года, в котором Федор Иванович задает вопрос: «Не знаете ли, что случилось с Любовью Сергеевной, она меня в чем-то обвиняет, но сути дела мне не говорит, чем я обижен страшно. Эти два дня, вчера и сегодня, я провел убийственно скверно. Любовь Сергеевна ужасно странная особа и я ее перестаю понимать…» Если все же допустить, что между Федором Ивановичем и Любовью Сергеевной назревал серьезный роман, то напрашивается вывод, что в конце 1898 года Любовь Сергеевна его прервала. Свидетельствует ли все вышесказанное о том, что между Любовью Сергеевной и ее мужем-кузеном Василием Николаевичем Бостанжогло, несмотря на его ум и обаяние, уже где-то в 1897 году «пробежал холодок»? Обратимся ко второму письму Шаляпина к А. С. Штекер, написанному не позднее ноября 1900 года: «Мне хочется узнать, где Л…, что с ней и хорошо ли ей живется,… счастлива ли она?» Эти строки говорят о том, что в 1899—1900 годах в жизни Любови Сергеевны произошло коренное изменение, как оно в действительности и было; очевидно, именно в эти годы Любовь Сергеевна вышла третий раз замуж за красивого, веселого, обаятельного шутника Иосифа Ивановича Корганова, армянина по национальности. Оба очень любили детей и часто приезжали к Марии Сергеевне и Петру Сергеевичу Олениным, чтобы поиграть и, как теперь говорят, «пообщаться» с их маленькими сыновьями Женей и Сережей, родными племянниками Любови Сергеевны. По состоянию здоровья Любови Сергеевне нельзя было беременеть, а иметь детей обоим супругам очень хотелось, и тогда в 1902 году Любовь Сергеевна и Иосиф Иванович удочерили девочку Любу, а позднее на год или два усыновили родного брата этой девочки Костю; это были дети какой-то деревенской женщины. Иосиф Иванович Корганов (или дядя Жозеф, как его называли дети – племянники и племянницы тети Любы), был обаятельный и веселый человек, и у знавших его людей остались о нем добрая память и тексты куплетов, которые он любил напевать: Вот идет дама, с длинным хвостом, Или: Играл на кларнете мой Франц молодой, Еще пел он Сереже Оленину: Сережа, Сережа, миленький друг, Через несколько лет Любовь Сергеевна и Иосиф Иванович расстались. В семье говорили, будто разрыв произошел по той причине, что Иосиф Иванович по натуре был игрок, и все деньги, а потом и семейные драгоценности стал проигрывать на скачках. Рассказывая о Любови Сергеевне, просто невозможно не упомянуть о ее давнишней любви к кошкам, которых у нее (насколько я помню) всегда было много, разных мастей и расцветок – и рыжевато-серых, полосатых, и светло-серых, голубоватых. Она нежно любила эти грациозные, ласковые, уютные создания, может быть, бессознательно перенеся на них нежность неудовлетворенного материнства. Поколения кошек менялись и сопровождали жизнь Любови Сергеевны, несмотря на трудные советские годы, до самой ее кончины 23 марта 1941 года. Четвертым (гражданским) мужем Любови Сергеевны Коргановой стал ее племянник, молодой хирург Алексей Дмитриевич Очкин. Он был товарищ по Московскому университету Михаила Владимировича Алексеева, сына Владимира Сергеевича Алексеева. В семье Алексеевых А. Д. Очкин, по-видимому, стал бывать не ранее 1904 года. Он был младше Любови Сергеевны, вероятно, лет на пятнадцать. Когда возникла между ними близость, я не знаю, прожили же они вместе довольно долго (более 20 лет). Алексей Дмитриевич оставил Любовь Сергеевну около 1930 года, но продолжал заботиться о ней и о ее здоровье до конца ее жизни, вплоть до последней болезни и кончины в 1941 году. Алексей Дмитриевич Очкин очень хорошо относился к нашей маме и нам, ее детям, в частности, ко мне и Алле. Когда мы с мамой приезжали в двадцатых годах в Москву, то останавливались у Любови Сергеевны и Алексея Дмитриевича, они меня одевали, обували и баловали. Алексей Дмитриевич, которого я звал «доктором Кошкиным», даже возил меня в цирк – первый раз в моей жизни, и некоторые цирковые номера помню я до сих пор. В 1927 году Алексей Дмитриевич ездил в Швецию на Международный конгресс хирургов, и с ним ездила Любовь Сергеевна; ехали они через Ленинград и на обратном пути останавливались в Европейской гостинице, в ресторане на крыше которой устроили завтрак, пригласив на него маму и меня. Алексей Дмитриевич Очкин был мягкий в быту, ласковый, приветливый и честный человек; в семье Алексеевых его все очень любили и уважали. Первоклассный врач, он служил ассистентом знаменитого хирурга Владимира Николаевича Розанова (1872—1934) в Солдатенковской больнице в Москве (ныне больница имени Боткина). После ухода в 1929 году B. Н. Розанова на должность главного хирурга Кремлевской больницы, Алексей Дмитриевич возглавил хирургическое отделение Боткинской больницы. После кончины А. Д. Очкина (кажется, это случилось в 1952 году) напротив здания этого отделения ему был поставлен памятник. Похоронен он в Москве на Новодевичьем кладбище. После ухода Алексея Дмитриевича Любовь Сергеевна переехала жить в бывшую столовую, а в соседней комнате, где когда-то была их спальня, поселился приемный сын Любовь Сергеевны Константин Иосифович Корганов с женой Татьяной (кажется, Сергеевной) и их дочкой Любочкой (тогда еще девочкой). Мама решила уехать в Москву…Слегка покачивало, навевая сон. Колеса поезда равномерно и монотонно постукивали на стыках рельс, отбивая знакомый ритм. Что это – подумал я в полудреме, – что-то очень знакомое. А… это же марш, который брат Сережа, когда еще жил дома, играл на пианино нам, малышам – мне и сестре Тисе… Ну, как это: Трам-та-та, тарита-трам-тa-тa! Трам-та-та! Конечно же, это марш из балета «Конек-Горбунок»… Чей же он? – вспоминал я, и картины раннего детства мелькали в памяти. Однако тело начинало ныть от лежания на третьей, неудобной багажной полке, ничем не застеленной, куда мама меня поскорей уложила с частью нашего багажа – сразу, как только мы очутились в едва освещенном общем смешанно-плацкартно-сидячем вагоне поезда «Петроград-Москва». Хорошо еще, что мы наняли носильщика, который продрался сквозь толпу пассажиров, плотно обступивших вход в вагон, стараясь первыми в него попасть; он успел занять для нас вторую и третью полки, и, пока еще не ушла из вагона провожавшая нас моя сестра Тиса, присматривавшая за нашими вещами, чтоб они не исчезли в снующей по вагону разношерстной толчее провожающих и отъезжающих, мама успела кое-как устроиться на второй полке, подо мной, подстелив под себя шубу. О постельном белье в то время не могло быть и речи… На пороге грядущего НЭПа страна только-только начинала выходить из безвременья военного коммунизма и гражданской войны. Я сказал, что ехали мы в поезде «Петроград-Москва», сказал по привычке, надо было уже отвыкать от милого и привычного названия родного города, так как совсем недавно, после кончины Ленина, его переименовали в Ленинград, и это еще не прижилось в сознании. «Странно как-то, наш Петроград все любовно называют Питером, а как же теперь любовно назвать Ленинград? Неужели по аналогии – Литер? Как-то казенно и неприлично, просто глупо!» – подумалось мне, и я снова начал подремывать под мерное покачивание вагона. Однако, вероятно от пережитого нервного напряжения при отъезде, даже в полусне, мысли мои продолжали работать: «Проехали ли Любань?… Там всегда торговали прекрасными садовыми и полевыми цветами, и все пассажиры считали своим долгом привезти красивый букет своим близким или друзьям. Впрочем, какие в марте цветы… А вот Вышний Волочек, конечно, еще впереди, и может быть, мама еще не спит, ждет его (почему-то маме была симпатична эта станция). А Бологое – это половина пути до Москвы, там меняют паровоз и поезд будет долго стоять, а пассажиры, не боясь отстать, побегут на станцию с чайниками набирать кипяток. А далее?… Клин. Это уже за Бологим, ближе к утру, на самом подъезде к Москве. А где же Акуловка?…» – и, инстинктивно найдя новое положение на жесткой полке, убаюканный постукиванием поезда, я окончательно заснул. Потом, сквозь сон, почувствовал, что поезд стоит; за окном слышались голоса и отдаленные, похожие на команды крики, затем – толчок, лязг тормозов, и я понял, что мы в Бологом. Проснулся я, когда было уже более или менее светло даже на моей полке… Заглянув вниз, я увидел, что мама тоже не спит, и осторожно перебрался к ней на вторую полку. Повернувшись к окну и слегка прижавшись, я увидел бело-голубоватое небо и на горизонте, на фоне светло-серых туч, в утренней дымке белый город и парящие над ним поблескивающий золотом купол на прямоугольном строении, а правее – стоящую, как указующий в небо перст, увенчанную золотой главой белую башню, освещенную розоватым светом всходящего за тучами солнца. «Храм Христа Спасителя и колокольня Ивана Великого, – сообразил я, – значит, подъезжаем к Белокаменной». В сутолоке пассажиров, стремящихся поскорее выйти на перрон, мама подозвала пробравшегося в вагон носильщика, сказав ему: «К стоянке извозчиков, пожалуйста». Вообще-то пролетки московских извозчиков она не любила. Действительно, по сравнению с питерскими, у них были неудобные высокие подножки, куда женщине в длинной юбке с трудом удавалось поставить ногу; сиденье кучера располагалось выше, а спинка пассажирских мест – ниже, и казалось, что при внезапном толчке можно вылететь через нее назад. Кроме того, рессорная пролетка наклонялась в сторону седока, когда тяжесть его тела передавалась высокой подножке, и это создавало дополнительное неудобство при посадке. Извозчик, которых тогда в Москве было еще много, не заставил себя долго ждать – лихо подкатил, и, вслед за мной, мама поднялась на пролетку; мы уселись поудобнее, прикрыв колени плотным накидным пологом. «Куда прикажете?» – спросил извозчик; «Пожалуйста, на Тверской бульвар, к Никитским воротам, дом 9 – это третий или четвертый от Никитских ворот», – ответила мама. Извозчик подобрал и слегка натянул вожжи, баском полупропел: «Ну, пошла!», и пролетка покатилась по булыжникам Каланчевской площади. Сзади, справа, остались Николаевский и Ярославский вокзалы, слева «поплыл» Казанский с его красной башней, шпилем и часами с затейливым циферблатом. Мы ехали к моей любимой тете Любе, маминой родной сестре, ее милейшему, всегда мягкому и ласковому Алексею Дмитриевичу Очкину – входившему во все большую славу великолепному хирургу. Проехав под виадуком в конце Каланчевской площади, мы повернули налево и, поднимаясь слегка в гору, выехали на Мясницкую улицу. Лошадка, что, пофыркивая, мерно бежала, вдруг два раза подряд фыркнула, и брызги пены ее слюней промелькнули в воздухе рядом с пролеткой. Мама быстро достала носовой платок, флакончик духов и одеколон и, смочив платок, отерла им рот и нос мне, затем – себе; достала другой платок и сказала: «Дыши носом или через платок, бывает, что лошади болеют сапом – есть такая страшная болезнь, упаси Боже заразиться ею!» В Москве у тети ЛюбыЕще сквозь сон я слышал приход утра – именно слышал, так как о его наступлении возвещали почти без перерыва позванивающие одно-вагонные трамвайчики бульварного кольцевого маршрута «А», деловито и весело, как мне казалось, пробегающие вдоль по Тверскому бульвару. Лежа с закрытыми глазами, я старался по звону и стуку колес определить, в каком направлении очередной трамвайчик бежит: к Никитским воротам или же в противоположную сторону – туда, где стоит знаменитый памятник Пушкину (знакомый испокон веков по многочисленным фотографиям и настольным статуэткам), в то время, еще обращенный лицом к Тверской и лиловато-кирпичному Страстному монастырю, на месте которого теперь находится кинотеатр «Россия» («Пушкинский»)[51]. На Тверском бульваре у Никитских ворот стоял также памятник какому-то Тимирязеву – в свои 11 лет я плохо представлял себе, кем он был: то ли революционером, то ли ученым, то ли и тем и другим. Прямой одеждой своей памятник напоминал мне монаха или Дона Базилио из «Севильского цирюльника», только почему-то без присущего последнему широченного пояса и шляпы с огромными полями, вытянутыми вперед и назад, которую я, впервые увидев памятник анфас, пытался представить себе, обходя его кругом, дабы разглядеть сзади (вероятно, по аналогии с памятником Пушкину). Я с малого детства привык к великолепным, тонкой работы скульптурам Петрограда, а посему топорно сделанный памятник Тимирязеву мне не нравился, казался грубо отесанным, что ли, и этим, и своей чернотой внушал неприязнь, в особенности если доводилось быть возле него в сумерки. Но вернемся к наступающему дню. Если утренний сон оказывался некрепким и мне уже не спалось под звон и постукивание часто пробегающих трамваев, я, приоткрыв щелки глаз, погружался в утренний полумрак, царящий еще в глубине большой, вытянутой комнаты с окнами в торце, где меня укладывали спать на импровизированной постели, помещавшейся на сундуке. Если удавалось перебороть сон, я приподнимался на локте и заглядывал через подушки своего изголовья, пытаясь определить, спит ли мама на длинном диване, стоящем вдоль той же левой стены, что и мой сундук, только ближе к застекленной балконной двери. Когда утро было солнечное, – блики от окон и балконной двери ложились слева направо на желтый натертый пол. Я присматривался к неподвижно лежащей на правом боку маме и старался определить, спит она или просто тихо лежит, закрыв глаза, может быть даже всю ночь, в тысячный раз переживая свое женское горе, убегая от которого, она вместе со мной и оказалась собственно здесь, в Москве. Шла весна 1924 года. Приехав из Ленинграда, мама и я довольно продолжительное время жили у Любови Сергеевны Коргановой, в то время, пожалуй, самой близкой маме по душе сестры и моей любимой те тки. Тетя Люба тогда жила еще со своим последним мужем Алексеем Дмитриевичем Очкиным. Детей у них не было; вероятно, это обстоятельство и, конечно, близость сестер явились причиной той искренней теплой любви и внимания, которыми меня окружили заботливые и ласковые хозяева. Я уже ранее рассказывал, что тетя Люба очень любила кошек, их всегда было у нее множество (в то время – пять взрослых кошек и четыре трех-четырехмесячных прелестных, грациозных, очень забавных котенка). Среди них любимцем слыл светло-серый гладкий кот Ваня, который допускался в спальню, приходил к тете Любе в кровать вечером и по утрам, чтобы «пожелать ей доброй ночи» или «поздороваться». Каждое утро начиналось с того, что за дверью спальни хозяев раздавался ласковый, шутливый голос Алексея Дмитриевича, говорящего коту: «Ваня, пищи! Ваня, пищи!»; кот мяукал, после чего дверь приоткрывалась, и Ваня, к ужасу моей брезгливой мамы, стремглав бежал «здороваться» к ней – прыгал на постель и норовил ткнуть ее носом в лицо. Вероятно, все эти обстоятельства и послужили причиной того, что я стал звать милого, чудесного, ласкового, баловавшего меня Алексея Дмитриевича Очкина «доктором Кошкиным». В первые же дни после приезда в Москву мы с мамой ездили на кладбище Алексеевского женского монастыря, на котором тогда еще находился родовой склеп Алексеевых – маминых родителей Сергея Владимировича и Елизаветы Васильевны, их детей и близких членов семьи… В моей памяти запечатлелось, что надземная часть склепа была из черного полированного камня и на одной его стене находилась застекленная мозаичная икона Божьей Матери с младенцем Иисусом, перед которой висела лампада. Несколько ступенек вниз вели в его подземную часть, где стояли гробы. Кроме маминых родителей, в склепе были погребены их сыновья – Павел и Борис Сергеевичи, а также первый ребенок К. С. Алексеева-Станиславского и Марии Петровны Алексеевой (урожденной Перевощиковой) – дочь Ксения. В середине 1922 года последней была захоронена Прасковия Алексеевна Алексеева (урожденная Захарова) – жена Владимира Сергеевича Алексеева и мать его детей. Через несколько лет, в связи с начавшимся строительством первой линии метрополитена, Алексеевский женский монастырь и прилегающее к нему кладбище частично уничтожили, а перед этим потомкам было разрешено перезахоронить близких на других кладбищах. Жившие в Москве родственники перезахоронили Алексеевых на немецком Введенском кладбище (около Новой дороги, близ госпиталя имени Бурденко). Кто-то из родственников мне рассказывал, что в склепе, видимо, побывали грабители, искавшие в гробах золотые вещи (нательные кресты, иконы); гробы были открыты, на полу лежали части скелетов, в том числе – череп Елизаветы Васильевны, принадлежность которого определили по сохранившимся седым волосам. Все останки Алексеевых перезахоронили на участке № 13 Введенского кладбища, и на могилу положили массивную черную каменную плиту, с выбитыми на ней именами, отчествами, датами рождения и кончины[52]. В первые же дни пребывания в Москве мы с мамой посетили дядю Володю и тетю Зину. После этого маме пришлось написать приводимое ниже письмо моему отцу. Так уж получилось, что, уезжая со мной в Москву, мама рассчитывала жить здесь на деньги, которые должна была получить от Владимира Сергеевича, а он, не зная о нашем приезде, отослал их в Ленинград.
Дом, в котором жила тетя Люба находится почти у Никитских ворот, совсем близко от Леонтьевского переулка и дома № 6, где три года назад (в марте 1921 года) поселились семья К. С. Алексеева-Станиславского и его старшая сестра Зинаида Сергеевна Соколова (урожденная Алексеева), верная помощница Константина Сергеевича по возглавляемой им Оперной студии Большого театра. Впервые в дом № 6 по Леонтьевскому переулку привела меня мама. От тети Любы нужно было пройти два или три дома до Никитских ворот, пересечь Тверской бульвар и дойти до углового здания с закругленным фасадом на другой стороне Тверского бульвара[56]. Это было место соблазна – здесь, на первом этаже, помещалось крохотное заведение, лавочка-забегалочка, где можно было, сев за столик, скушать совершенно замечательный (как нам с мамой тогда казалось) розовый душистый варенец, продававшийся в небольших белых фарфоровых стаканчиках. Мы с мамой нет-нет да и захаживали в этот уютный, «вкусный» уголок, когда это позволяли скудные средства. Против этого дома с закругленным фасадом, через Большую Никитскую улицу помещался синематограф, как еще по старинке продолжали называть кинотеатры, в котором шли все самые новые заграничные и отечественные картины, несмотря на малые размеры довольно душного зала; вход в кинотеатр тогда был с угла Большой Никитской и Никитского (ныне Суворовского) бульвара. Теперь это кинотеатр повторных фильмов. Как-то тетя Люба повела меня в этот синематограф смотреть картину с замечательной актрисой Глорией Свенсен, поразившей меня, в первый момент, своей некрасивостью, но обладавшей такой неотразимой женственностью, прекрасной фигурой, а главное – непередаваемым обаянием, что невозможно было отвести от нее взгляд и, раз увидев, забыть. Фильм был комедийный, его сюжетную канву я помню до сих пор, но основное, что запомнилось, – это неповторимый шарм великолепной актрисы и женщины, чего я еще не понимал в свои одиннадцать лет, но, как видите, помню Глорию Свенсен всю жизнь. За угловым домом с закругленным фасадом на Большой Никитской, первой улицей налево был Леонтьевский переулок; пройдя немного по его левой стороне, путник оказывался перед зданием № 7, стилизованным под русский боярский терем, с выдающимся в самой середине стены крыльцом с высокой шатровой кровлей, которую поддерживали две старинного вида «пузатенькие» колонны, и металлическим коньком-флюгером наверху шатра[57]. В этом доме размещались музей и магазин по продаже всевозможных предметов народного творчества – кружев, домотканых полотен, сарафанов, разных деревянных и глиняных игрушек, резных раскрашенных и не раскрашенных небольших настенных шкафчиков, ковшей, деревянных расписных ложек, шкатулок и коробочек работы палехских художников и прочих талантливых российских крестьян-кустарей. Бывало, когда войдешь в этот магазин-музей, глаза так и разбегаются во все стороны, и не знаешь, с чего начинать смотреть – так все самобытно, красиво, привлекательно. Про следующий двухэтажный особняк под № 9 с лепными украшениями на фасаде и небольшим палисадником перед ним, огороженным высокой черной чугунной решеткой, мама мне поведала шепотом и с таинственным видом: это был дом московского городского головы Николая Александровича Алексеева, убитого в Государственной думе, двоюродного брата дяди Кости, его сестер и братьев[58]. Цель нашего с мамой путешествия, дом № 6 располагался как раз напротив. Я смутно помню, как мы поднялись к тете Зине (Зинаиде Сергеевне Соколовой) на третий этаж, пройдя через какую-то комнату на втором этаже, где было шумно и сутолочно от скопления разных мужчин и женщин; откуда-то слышалась музыка, кто-то пел. Я шел, оглушенный, робея, боясь и помешать, и потеряться в этой толпе незнакомых людей. Тетя Зина, сперва показавшаяся мне несколько суровой и даже озадаченной нашим неожиданным приходом, поскольку мы оторвали ее от дела (она что-то писала), встретила нас очень ласково, но ее карие глаза были усталые и печальные. Потом мы шли длинным, довольно узким коридором и, спустившись по какой-то другой лестнице – винтовой (не той, по которой мы попали к тете Зине), мы оказались в квартире Станиславских, где нас встретили: меня рассматривали две женщины – кухарка и седая, уже немного к тому времени согбенная, но живая, с острым взглядом и не менее острым языком Наталия Гавриловна Тимашева – экономка, ведавшая хозяйством Алексеевых-Станиславских. Кто такие эти женщины, я узнал значительно позже, а в тот раз стоял растерянный, плохо понимая, куда и зачем меня привела мама. Хозяева квартиры были заграницей – дядя Костя гастролировал «со своим театром» в Америке, а тетя Маруся с Кирой и ее дочерью Килялей (о последней я тогда еще, как говорят, и слыхом не слыхивал) жили где-то в Европе, кажется во Франции, и ждали окончания американского турне. Но возвратимся к описанию жизни семьи в начале 20-х годов. Для поддержания семейного бюджета в то трудное время, Любовь Сергеевна со своей двадцатидвухлетней дочерью Лялей устроили у себя на дому столовую для знакомых, которые приходили к ним завтракать (уж не помню, каждый день или сколько-то раз в неделю). Молоденькая, хорошенькая, с «рысьими» зеленовато-серыми глазами, Любочка-Ляля пользовалась успехом, недостатка в мужчинах, за ней ухаживающих, не было; таким образом, кроме добротной домашней кухни, симпатичная молодая хозяйка также притягивала посетителей. Из нового, непривычного мне меню почему-то мне запомнились небольшие по размеру, остро наперченные вкусные тефтели. Пасха в 1924 году выпала на 18 апреля. Мне вспоминается, что в большой комнате, где мы с мамой жили у тети Любы, встреча этого Великого Праздника проходила за большим, длинным, покрытым белоснежной накрахмаленной, хрустящей скатертью, прекрасно сервированным столом. Пришло много гостей – в основном молодые люди, ухаживавшие за незамужней хорошенькой Любочкой-Лялей, а также Лялины приятельницы. Было довольно оживленно. Разместившись за столом, все ждали, когда ударит мощный колокол Ивана Великого в Кремле и вслед за ним, в весеннем уже, теплом, душистом воздухе зазвенят колокола всех «сорока сороков» московских церквей, и праздничный гул повиснет, поплывет над Москвой, залетая далеко в ее окрестности. Для мамы праздничная ночь была омрачена неприятным инцидентом, вызвавшим недовольство тети Любы, в чем был повинен обожаемый хозяйкой кот Ванечка, которому все разрешалось; так вот, когда гости сели за стол, злополучный Ванечка вздумал прогуляться по празднично сервированному столу, среди яств и столовых приборов, за что был позорно изгнан на пол шлепком руки моей мамы. И, наконец, осталось у меня в памяти, что, в тот приезд в Москву, я начал зачитываться Фенимором Купером и Майн Ридом, живо переживая все невероятные приключения вместе с благородными краснокожими индейцами. В Ленинграде у меня такой невероятно интересной для мальчишки литературы до этого времени не было. Несколько позднее, уже дома, пришла пора романов Кервуда про животных («Бродяги Севера», «Казан», «Сын Казана») и про романтическую, верную, чистую любовь юношей и мужчин к златокудрым, прекрасным, целомудренным девушкам и женщинам (например, «Золотая петля»), облагораживающую души и мысли читателей. Гастроли МХАТа в ЛенинградеВ июне 1927 года в Ленинграде проходили гастроли МХАТа с участием К. С. Станиславского и М. П. Лилиной. Спектакли шли в помещении Большого драматического театра, на Фонтанке. Станиславские и другие мхатовские «старики» жили в Европейской гостинице. Смутно помню короткое, совместно с мамой, посещение тети Маруси и дяди Кости в их номере. Случилось так, что тогда же, там же остановились Алексей Дмитриевич Очкин с тетей Любой, возвращавшиеся из Швеции, куда А. Д. Очкин ездил на конгресс хирургов. Когда мама и я пришли повидаться с ними, тетя Люба и Алексей Дмитриевич пригласили нас позавтракать в ресторане на крыше. Вот здесь-то, на крыше Европейской гостиницы, я впервые в жизни увидел во плоти Ивана Михайловича Москвина; он появился, когда мы уже сидели за столиком, на ходу обменялся поклонами с тетей Любой, мамой и Очкиным, и прошел к столику в отдалении, за которым уже кто-то сидел. Москвина я знал по широко всем известным немым кинофильмам «Станционный смотритель» и «Поликушка», и, конечно, как и других актеров МХАТа – по фотографиям, поэтому сразу же его узнал. Оглядываться назад – туда, где сидел Иван Михайлович, и наблюдать за ним было неудобно, невоспитанно, но очень хотелось, и я все же рискнул раза два под какими-то предлогами на него взглянуть и заметил, что Москвин что-то оживленно говорит – скорее всего, рассказывает сидящим рядом с ним людям (вероятно, тоже мхатовцам, но я их не знал). Шел мне тогда пятнадцатый год; не помню, чтобы до этого я бывал в ресторанах, а тут сразу вдруг завтрак в одном из лучших заведений Ленинграда, на «легендарной» крыше Европейской гостиницы, где, как рассказывали, нэпманы проматывали по ночам целые состояния! Впрочем, обстановка здесь днем, при ярком солнце, меня ничем не поразила. Совершенно не помню меню нашего завтрака, но, как курьез, запомнилось первое заказанное тетей Любой блюдо – это была обыкновенная селедка, причем, заказывая ее, тетя Люба сказала: «Я хочу русской соленой селедки». «Как будто на свете есть сладкая селедка» – подумал я по своей наивности. Но тут же тетя Люба пояснила, что в Швеции селедку подают сладковатой, под розовым соусом, и этой-то, непривычной для русских селедкой, их кормили целый месяц. Милый Алексей Дмитриевич и на этот раз не забыл побаловать меня, привезя из Швеции сувенир: маленький, изящный, настоящий финский ножичек – как полагается, в кожаных ножнах на короткой цепочке с запирающимся крючком, чтобы вешать на пояс. Восторгу моему тогда не было конца! Я с нежностью храню по сей день этот ножичек – память о милом, любимом Алексее Дмитриевиче, моем дорогом «докторе Кошкине»[59]. Но возвращаюсь к дяде Косте и гастролям МХАТа. Помню рассказы моих старших сестер Аллы и Тисы, как они, по просьбе дяди Кости сопровождали его в поездке на извозчике по магазинам Ленинграда. Нужно было ему купить крахмальные пристегивающиеся к рубашкам воротнички; дядя Костя ходил из магазина в магазин, а сестры оставались в пролетке, и продолжалось это до тех пор, пока Константин Сергеевич не привлек своим видом внимание окружающих – его, видимо, узнали, и за ним стала собираться толпа. Заметив это, дядя Костя, так ничего и не купив, поторопился возвратиться к ожидавшему его извозчику и велел ехать в гостиницу. На ленинградских гастролях 1927 года мне посчастливилось посмотреть два спектакля, в которых играли мхатовские «старики» – в их числе дядя Костя Станиславский и тетя Маруся Лилина – это были «Дядя Ваня» и «Вишневый сад» Чехова. Я с малых лет посещал театры, но меня водили главным образом в оперу, реже на балеты и драматические спектакли. Надо сказать, что в то время среди ленинградских любителей оперы и пения к простым драматическим актерам проскальзывало несколько высокомерное, снисходительное отношение, и их, в отличие от певцов, презрительно называли «шептунами». Конечно, я тоже был приверженец оперы – родители-то мои были певцами… И вот я сижу в служебной, крайней справа ложе бельэтажа в Большом драматическом театре на Фонтанке и смотрю первые в моей жизни спектакли МХАТа – «признанного всеми лучшего в мире драматического театра», созданного дядей Костей совместно с Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко! На моих глазах происходит чудо: в отличие от ранее мною виденных спектаклей подобного рода, в постановках МХАТа я улавливаю, понимаю почти весь текст – даже тихо, иной раз почти на шепоте сказанные слова; на сцене двигаются и живут реальной жизнью совершенно не пыжащиеся и не красующиеся люди, в чувства, мысли, поступки которых веришь, как если бы это было в реальной, всамделишной жизни. Как сейчас помню И. М. Москвина в роли Епиходова, со сломанным кием в руках и каким-то наивно-самоуверенным, глупым выражением «тупых» глаз, говорящего Варе: «Работаю ли я, хожу ли, кушаю ли, играю ли на бильярде, про то могут рассуждать только люди понимающие и старшие!» Помню Леонида Мироновича Леонидова – Лопахина, в начале пьесы: затаившегося хищника, жаждущего стать и становящегося потом хозяином этого родового дома и старого вишневого сада, человека, где-то в глубине души даже жалеющего этих милых, но нелепых людей – Раневскую и ее брата Гаева, – не умеющих приспособиться к реальной жизни; он к ним даже привязан и сочувствует им, в какой-то мере, за пределами своих чисто корыстных интересов. И Варю ведь, быть может, он любит, и хочет, чтобы она стала его опорой в жизни, хозяйкой, но чувствует, что душой-то Варя все-таки тянется к тому самому вишневому саду, который он хочет уничтожить ради наживы. Леонидов великолепно, я бы сказал, глубоко прочувствованно, с широтой истинно русского, в чем-то дремучего человека играл Лопахина. Но мне бросилось в глаза, что он передвигался по сцене, все время держась за окружающие предметы, а когда вдруг отрывался от них, то старался (это было заметно) скорее вновь за что-нибудь ухватиться; я тогда не знал, что Л. М. Леонидов был подвержен приступам тяжелого недуга, агорафобии – боязни открытого пространства. Все актеры старшего и, тогда еще молодого поколения (пришедшие в МХАТ в 1924 году), игравшие в обоих, мною виденных спектаклях, великолепно исполняли свои роли, жили в них. Но все же и влюбленный в русскую природу, жалеющий русских людей доктор Астров в «Дяде Ване», и легкомысленный прожигатель жизни, порхающий по ней бонвиван Гаев в «Вишневом саде», по достоверности и тщательности, до мелочей, разработки партитур ролей, по мимике, благородству, изяществу речи и жестов, по подтексту, тонкому юмору в трагической ситуации, смешинке в глазах, знанию эпохи, стиля, одним словом – по ювелирности, филигранности своей игры, необычайному человеческому обаянию, наивности и какой-то душевной чистоте хотя и стояли как бы выше всех исполнителей других ролей в обеих пьесах, не выделялись из общего ансамбля, никого не подавляли, а, наоборот, вели за собой этот знаменитый актерский исполнительский ансамбль – чем всегда так славился Художественный театр в первые три-четыре десятилетия своего существования. Оглядываясь назад, не думаю, что я так воспринял Астрова и Гаева лишь по той причине, что играл их мой знаменитый дядя Костя Станиславский, о ком наслышан я был с измальства. Полагаю, это не так, ведь отзывы людей, тоже смотревших эти спектакли, во многом подтверждали мои еще полудетские осознанные и неосознанные в то время впечатления. Эти спектакли заставили меня понять, каким неповторимым, незабываемым, проникновенным может быть драматическое искусство, и на долгие годы полюбить МХАТ. В последующие годы, когда предоставлялась возможность в Москве ли, в Ленинграде ли попасть на спектакли МХАТа, я старался обязательно использовать их, так как знал, что по исполнительской культуре, по постановочной части, по целостности ансамбля выше театра нет. Первые два спектакля, увиденные мною в 1927 году, принесли мне и некоторый вред, на довольно продолжительное время отбив желание посещать ленинградские драматические театры; из-за этого я пропустил много талантливых постановок с хорошими исполнителями, как старыми, так и набиравшими в то время силы молодыми. Можно сказать, я был «отравлен» МХАТом. Остается добавить, что если тогда, в 1927 году, Константин Сергеевич Станиславский вошел в мою душу и сердце, то сам он вряд ли даже меня запомнил за одну короткую встречу в Европейской гостинице, когда мы с мамой заходили к нему в номер. Годы НЭПаДля страны экономической передышкой на несколько лет явился НЭП, когда экономика явно начала крепнуть, и на какое-то время установилась более или менее нормальная жизнь для населения Ленинграда. Революционный (хотя уже постепенно спадающий) духовный подъем народов вызвал заметное оживление изобразительного и театрального искусства в стране – так сказать, своеобразное продление «Серебряного века», имевшего место в России до Октябрьской революции, но и породившего злополучное движение Пролеткульта – классовой узости малограмотных людей, поставленных и пожелавших руководить искусством, Академические театры, поддерживаемые молодым Советским правительством, персонально в лице А. В. Луначарского и Е. К. Малиновской, интенсивно работали; устраивались многочисленные выставки картин, советского фарфора и другие. Быстро развивалось самое главное (по определению В. И. Ленина) демократическое искусство масс – кино. Сызмальства любя рисовать и даже пробуя писать масляными красками, я одно время мечтал стать художником и старался не пропускать вернисажи, которые периодически менялись в Академии художеств на набережной Васильевского острова и на улице Герцена (бывшая Большая Морская) в Обществе петроградских (ленинградских) художников. В Обществе художников и, в том числе, в помещении на Петроградской стороне, в первой половине двадцатых годов мама и отец иногда пели в устраиваемых Обществом концертах, в благодарность за участие в которых им дарили картины художников – членов Общества. Отец, с его великолепным голосом и вокальным мастерством, занимал ведущее положение лирического тенора в обоих академических оперных театра Петрограда-Ленинграда и, естественно, был моей гордостью (хоть и ушел из семьи, чем обрек на постоянные душевные муки, муки ревности и неудовлетворенной, прерванной любви маму, продолжавшую его беззаветно любить). Когда отец ушел, маме еще не исполнилось 45, она продолжала быть красивой и привлекательной. Во второй половине двадцатых годов ей удавалось еще освобождать себя от домашнего хозяйства, еще была возможность нанимать прислугу – молоденьких девушек, которые занимались приготовлением обедов, стиркой, уборкой квартиры и, живя у нас по несколько лет, обычно увольнялись по причине замужества. Одна из них, очень милая девушка Нюша, приехавшая в Ленинград откуда-то с севера, стала почти членом нашей семьи, прожила несколько лет и, со слезами, рассталась с нами по требованию своей старшей сестры, просватавшей ее пожилому вдовцу, кажется, жившему в Архангельске. В те годы мы все очень любили кино, просмотрели много фильмов с участием Мэри Пикфорд, Дугласа Фербенкса, Гарри Ллойда, Чарли Чаплина, Полы Негри, Конрада Вейта, Греты Гарбо, Джекки Кугона и других знаменитых актеров и начавшие выходить на экраны отечественные фильмы, начиная с «Красных дьяволят». Часто бывало, что ходили мы в кино на последние имевшиеся у мамы деньги, не задумываясь о том, на что и как проживем завтрашний день; бывало мама нас спрашивала: «Дети, у меня осталось несколько рублей, которые нужно было бы оставить на завтра, на хозяйство или же нам всем сегодня пойти в кино смотреть новый (такой-то) фильм, а там – как Бог пошлет?! Как вы скажете?» И мы все дружно, хором кричали: «В кино!» Наша домработница Нюша всегда ходила в кино наравне с нами, участвовала потом в обсуждении и разборе просмотренного фильма, как и мы, дети, собирала открытки актеров кино и участвовала в наших детских и коллективных играх. Конечно, каждый из нас, детей, включая Аллу (которая пыталась стать актрисой, периодически играла в каких-то драматических коллективах, в том числе в «Синей блузе»), и Нюша воображали себя героями этих кинофильмов и стали называть друг друга Румепи, Рудуфе, Рупоне, что означало русская Мэри Пикфорд (Тиса), русский Дуглас Фербенкс (Рыжик, то есть я), русская Пола Негри (Алла). Нюша была Ункас – благородный индеец из романов Фенимора Купера, которыми мы зачитывались. Несмотря на постигшую Марию Сергеевну личную трагедию, она стойко переносила свое горе, никогда не распускалась и, как прежде, продолжала интересоваться и жить интересами театра и искусства, всем по-настоящему талантливым, что встречалось на ее жизненном пути. Так одно время, уже после революции, мама часто посещала концерты, в которых известный драматический артист (снимавшийся также в кино) Владимир Васильевич Максимов исполнял цикл модных тогда мелодекламаций под музыку Боккерини, Моцарта и других старинных композиторов, в паре с известной балериной Мариинского театра Люком[60], в программе «Песенки ХVIII столетия»; оба исполнителя появлялись в костюмах эпохи, в белых париках, и под декламацию В. В. Максимова танцевали менуэты и другие танцы XVШ века. Это были романтические, изящные, изысканно прекрасные номера, резко контрастирующие с разрухой и бытом приземленного, жестокого послереволюционного времени, приносившие зрителям «разрядку» от повседневности. Мария Сергеевна часто посещала концерты известной певицы Зои Лодий, выступавшей в то время в паре с прекрасным концертмейстером Н. Голубовской, в помещении Кружка камерной музыки в доме под № 52, угол Невского проспекта и Садовой улицы. Интересно отметить, что суровое, я сказал бы, временами даже злое и неприятное выражение лица певицы, при ее выходе на эстраду, как только она начинала петь, становилось мягким и привлекательным; Зоя Петровна пела с тонкой психологической передачей смысла исполняемого произведения, она прекрасно владела искусством фразировки. В ее разнообразных программах была камерная классика, русская и иностранная. Конечно, Мария Сергеевна зорко следила за творческими успехами и расширением репертуара Степана Васильевича, радуясь его творческому утверждению как ведущего лирического тенора Мариинского и Михайловского оперных театров. Мария Сергеевна искренне радовалась успехам Николая Константиновича Печковского, который начал выступать в Мариинском театре с сезона 1924/25 годов, а потом выступал на сцене Михайловского театра. Она очень любила, как Н. К. Печковский исполнял партию Германа в «Пиковой даме» Чайковского, и говорила, что со времен Василия Сергеевича Севастьянова (славившегося исполнением этой партии) не встречала более драматически сильного исполнителя. Мария Сергеевна отмечала интересное исполнение Н. К. Печковским «Песенок шута», дававшихся как вставной номер в одной из оперетт, шедших в Малом оперном театре (в Михайловском театре), однако сожалела, что Николай Константинович стал постепенно снижать уровень интерпретации партии Вертера в одноименной опере, по сравнению с исполнением в Оперной студии Большого театра в 1922/23 годах. Мария Сергеевна посещала и сольные концерты Н. К. Печковского. Ей очень нравился своеобразный, со слезой, тембр голоса Н. К. Печковского, и она даже прощала появлявшуюся некоторую гнусавость, портящую тембр певца, высоко ценя темпераментность драматического исполнения. Однако она справедливо отмечала недостатки вокальной стороны, неровность исполнения, когда Печковский был не в голосе (даже, бывало, давал «петухов»), что говорило о не очень еще высоком вокальном мастерстве в те годы. Тем не менее мама считала Н. К. Печковского явлением на оперной сцене. В конце двадцатых годов Алла привезла из Москвы четыре тома произведений С. А. Есенина, которыми мама зачитывалась, очень полюбила до тех пор ей совершенно незнакомого поэта, его народный лирический талант. Кажется, это было первое или одно из первых изданий собрания сочинений Есенина, купить его было невозможно, и мама стала в свободное время переписывать стихи Есенина для себя; несколько таких тетрадей стихов до недавнего времени хранились у меня, затем я отдал их в Народный архив. Когда Мария Сергеевна посмотрела кинофильм «Процесс о трех миллионах», она высоко оценила исполнительный талант неизвестного ей до того актера Анатолия Петровича Кторова из московского Театра Корша. Как-то А. П. Кторов выступал в Ленинграде, и Мария Сергеевна рискнула пойти к нему за кулисы, познакомилась с ним и поблагодарила за его великолепную, талантливую игру, даже попросила подписать ей на память дешевенькую открытку с его портретом – одну из тех, тогда можно было купить в кинотеатрах. Дальнейшие годы показали, как долго большой, искрометный талант А. П. Кторова не находил должной оценки, как долго этого великолепного актера «попридерживали», ему не находилось ролей в МХАТе. А мама сразу увидела в нем большого разностороннего артиста, а уж на «фрачные» роли мало было актеров, которые могли с ним потягаться. В 1926 году в Народном доме Ленинграда гастролировал Леонид Витальевич Собинов, пел партию Дубровского в одноименной опере Э. Направника. Мы с мамой были на одном из спектаклей этого старого друга молодости семьи Алексеевых, с кем в дни замужества мамы за П. С. Олениным они вместе жили в Италии. В антракте мы пошли за кулисы, маме хотелось, хоть коротко, повидаться с Леонидом Витальевичем, который нас радушно встретил, и мы, буквально только 4-5 минут пробыли у него в гримировальной уборной, чтобы не быть в тягость и дать ему возможность отдохнуть перед следующим актом. Я впервые и единственный раз видел Леонида Витальевича, хотя все мое детство сопровождало его имя – Собинова очень любили оба моих родителя. А вот для мамы это посещение оказалось последней встречей с Великим певцом и другом юных дней. Примерно в это же время, во второй половине двадцатых годов, тоже в Народном доме мы смотрели «Кармен» с участием гастролерши Фатьмы Мухтаровой и Николая Константиновича Печковского, игравших в полную силу своих темпераментов, а также «Аиду» Верди с Фатьмой Мухтаровой в партии Амнерис. Певица была в расцвете своих творческих сил, темперамента, а так как много гастролировала по городам страны, то выступала в собственных великолепных театральных костюмах. Потом слушали и любовались игрой Лидии Яковлевны Липковской, приезжавшей в СССР в качестве гастролерши (в то время она, кажется, уже была замужем за сыном французского премьерминистра Пуанкаре). Мой отец еще до революции неоднократно пел с ней в Народном доме и, вот теперь, был приглашен выступить с ней в заглавных партиях оперы «Ромео и Джульетта» Гуно. В том же Народном доме несколько спектаклей пел на своих гастролях Григорий Степанович Пирогов, брат Народного артиста СССР Александра Степановича Пирогова; оба брата были выдающимися певцами (басами). Несмотря на то что Григорий Степанович был бас, он гастролировал в партии Демона, написанной для баритона, в одноименной опере Рубинштейна, а моего отца пригласили исполнить партию Синодала. Конечно, мы с мамой слушали спектакль. Перед ним я ходил на репетиции, почти выучил наизусть партию Синодала, которая мне очень нравилась, и мечтал сам ее когда-нибудь спеть. В 1929 году в Народном доме начала длительные гастроли Харьковская оперетта, но их премьер-баритон Райский, спев несколько спектаклей, уехал на гастроли по Дальнему Востоку, а на исполнение его партий пригласили Степана Васильевича Балашова (моего отца). Труппа Харьковской оперетты была достаточно сильной по исполнителям, а тут еще пригласили петь отца – конечно, на спектакли с его участием ходили все: мама, я, Тиса, Клеш, наши друзья. Отец пел Раджами в «Баядерке» и Эдвина в «Сильве» Имре Кальмана, героя (не помню как его имя) в оперетте Валентинова «Жрица огня», Джима в оперетте «Роз-Мари», выучив его партию за три дня, остававшиеся до спектакля. Партию Джима Степан Васильевич полюбил и в последующие годы исполнял ее с удовольствием на летних гастролях по городам Волги[61]. Конечно, мы слушали и те спектакли, где мой отец не был занят, так как репертуар Харьковской оперетты был разнообразен, шли постановки, не знакомые ленинградцам; исполнительская культура этого театра была достаточно высока, и ленинградцы (включая нас) полюбили его. До 1929 года в городе уже несколько лет не было оперетты, кроме оперетты певца Ксензовского, игравшей в маленьком помещении театра (над знаменитым магазином-гастрономом Елисеева), в котором потом долгие годы работала труппа Театра комедии Николая Павловича Акимова. Видимо, по этой причине гастроли Харьковского театра оперетты в Народном доме на Петроградской стороне затянулись, и в конце концов сильная ее труппа практически целиком осталась в Ленинграде, продолжая выступать в Народном доме, и стала, таким образом, Ленинградским театром оперетты. На место их бывшего премьера Райского, не вернувшегося в труппу (репрессированного по обвинению в шпионаже после его гастролей по Дальнему Востоку), был принят хороший певец, баритон Валентин Львович Легков, выступавший до этого, с начала двадцатых годов, в Михайловском театре; мы хорошо его помнили по совместной работе с моим отцом в спектаклях «Корневильские колокола» Планкетта, «Нищий студент» Миллкера и других из репертуара тех лет. Балетную часть труппы возглавляла великолепная характерная балерина Нина Васильевна Пельцер, являвшаяся много лет «бриллиантом» Ленинградской оперетты. В конце 1929 года в Ленинград на длительные гастроли приехала труппа лилипутов, руководимая Малиновским. В репертуаре этого коллектива значилась оперетта «Ревизор», либретто которой было написано по одноименной комедии Н. В. Гоголя, а музыка представляла собой некую смесь из популярных мелодий; труппа давала также сборные концерты из танцевальных и вокальных номеров и небольших скетчей. Труппа лилипутов ездила по стране из города в город и являла собой административно крепко организованный, дисциплинированный, хорошо налаженный в творческом и бытовом отношениях театральный коллектив, со всеми присущими людям достоинствами и естественными пороками, присущими артистическим натурам: радостью общего творческого успеха, дружеским отношениям или неприязнью кого-то к кому-то, мужской и женской ревностью, когда-то – завистью к успехам или радостью за успех кого-то в труппе, и при всей кажущейся самостоятельности и даже некоторой «премьерской важности» основных исполнителей, напоминала детей, детский коллектив под присмотром их руководителя Малиновского. Некоторые артисты были несомненно одаренными, талантливыми. Например, один из самых маленьких ростом, выступавший под псевдонимом Колибри, был определенно талантлив, темпераментен, очень музыкален, прекрасно танцевал и в «Ревизоре» хорошо исполнял роль Бобчинского или Добчинского. Премьер труппы, Любимов, игравший Хлестакова, обладал хорошеньким личиком и среди женской части коллектива несомненно являлся местным «львом»; он тоже был неплохим исполнителем, хорошо двигался, танцевал и выглядел вполне на месте в роли Хлестакова. Оперетта «Ревизор» в исполнении труппы лилипутов имела явный успех и стала популярной у ленинградцев, посещавших спектакли по нескольку раз, так же как и концерты, так как это было весело, а главное – талантливо. Таким образом, у труппы лилипутов среди ленинградцев образовалась своя публика. Нашей маме, да и нам всем «Ревизор» явно нравился, мы запомнили текст наизусть, а мама его даже записала в одной из своих памятных тетрадей; нравились также отдельные исполнители ролей и номеров в концертах. Любимцем мамы стал лилипут Жорж Колибри, которому она посвятила (сочинила 19 ноября /2 декабря 1929 года) шутливые стихи, приводимые ниже: О, мой Колибри дорогой! Так мама откликалась на все талантливое и интересное, что имело прямое отношение к ее любимому, ставшему ей привычным театральному искусству. В конце двадцатых – начале тридцатых годов между Аллой и Сережей возникла шутливая переписка в стихах, и в одном из писем Алла написала: Ах, Серж! Сказать тебе забыла – Быстро промелькнувшие годы НЭПа сменились годами индустриализации страны, коллективизации сельского хозяйства, многочисленных судебных процессов над вредителями и врагами народа, практикой массовых тюрем и ссылок – годами, когда все жили под гнетом вечного страха, голода в провинции, продуктовых карточек и полуголодного существования для большинства проживающих в Ленинграде, Москве и еще трех-четырех городах, поставленных на особое снабжение. В тридцатые годы нанять прислугу было уже практически невозможно, все девушки и женщины стремились работать на какомнибудь производстве – на заводах или фабриках, в учреждениях. Тиса пошла работать, Алла жила в Москве, учась и работая в театре имени Вахтангова, Сережа с женой Галей и сыном Петяшкой еще несколько лет назад уехали в Шебекино, под Белгород, я учился в институте, поэтому тяжелый неблагоустроенный быт нашей плохо устроенной жизни с примусами и керосинками (газа тогда в Ленинграде не было) в условиях проживания в коммунальной квартире, с начала тридцатых годов все больше наваливался на плечи нашей мамы. Петр Сергеевич Оленин-младшийБыло это в 1925 или 1926 году. В один из вечеров мы всей семьей находились в театре, не помню уже в каком, но могу предположить, что, вероятнее всего, ходили в Мариинский слушать в «Пиковой даме» или в «Вертере» Николая Константиновича Печковского, недавно приглашенного директором академических театров Иваном Васильевичем Экскузовичем премьером на амплуа лирикодраматического тенора. Если можно так сказать, Николай Константинович тогда «входил в силу» в Ленинграде и охотно доставал места для своих поклонниц и поклонников, искренне способствовавших его успеху. В такие вечера, когда бывали семейные выезды в театры или в гости, четырехлетний Петяшка – Петр Сергеевич Оленин – оставался на попечении тети Вари (Варвары Семеновны Гецевич, моей крестной матери), жившей вместе с нами, хотя и на собственном хозяйстве. Петяшка был общим любимцем как всех родных, так и всех близких знакомых, друзей, приходивших в наш гостеприимный дом. Родители его, Сергей Петрович и Галина Владиславовна Оленины, и баба Маня (Севастьянова) обожали Петяшку Этот обаятельный мальчик с лучистыми глазами несомненно был умен и очень талантлив от природы, добр и общителен. В описываемый вечер, возвратясь из театра около половины двенадцатого ночи, мы застали сидящих в столовой Веру Ивановну и Алексея Ивановича Демидовых в обществе Петяшки, который им что-то декламировал. Оказывается, они пришли около половины восьмого вечера, навестить Марию Сергеевну; Петя их любезно пригласил пройти в комнату и подождать возвращения бабуси. Пришедшие были раздосадованы тем, что не застали хозяйку дома, да и никого из взрослых не оказалось, и попросили разрешения немного посидеть с Петяшкой, которого, как и все знавшие этого очаровательного мальчика, очевидно любили. Сняв верхнюю одежду, гости прошли в столовую, где Петяшка их стал занимать как умел. А умел он, по своим годам, не так уж мало – мальчик был смышленый, наблюдательный, обладал хорошей памятью, в том числе музыкальной и быстро заучивал стихи и песни, а когда его просили что-нибудь рассказать или спеть, не кривлялся и не отнекивался и, без стеснения, как говорят, «выдавал товар лицом», а так как это было талантливо и темпераментно, то Петяшку охотно слушали, охотно с ним общались: это никогда не было скучно, наоборот – занятно. К тому же Петяшка не докучал капризами и плачем. Петяшка любезно предложил гостям чая, и тете Варе с домработницей пришлось устроить чаепитие, подав к столу, что нашлось в доме. Вероятно, Петяшка, за целый вечер, исполнил для гостей свой полный «репертуар», в том числе стихи про неудавшуюся прогулку зимой молодой парочки, поскользнувшейся и упавшей возле какого-то дома, из-за чего для молодого человека получился полный конфуз: Морозной пылью серебрится Конечно, прозвучали и столь характерные для двадцатых годов стихи про машину, не дающую ни на миг отдохнуть работающему на ней: Стой, проклятая машина! Вероятно, рассказывал он и другое, про что я забыл за давностью лет, и, наверняка, исполнил свой коронный номер – модную в середине двадцатых годов песенку, довольно фривольного содержания, смысла которой маленький исполнитель, конечно, не понимал; думаю, этой песенке выучил его отец – для забавы взрослых слушателей: Зашла я в склад игрушек Вот так нежданные гости, незаметно для себя, и засиделись до позднего прихода хозяев из театра. В конце 1926 или в начале 1927 годов семья Олениных уехала из Ленинграда в Шебекино под Белгород, где у Галины Владиславовны оставались родные; Ленинград она не любила, и Сереже в конце концов пришлось уступить, так как там царила безработица и найти место стоило большого труда. Галина Владиславовна была дантистом, но, по-моему, к специальности своей была холодна и работала, живя в Шебекино (на своей родине), лишь потому, что нужны были хоть какие-то средства к существованию; она увлекалась любительским театром и с удовольствием всегда в нем участвовала, в том числе и в годы после отъезда из Ленинграда. Мне кажется, это стало одной из причин, почему Галина Владиславовна предпочитала жить в провинции. Сережа устроился в Шебекино в местный клуб музыкальным руководителем и аккомпаниатором. Когда Оленины еще жили в Ленинграде, каждое утро Петяшка приходил к бабе Мане в спальню, пока она лежала еще в большой деревянной двуспальной кровати (на которой мы все, ее дети, родились). Подойдя к бабе Мане, Петяшка здоровался с ней следующим образом: «Доброе утро, бабуся», «Bonjour, grande-mere», «Guten Morgen», «Салям аллейкум», «Низкий поклон» (при этом наклонялся, отвешивая ручкой поклон до пола) и, наконец, хлопал бабу Маню по ладони своей маленькой ладошкой и говорил: «Вот тебе все пять!» На этом утренний ритуал заканчивался и баба Маня спрашивала, обычно, встали ли его мама и папа? Однажды Петяшка пришел хмурый и, не очень охотно проделав утренний ритуал приветствия бабуси, тяжело вздохнул. На вопрос бабы Мани, почему он грустный и будто, не выспался, Петяшка, на вздохе, хмуро ответил: «Всю ночь ругались…» В июне 1928 года мама, Тиса и я (на последние «гроши», как Алла смеялась в своих стихах по поводу этой поездки: «Едут, едут голыши/ на последние гроши…/ Едет, едет, едет рать/ в новом месте занимать!») ездили в Шебекино к Олениным, главным образом, чтобы повидаться, а возможно, и отдохнуть. Пробыли мы в Шебекино недолго, вспоминается, что не более двух недель, жили у какой-то хозяйки в украинской хате, снимали комнату. Глупый шпиц хозяйки так и не привык к нам и каждый раз, когда кто-нибудь из нас входил в калитку садика возле хаты, с лаем бросался на пришельца и не пускал; впрочем, так же бросался он и на свою хозяйку, из чего я сделал вывод, что шпицы – глупая порода. В Белгороде, проездом в Шебекино, мы познакомились с родственниками Гали (жены Сережи), о которых много лет до этого знали понаслышке, так же как и они про нас, и были ими приняты очень радушно, с роскошным, по тем временам, обедом. Тогда мы познакомились с «уютной» бабушкой Гали по материнской линии, звали ее Мария Палладиевна, с милейшим отцом Владиславом Антоновичем Генкст (который, кажется, был сахароваром на заводе, принадлежавшем до революции богачам Ребендерам), с его детьми – уже замужними дочерями Зоей и Леной, и еще маленькой Любочкой, а также с сыном Женей. К Владиславу Антоновичу и Жене местные белгородские власти, видимо, благоволили, хорошо их знали, в чем мы убедились на обратном пути из Шебекино в Ленинград. Но об этом позже. Недавно, перелистывая тетради мамы, где она записывала стихи своих детей, родственников и друзей, я увидел следующую ее запись:
Нa этом я заканчиваю повествование о Петре Сергеевиче Оленине-младшем. Остается досказать, как на обратном пути из Шебекино в Ленинград мы долгие часы сидели в полной неизвестности на вокзале в Белгороде, в чаянии купить билеты хоть на какой-нибудь поезд, который мог бы нас довезти если не до Ленинграда, то хоть до Москвы. Коротая время, я и Тиса стали играть в игру «Военно-морской бой». Играющие расчерчивают квадратный планшет из ста клеток, со сторонами по десять клеток и, аналогично шахматной доске обозначают клетки планшетов буквами по горизонтали и цифрами по вертикали. По своему усмотрению играющие размещают на планшетах различные типы «военных кораблей» – прямоугольники, занимающие, каждый, две, три, четыре, пять клеток на планшете – они изображают канонерки, подводные лодки, крейсеры, дредноуты. Играют следующим образом: противники, поочередно «давая залпы» – называя наименования клеток планшетов, например, 2В, 4К, 7Д (залп из трех выстрелов), стараются «попасть» в «кораблипрямоугольники противника – и, в конечном итоге, все „корабли“ противника „уничтожить“. Если на названных клетках оказывается расположенным какой-то „корабль“, он считается „пораженным“, но, чтобы „уничтожить“ его, надо назвать все клетки, на котором „корабль“ расположен. При „поражении“ противник объявляет, например: „одно попадание в дредноут, другое – в канонерку“. Вот мы с Тисой, чтобы скоротать время, сидели и по очереди называли клетки планшетов и «пораженные военные корабли». А мама наша, сидя, подремывала после довольно утомительного переезда на местном поезде из Шебекина в Белгород. А по соседству с нами все вертелся невзрачного вида неряшливый мужичонка, который, видимо, прислушивался к тому, что мы с Тисой говорили, и наши дредноуты, подводные лодки и канонерки вызвали у него подозрение – уж не шпионы ли мы?! В то время Белгород был пограничным городом между РСФСР и Украиной, – мало ли что может случиться на границе! К тому же я был явно необычно одет – в короткие золотистого цвета атласные штаны и атласную же лиловую рубашку, сшитые из маминых сценических костюмов, таких там, в «пограничном Белгороде», отродясь никто не видывал, а эти разговоры про поражение крейсеров и подводных лодок… ясно, диверсант, шпион! Закончив играть, я вышел на перрон, посмотреть нет ли надежды на приход какого-нибудь поезда, и вот тут, как из-под земли, «вырос» передо мной высокий человек из железнодорожной военизированной охраны; он сказал, чтобы я шел за ним, и привел меня, тут же на перроне, в какую-то комнату с зарешеченным окном, в которой были еще двое военных, начавших меня допрашивать – кто я, почему и для чего я здесь, с кем и про какие канонерки и подводные лодки я говорил? Узнав, что я не один, а с матерью и сестрой, послали человека за ними и через несколько минут привели маму и Тису, и допрос, уже троих, возобновился. Пришлось все подробно объяснять – для чего и к кому приехали, и спасло нас упоминание имен Жени Генкста и его отца Владислава Антоновича, которых, видимо, знали и которым верили. Послали за Владиславом Антоновичем, привезли его, и после того как он нас опознал и подтвердил рассказ о том, почему мы оказались в Белгороде, нас отпустили. К вечеру нам удалось купить билеты и уехать из злополучного Белгорода. Вот среди какой «пролетарской бдительности» мы все еще жили в 1928 году, спустя 11 лет после Октябрьской революции. Впрочем, в 1928 году назревали, а может быть, уже и начались (я не помню) военные события на КВЖД, но это же на Дальнем Востоке… Наша коммуналкаГде-то в короткий период НЭПа, с его успешно расцветающей и укрепляющейся экономикой страны, что было в середине двадцатых годах, в городах, в особенности тех, что располагали высшими и средними учебными заведениями, стал наблюдаться интенсивный приток людей, и особенно заметно это было в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове и других больших культурных центрах. Люди ехали в города на заработки и многие из них жаждали учиться, жаждали получить образование, к которому, с укреплением советской власти, открылась широкая дорога для всех желающих. Плакаты наглядной агитации, повсюду развешанные, гласили: «Ученье – свет! А неученье – тьма!», «Учиться, учиться и учиться!!!» Разрушенная за годы после Октябрьской революции во время гражданской войны промышленность бывшей царской России, необходимость освоения новых для Советской России отраслей промышленности и науки настоятельно требовали обучения новых специалистов, ибо старые, дореволюционные инженерные и научные кадры частично эмигрировали, частично были уничтожены, а среди сохранившихся было много относившихся отрицательно к новой власти, не хотевших на нее работать, предпочитавших саботировать Новой, советской властью был разрешен прием учащихся в высшие и средние специализированные учебные заведения без вступительных экзаменов по признакам социального происхождения и положения. При поступлении в учебные заведения (впрочем, как и в любые учреждения, на заводы, фабрики и т. д.) предпочтение оказывалось выходцам из рабочих и крестьян. Наплыв желающих учиться был так велик, что вскоре пришлось ввести проверку поступающих на элементарную (хотя бы политическую) грамотность, при этом экзаменаторы иногда прибегали к провокационным и просто, казалось бы, нелепым вопросам, например: «Какое расстояние от Пекина до Гоминьдана?» Рассказывали, что один находчивый парень не без остроумия ответил на этот вопрос так: «Такое же, как от Ростова до Рождества Христова!», за что был принят с отличием по политической зрелости. Короткий период НЭПа сменился страшными годами коллективизации и началом индустриализации страны, что привело к массовому оттоку людей из насильственно разорявшихся деревень в города и промышленные центры – на заводы, фабрики и начинающиеся «стройки века». Прибывающих в города людей нужно было где-то расселять, и тогда началось, сначала добровольное, а вслед – насильственное уплотнение частных квартир, то есть дополнительное вселение новых жильцов – так был дан старт длительной эпохе коммунального быта, частично сохранившейся и по настоящее время. Неизбежность насильственного вселения и в нашу квартиру становилось реальностью, и в этот период одна знакомая женщина порекомендовала маме двух молодых людей, приехавших в Ленинград с целью получить высшее образование и не имевших здесь своей кровли над головой; рекомендовала их как порядочных и честных, сказала, что они северяне, прибывшие то ли из-под Котласа, то ли Великого Устюга или Вологды. Через несколько дней молодые люди были приведены к нам для знакомства с мамой, и вологодским «окающим» говорком представились братьями Владимиром и Михаилом Доброумовыми; по первому знакомству они показались маме и нам, детям, деликатными, вежливыми, в какой-то степени воспитанными, и мама обещала подумать – впечатление от разговора с братьями осталось благоприятное, лет им было по двадцать с небольшим, были они холосты, очень хотели учиться по медицинской части. После их ухода состоялся семейный совет, склонявшийся к тому, чтобы пустить в нашу квартиру этих «мальчиков» – кажется, они честные и порядочные. Потом договорились с домоуправлением, что мама как квартиросъемщик добровольно самоуплотнится, предоставив молодым людям одну из комнат в нашей квартире. Вспоминается, что первоначально братья Доброумовы поселились в бывшей нашей столовой, хотя через некоторое время перебрались в комнату, предназначавшуюся для кабинета отца и соседствовавшую с маминой и моей спальней. При переезде к нам братьев Доброумовых нас насторожило то обстоятельство, что юношей оказалось трое – кроме Владимира и Михаила появился еще Дмитрий, обосновавшийся у братьев на довольно длительное время, так что мы стали приучать себя к мысли, что юноши обманули нас при переговорах. Вещей у новых жильцов оказалось совсем немного, и среди их скарба поразили меня невиданные мною доселе туеса – изделия крестьянских умельцев русского севера из бересты: цилиндрические емкости, закрывающиеся круглыми деревянными крышками. Братья Доброумовы – люди с севера, говорили с «окающим» акцентом, за каковой мои сестры Алла и Тиса сразу же прозвали их «боярами». Сами братья выглядели скорее селянами или, в крайнем случае, жителями небольшого провинциального городка или поселка, тогда как Дмитрий, судя по его виду и уверенному поведению, уже приобрел явный налет жителя обитателя города. Трое юношей сразу же после переезда отметили его – «обмыли» или «спрыснули», но все было чинно и тихо, чувствовалось, что братья стесняются, один Дмитрий держался поразвязнее как в день переезда, так и в последующие дни. Прошла неделя, может, две с периодическими небольшими «спрыскиваниями», что было непривычным для нашей семьи, поэтому я на этом и останавливаюсь. Через какое-то время Дмитрий внезапно исчез, так же неожиданно, как «возник» при переезде Доброумовых, и у Володи с Мишей «спрыскивания» прекратились. Выяснилось, что Дмитрий – товарищ Доброумовых и живет где-то в Ленинграде, а его отец считается довольно крупным специалистом по какой-то технической части. На следующее утро после переезда жильцов Доброумовых мои сестры Алла и Тиса, накануне вечером постиравшие свои чулки и повесившие их на веревку протянутую вдоль кухни, стали похохатывать вполголоса – не утащили ли их братья «бояре»?!. Можно представить их смущение, когда из туалета, граничащего с кухней, внезапно появился «боярин» Владимир и, улыбаясь, сказал спокойным голосом: «Не бойтесь, Алла Васильевна и Таисия Васильевна, не мы тронули ваши чулки…» Из братьев Доброумовых более общительным и веселым оказался Владимир, за что получил от сестер прозвище «Владимир Красное Солнышко». Стеснительный и скромный Михаил явно был более хозяйственный и уравновешенный. При общении с еще юными братьями казалось как-то неуместным (при общей простоте тогдашних нравов) называть их по имени и отчеству, да, видимо, и им самим такое обращение было непривычным, и вскоре все проживающие в квартире стали их называть просто Володя и Миша, а между нами быстро установились дружеские отношения – даже то периодически появляющегося, то вновь исчезающего Дмитрия мы стали звать Митей. Володя и Миша хотели получить медицинское образование, и им удалось попасть в число студентов медицинского института, куда был принят, по-моему, Володя, а Миша попал (боюсь наврать!), кажется, на ветеринарный факультет. Сколько-то времени они оба проучились, но побыть им студентами было суждено недолго, так как выяснилось, что братья – сыновья священника, и обоих отчислили. Их мечты стать медиками не осуществились! Позднее обстоятельства жизни вынудили братьев стать геологами-изыскателями; они ездили по глухим районам страны как рядовые рабочие, но с течением времени, так как были они люди способные и сообразительные, присмотревшись к работе, начитавшись специальной литературы, получив соответствующий опыт работы, оба брата выбились на должности начальников изыскательских геологических партий. В Ленинграде уплотнение квартир набирало все больший темп, и вскоре после вселения к нам братьев Доброумовых, в освободившуюся (после отъезда семьи Сережи в Шебекино по желанию его жены Галины Владиславовны) большую комнату въехала семья Тороповых, состоявшая из больного туберкулезом мужа, жены и их двух малолетних дочерей – Гали и Томы (Тамары). Родители оказались неразговорчивы и нелюдимы, жена Юлия Федоровна всегда была сурова; оба супруга, коммунисты-ортодоксы, работали на каких-то небольших руководящих должностях, но так как они были людьми абсолютно честными, то никогда не пользовались причитавшимися им по их положению материальными возможностями, жили бедно и плохо. Через несколько лет отец скончался, и Юлия Федоровна осталась одна кормилицей подрастающих девочек. Наша коммунальная квартира гудела на кухне уже четырьмя или пятью примусами, когда пришли вновь уплотнять: у «главного квартиросъемщика», бывшей буржуйки, а ныне гражданки М. С. Севастьяновой, имевшей взрослую дочь Таисию (живущую в маленькой комнате при кухне – бывшей «людской») и подрастающего сына Степана, оставались еще две комнаты, одну из которых кому-то понадобилось отнять! При дальнейшем уплотнении нашей уже коммунальной квартиры, братьев Доброумовых переселили в меньшую по площади комнату, где когда-то был устроен кабинет моего отца, а в бывшую столовую, где жили раньше Доброумовы, поселили семью заведующего продуктовым магазином – мужа, жену и недавно начавшего ходить сынишку, прелестного мальчугана. Перевезя жену и сына, отец вскоре ушел из семьи, но материально хорошо их обеспечивал. Жена оказалась женщиной наглой, грубой, вздорной, задиристой и скандальной, пьяницей, лентяйкой без каких-либо признаков интеллигентности. Ее славный сынишка, всегда неопрятный и голодный, бывало, стащив у матери нечищеную селедку или еще что-нибудь, удирал из комнаты в кухню или коридор и в каком-нибудь углу начинал жадно есть. Мама и другие жильцы жалели мальчика и, иной раз, втихаря, прикармливали малыша, рискуя нарваться на скандал с его вздорной мамашей. А та стала уходить из дома на Сытный рынок и шляться по пивным, откуда приводила мужчин подозрительного вида, которым ставила угощение и пол-литра водки, после чего предавалась с ними любви на глазах своего маленького сына. Нашу интеллигентную маму эта страшная женщина возненавидела и постоянно оскорбляла, вплоть до матерной брани, и угрожала ей физической расправой. Однажды в пылу ненависти эта женщина бросила химический лиловый карандаш в кастрюлю с супом, который варила мама. Жизнь нашей беззащитной мамы превратилась в сплошной ад, постоянную боязнь за себя и нас, ее детей. Коллективные разговоры и увещевания, протесты против поведения этой странной женщины никак на нее не действовали, даже, казалось, наоборот, подстегивали ее к еще более безобразному поведению. Мы все стали бояться, что ее сожительство с постоянно сменяющими друг друга неизвестными мужчинами кончится тем, что она занесет в квартиру сифилис или еще какую-нибудь болезнь, не говоря уже о том, что все мы жили под вечным страхом возможного ограбления. Ее неизменная грубость, скандалы и «любовные похождения» вынудили жильцов квартиры коллективно поднять вопрос о ее выселении и, конечно, к неприятным разговорам с ее бывшим мужем, иногда приходившим навестить сына. Перессорившись со всеми квартирантами нашей коммуналки, не помню уж как, но, в конце концов, эта женщина через несколько лет выехала, а в освободившуюся комнату вселились уже пожилые, интеллигентные мать и дочь Келлеры. Таким образом, к середине тридцатых годов от большой квартиры, в которую мы въехали в 1923 году, в распоряжении нашей семьи осталось две комнаты – мамина спальня и полупригодная к проживанию маленькая комната при кухне, площадь которой удалось немного увеличить за счет ликвидации в квартире второй уборной и ванной комнаты, никогда не функционировавших, ибо ванная комната и вторая уборная в советские двадцатые-тридцатые годы рассматривались как излишества, и никому в голову даже мысль не приходила о возможности их восстановления. Остается добавить, что для нашей семьи все перечисленные выше вселения в квартиру посторонних людей сопровождались необходимостью продажи обстановки – предметов мебели, которые некуда было ставить, а также теснотой в комнатах, оставшихся в нашем распоряжении. Женское одиночествоНашей дорогой, любимой, с женским одиночеством в сердце маме 51 год; несмотря на душевную, нравственную боль, да и физическую усталость от тяжелых для нее двадцатых годов черты ее лица по-прежнему привлекательны, мягки и красивы, но душевного равновесия нет. Душевное ее состояние вылилось в стихи, написанные в марте 1930 года: Все прошлое мое куда-то отошло, Мама и мы, ее детиЧеловек добрейший и отзывчивый, наша мама во многих жизненных вопросах была совершенно беспомощна и наивна; будучи сама душевно чистой, бескорыстной и правдивой, она верила людям, и «обвести ее вокруг пальца», обмануть не составляло большого труда. Нас, своих детей, она безусловно любила, но говорила, чтобы мы не верили тем матерям, которые уверяют, что всех своих отпрысков любят одинаково, что все дети для них равны. Мама говорила, что, во-первых, дети бывают и желанные, рождения которых с радостью ожидают, и появляющиеся помимо желания матери или обоих родителей; во-вторых, у каждого ребенка свой характер, свой норов, свои качества и недостатки, которые родители и, в частности, матери воспринимают неоднозначно и к детям относятся и любят их по-разному – поэтому среди детей, как правило, всегда есть любимчики. Любимчиком № 1 нашей мамы была Алла – дочь красивого и темпераментного Василия Сергеевича Севастьянова, в которого мама влюбилась после неудачно сложившегося брака с ее первым мужем Петром Сергеевичем Олениным; любимчиком № 2 стал ее младший сын Степа-Рыжик (ваш покорный слуга), на которого Мария Сергеевна перенесла всю силу последней обманутой беззаветной любви еще молодой, но начинающей стареть женщины. Но, повторяю, всех своих детей наша мама любила, за всех болела душой, всем старалась помочь и, если это было в ее силах – каждого сберечь! Но когда мама сердилась, у нее появлялся уничтожающе-холодный твердый взгляд ее серых глаз, который было трудно выдержать, становилось невыносимо стыдно и хотелось провалиться сквозь пол. В то же время, в силу доброты своей души, оступившегося мама никогда сразу не клеймила, а старалась разобраться в причинах, понять, почему, какие обстоятельства вынудили человека поступить неправильно – впрочем, я об этом уже где-то писал. Поэтому оступившиеся люди шли к нашей маме за помощью, за моральной поддержкой и моральным облегчением. Это свойство – понять человека призывало людей к открытости, к откровенности, и я, например, мог маме сказать все, даже самое потаенное в глубине души. Мама облегчала травмированные души людей, даже, казалось бы, совершенно посторонних. Мамин первенец Евгений Петрович Оленин в детстве обладал необычайным обаянием; об его обаянии во взрослые годы, когда Женя был уже оторван от родины, маме рассказывал Константин Сергеевич Станиславский, к которому, в очень трудном материальном положении, Женя обратился за материальной помощью, встретившись с дядей Костей заграницей где-то в двадцатых годах. Маме было тягостно сознавать, что Женя бедствует в эмиграции, а она не имеет возможности ему помочь! С детства Женя был невероятный фантазер и выдумщик, и, что самое интересное, казалось, искренне сам верил в действительность своих фантазий; когда же его уличали во лжи и говорили ему: «Женя, ведь это неправда, такого, о чем ты рассказываешь, не могло быть, ты ведь сам не веришь в это?!», Женя горячо отвечал: «Представьте себе – верю!» В юношеские годы Женя тяжело болел злокачественным плевритом, и ему сделали резекцию одного или двух ребер. Будучи от природы талантливым, еще совсем молодой Женя устроился артистом в драматический театр в Москве без всяких протекций, но так как в это время шла Первая империалистическая война, его призвали в действующую армию санитаром, хотя сам он хотел попасть в артиллерию. После Октябрьской революции его военно-санитарная часть была переправлена за границу. Женя попал в Италию, а затем во Францию. Периодически он присылал маме письма и свои фотографии с нежными обращениями к ней. Первое время сообщал, что работает в небольших театриках и ресторанах, тапером, и поет интимные песенки (а Женя был горячим поклонником молодого Александра Вертинского), а также исполняет модные танцы в паре с какими-то эстрадными танцовщицами, такими же горемыками, как он сам. В конце мая 1930 года Женя женился на француженке, артистке варьете, которую звали Жермен, и в 1931 году у них родился сын, которого нарекли Жераром. Жили они бедно, Женя работал на стройке подносчиком кирпичей и умер в 1932 году от туберкулеза легких, не дожив до 35 лет. О кончине Жени мы все узнали из траурно обрамленного черной полосой письма Жермен на французском языке нашей маме. Как-то всем нам не верилось, что Женя так безвременно ушел из жизни; о нем напоминали вещи, сохранявшиеся в семье (в частности, тетрадка с его юношескими, ныне смешными наивными, и несколько жантильными стихами – дань вкусам второго десятилетия ХХ века в России), как бы ожидавшие возвращения хозяина; его молитвенник находится у меня по сие время. Как память о талантливом Жене Оленине в семье осталась целиком сочиненная (музыка и слова) им в юношеские годы песня «На скачках», ритмичную синкопированную музыку которой мамин брат Владимир Сергеевич Алексеев – музыкант и знаток песен – считал талантливой и одно время часто наигрывал на рояле для собственного удовольствия. Ниже приводится текст этой песни, музыка же не была своевременно записана на нотный стан, и теперь ее помним только я и Алла. Поэтому ныне музыку песни я записал в своем переложении, как она мне запомнилась. На скачкахНа скачках в ложе раз сидела демимонденка, Второй сын Марии Сергеевны Сергей Петрович Оленин был очень красив, спортивен и уже в 12 лет великолепно играл в теннис; его человеческими качествами были благородство и честность. Еще мальчиком Сережа прекрасно читал ноты с листа и целиком проигрывал клавиры опер, так как вся семья, включая его младших сестер, была помешана на оперном театре и распевала под его аккомпанемент «Кармен», «Пиковую даму», «Сельскую часть» и другие, в которых пели их отцы и мама. Часто Сережа аккомпанировал нашей маме и моему отцу, когда они распевались или когда приходили к нам гости и просили маму и моего отца что-нибудь спеть для них. У самого Сережи был великолепный баритон, он сам любил петь и тоже участвовал в домашних концертах. В эти же годы Сережа увлекался произведениями С. В.. Рахманинова; много переиграл его сочинений, в том числе и романсов, которые великолепно вокально исполнял его отчим (мой отец) Степан Васильевич (которого все мои братья и сестры запросто звали Степой-большим, в отличие от меня – Степы-маленького). В это же время Сережа сочинил небольшой прелюд, в котором ощущается влияние Рахманинова, но плагиатного в этом прелюде ничего нет. Видимо, свое будущее Сережа мыслил как пианиста, возможно, композитора, так как еще будучи гимназистом, хотел поступать в консерваторию, но его отец, Петр Сергеевич Оленин, настоял, чтобы сперва Сережа закончил гимназию. Гимназию Сережа окончил, однако Октябрьская революция помешала продолжению музыкального образования. Началась гражданская война, Сережа, видимо «зараженный» революционной романтикой, ушел в красногвардейцы и вскоре получил пулевое ране ние левой ноги. Было это под Белгородом; власти часто менялись, отчего госпиталь переезжал с места на место и бросал тяжело раненых; в их числе оказался и Сережа, у которого началась гангрена, и ногу ему ампутировали обычной, не медицинской пилой – кое-как, «на скорую руку»: кость плохо отпилили, и впоследствии Сережа не мог носить протез. 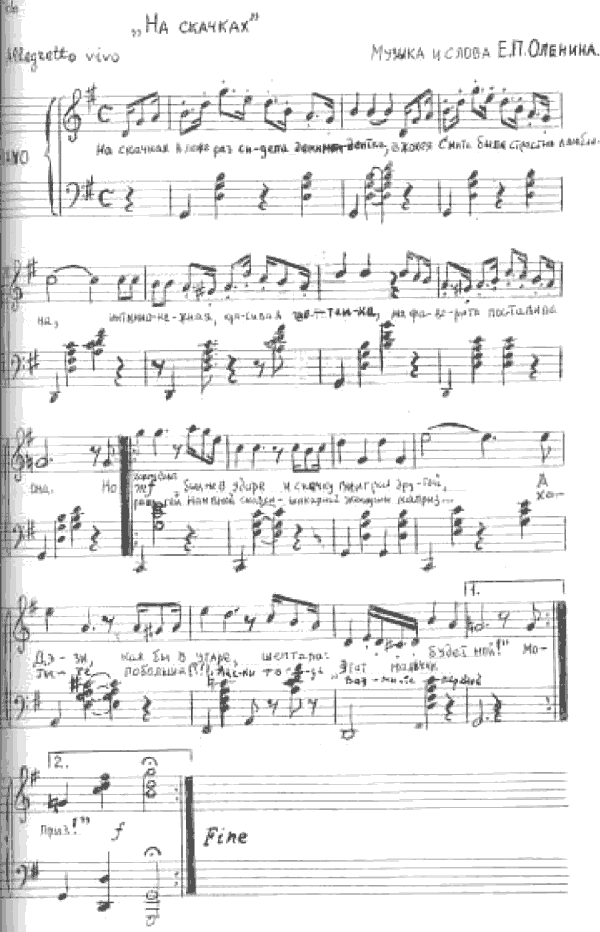 Как маме было не болеть душой за своего сына, еще почти мальчика, ставшего в 19 лет инвалидом. Оставленных военным госпиталем в местной больнице тяжело раненных выхаживали сердобольные женщины и девушки села Шебекино. О Сереже заботилась красивая интеллигентная девушка Галина Владиславовна, урожденная Детле-Генкст; они влюбились друг в друга и, когда Сережа поправился, вскоре поженились. Можно сказать, что эта женитьба определила всю дальнейшую линию жизни Сережи. Сначала, после свадьбы, молодые жили в семье свекра, Владислава Антоновича, многодетного вдовца, а в 1921 году, после четырехлетнего отсутствия Сережи в Петрограде (столь круто повернувшего его судьбу), уже с молодой женой Сережа возвратился в Петроград к нашей маме на дореволюционную квартиру № 6 в доме № 19 на Съезжинской улице. Его приветливая жена Галя была радушно принята нашей семьей, то есть мамой, мною, моими сестрами Тисой и Аллой, часто приходившей от своего мужа к маме, и моим отцом, занятым с утра до позднего вечера в Мариинском и Михайловском театрах, все больше и больше занимаемым в оперном репертуаре обоих театров на амплуа основного лирического тенора. Галя уже была беременная и 12 июля 1922 года родила прелестного мальчика, которого в честь деда назвали Петром. Малыш Петр Сергеевич Оленин (второй) стал всеобщим любимцем, а уж бабушка Мария Сергеевна вообще его обожала. После перенесенных во время гражданской войны потрясений и страданий, видимо, у Сережи был период душевного подъема от женитьбы на молодой красивой девушке, полюбившей его, инвалида – первые годы после потери ноги Сережа мучительно воспринимал свою ущербность, он даже как-то рассказал, что одной из первых пронзивших его после ампутации мыслей было, что теперь он не сможет играть в обожаемый им с детства теннис, искусство игры в который он постиг; безусловно, теперь его воодушевлению способствовало возвращение в родную семью, в Петроград; этот душевный подъем проявился в том, что Сережа опять с интересом много играл на пианино, аккомпанировал охотно маме и моему отцу, что, по-видимому, вызвало у него желание самому творить, и он стал сочинять романсы, все более этим увлекаясь. Мы и приходившие к нам друзья охотно слушали, когда с авторским, естественным увлечением Сережа играл и пел своим красивым баритоном сочиненные им романсы. Конечно, появилось желание издать свои опусы и надежда, что, в случае их успеха, может появиться источник дохода от любимого дела. Поэтому черновики записей своих музыкальных сочинений Сережа отдавал переписывать специалисту, нотному графику, в нескольких экземплярах, так как пытался издать хотя бы малую часть своих творений. К сожалению, пробиться сквозь «издательские рогатки» начинающему композитору, не имеющему собственных средств, так и не удалось. Часть переписанных нот сочинений Сергея Петровича Оленина начала двадцатых годов сохранилась до сих пор, и я их недавно передал его сыну от второго брака Святославу Сергеевичу Оленину, проживающему ныне в Санкт-Петербурге. Среди сочиненных тогда Сергеем Петровичем Олениным произведений было одно, написанное в стиле салонных лирико-драматических романсов, в те годы модных, имевшее название «Лебединая песня пропета»; когда его пел сам автор, то в финале все присутствовавшие молодые женщины рыдали навзрыд! Помню, что романс этот заканчивался словами: «А внизу, под окном, от крыльца отъезжает карета… (бравурный музыкальный отыгрыш, после которого следует финальная, ставшая нарицательной музыкальная строка, целиком заимствованная автором из очень известного популярного до революции романса Марии Пуарэ „Лебединая песня“) Лебединая песня пропета!!!» – строка, говорящая о полном фиаско героини романса. Сережа с семьей прожил в Петрограде (Ленинграде) около пяти лет. Из-за безработицы устроиться было трудно, Сережа «бегал» в поисках заработков, на существовавшей еще в те годы бирже ценных бумаг играл на падении и повышении курса, чтобы что-то заработать; наконец, одно лето они с Галей вынуждены были делать дома мороженое и торговать им, на что и жили. Устроиться на постоянную работу не имеющему диплома музыканту было чрезвычайно трудно, неспроста же, примерно в эти же годы, молодой и чрезвычайно одаренный Дмитрий Шостакович играл в кинотеатре, сопровождая демонстрацию тогда еще немых фильмов. Выросшая в селе молодая супруга Сережи не любила большие города и тосковала по родному Шебекину, где жила ее родня; в конце концов жена и материально трудная жизнь вынудили Сережу согласиться на возвращение в Шебекино, и где-то в 1926 году они всей семьей уехали. В Шебекино Сережа устроился пианистом, музыкальным руководителем самодеятельности в местном Доме культуры (или клубе), а Галя, имевшая образование дантиста, стала работать зубным врачом.  Для нашей мамы разлука с ними и в особенности с обожаемым внуком Петяшкой была большим горем и сопровождалась вечным страхом за их здоровье и судьбу в условиях проживания в провинции. С отъездом Сережи около мамы не осталось взрослого мужчины, на которого можно было опереться и с которым можно было бы посоветоваться в трудную минуту. После отъезда из Ленинграда Гали, Петяшки и Сережи, а приблизительно через год и Аллы (в 1927 году она уехала в Москву, где была принята ученицей-студийкой в театр имени Вахтангова) в нашем доме совсем стало скучно, так как у нас перестала бывать молодежь, прекратились и так уже редкие вечеринки с игрой на пианино, модными романсами и песнями, с танцами в комнате на «пятачке», вносившими некоторое разнообразие в мамину серую, однообразную жизнь. А я, автор этих строк, пребывавший тогда в мальчишеском возрасте, безмятежно спал в этой же комнате под фокстроты, танго и пение модных романсов, которые мне нимало не мешали. Остается добавить, что прелюд, сочиненный Сережей в юношеские годы увлечения музыкой С. В. Рахманинова, не записанный автором, но оставшийся в моей памяти с детства, я, уже ныне, записал. Старшая дочь мамы, Марина Оленина с пяти-шести лет постоянно вертелась перед зеркалами, а позднее стала выражать желание сделаться балериной и осуществила свое желание, поступив в Балетное училище при Большом театре, которое заканчивала перед самой революцией 1917 года. Сразу следует сказать о правильности выбора, сделанного Мариной – она много лет была прима-балериной на характерных ролях в городском театре Белграда в Югославии. По причине обучения в Балетном училище, при переезде в 1913 году нашей семьи в Петербург, Марина осталась в Москве на попечении маминой гувернантки Лидии Егоровны Гольст, а к нам в Петербург (Петроград) периодически приезжала. Нельзя сказать, что Марина была красива, но удивительно обаятельна и женственна и пользовалась большим успехом у мужчин. Как и со всеми детьми, у мамы были хорошие, сердечные отношения с Мариной, но мне кажется, что в душе мама слегка ревновала к ней моего отца, побаиваясь ее природного обаяния. Оказавшись за пределами родины, Марина писала маме письма, присылала свои фотографии в ролях и в жизни, где был снят и ее второй югославский муж, черногорец Вук Драгович, безумно любивший Марину. Потом она перестала вдруг писать, молчание ее длилось несколько лет, и только уже перед самой войной 1941 года мама получила от Марины последнее письмо, в котором та описывала мучительные годы своей душевной раздвоенности, так как всерьез увлеклась мужчиной моложе себя на несколько лет, даже порвала с Вуком, которого тоже продолжала любить, сознавая, что ближе него у нее никого нет и не будет, что она совсем извелась и серьезно заболела, была вынуждена бросить работу в театре; между тем Вук все время продолжал у нее бывать и заботиться о ней. Болела Марина в какой-то степени наследственной болезнью Олениных и Алексеевых – воспалением почек на грани уремии, от каковой умер ее отец Петр Сергеевич Оленин. В конце концов она вернулась и к Вуку, и на сцену, но Вук советовал ей бросить театр и открыть свою балетную студию. Это последнее письмо Марины к маме, написанное 15 февраля 1941 года, сохранилось и находится у меня. Вторая дочь нашей мамы, Алла (по признанию самой мамы – «любимушка номер один») была объектом ее вечного беспокойства за судьбу и здоровье. Внешне очень привлекательная, хорошенькая, темпераментная, веселая, оптимистка и фантазерка, Алла с раннего возраста пользовалась большим успехом у молодых людей и мужчин; она с детства талантливо писала стихи, обладала прекрасным музыкальным слухом и мечтала стать оперной артисткой, как ее родители; избалованная вниманием и приветливостью к ней окружающих, Алла с малолетства была своевольна, нетерпима к тому, что ей не нравилось, и эгоистична, но душевно добра и беззащитна, хотя внешне бывала порой резка и агрессивна. Алла была очень привязана к маме и любила ее, но, в силу присущей ей нетерпимости, еще в девичьи годы грубила матери в ответ на ее справедливые замечания или наставления (в зрелости Алла «разряжалась» на своем втором муже – мягком, любившем ее Михаиле Николаевиче Сидоркине и окружающих), объясняя свою резкость природной вспыльчивостью, унаследованной, якобы, от бабы Лизы. С посторонними Алла могла быть очень приветливой и обаятельной. Мама очень беспокоилась за девятнадцатилетнюю беременную Аллу и глубоко переживала, когда на седьмом месяце у нее был выкидыш девочки (очень похожей на Аллу), которую в условиях разрухи 1922 года не удалось спасти в клинике Отто, считавшейся лучшей в Петрограде. Одно время у Аллы находили признаки начинающегося туберкулеза. В 1930 году, когда Алла уже жила в Москве, вдали от мамы, у нее случился острый приступ аппендицита, и ее срочно оперировал знаменитый уже в то время хирург Алексей Дмитриевич Очкин в своем отделении Боткинской (бывшей Солдатенковской) больницы. Мама немедленно (по вызову тети Зины) выехала в Москву. По натуре щедрая, Алла никогда не скупилась, оплачивая чужой труд; когда была возможность, она заботливо и бескорыстно одаривала близких. Третий сын нашей мамы Герман (Котя) Севастьянов, еще подростком волею судьбы оказавшийся за границей Советской России, уже в двадцатых годах писал нашей маме довольно часто, присылал в письмах свои фотографии; позднее, став материально самостоятельным, Котя присылал ноты модных в то время в Европе фокстротов и прекрасно выполненные фотографии-открытки мировых кинозвезд, которые мы, то есть Тиса, я и в какой-то мере Алла (еще жившая тогда в Ленинграде), а также наша молодая горничная Нюша (ставшая почти членом семьи) коллекционировали; поэтому при очередной партии присланных Котей в письме открыток кинозвезд каждый из нас старался отобрать себе наиболее интересные. В начале тридцатых годов Котя стал присылать маме большие фотографии – свои и его молодой жены, начинающей (а впоследствии ставшей мировой знаменитостью) балерины Ирины Бароновой в жизни и ролях. Фотографии были красивые, поражали своей выразительностью и великолепным качеством исполнения. Письма Коти всегда были содержательны и познавательны, так как он много путешествовал по всему миру с балетными труппами русских эмигрантов в качестве администратора. По своей природе Котя всегда был очень добр, щедр, любил одаривать людей и помогать им, когда имел такую возможность. Пережив 1917 год в России, Котя хорошо представлял материальные трудности, голод и разорение, которые принесли революция и гражданская война; поэтому, оказавшись за границей, как только он начал «становиться на ноги» (сначала зарабатывая деньги трудом шофера), старался помочь маме и семье; так, в конце двадцатых годов, Котя несколько раз присылал нам по почте большие толстые плитки твердого черного шоколада «Золотой берег» для варки, но мы его съедали по кусочкам, которые с трудом откалывались от плиток. Шоколад был очень вкусный и питательный – роскошь для всех нас! Мы всегда с нетерпением ждали Котиных писем. Так получилось, что, практически, около нашей мамы, еще не отколовшись в отдельную семью (как это было с Сережей и Аллой, периодически появлявшейся у нас в моменты ссор с мужем), остались с 1922 года двое еще малых подрастающих детей – девятилетний автор этих строк и старшая меня на два года сестра Тиса (Таисия Севастьянова), которая была единственной маминой помощницей по дому, оказалась в положении девочки на побегушках и разделила с мамой все тяготы плохо устроенного тяжелого быта тех лет. Тисе больше всех доставалось невзгод и, может быть, даже несправедливостей от нашей дорогой, мягкой, доброй, но вспыльчивой мамы, истерзанной душевно ревностью и измученной физически (за время минувшей революции) непривычными ей за всю ранее прожитую жизнь условиями существования в первые годы советской власти. Жизненные невзгоды семьи (после мамы) падали на Тису и на ней отражались в первую очередь. А Тиса по своей природе, по своей сущности была очень добрая, отзывчивая и, несмотря на то, что ей больше всего доставалось работы и часто недовольства мамы, очень любила маму. Несомненно, что «любимчика номер два» – последнего сына от последней своей любви в жизни (то есть меня), мама берегла и лелеяла, перенеся неразделенную по-настоящему любовь мужа на его сына. Набирать силу мне прошлось в годы революции и разрухи, и нельзя сказать, что физически я подрастал сильным и нехлипким; в раннем возрасте у меня часто воспалялись миндалины, что, как говорили, является признаком возможного развития туберкулеза при взрослении, что крайне беспокоило маму. В общем-то так и получилось. Позднее, при переходе от юношества к мужанию, вероятно наследственное предрасположение к туберкулезу привело к верхушечному процессу в стадии саморубцевания В-I. В этот же период от всех морально и физически навалившихся на маму жизненных испытаний у нее самой начался туберкулезный процесс в ее всегда слабых легких (на протяжении всей жизни мама часто хворала пневмонией и воспалением почечных лоханок), и в начале тридцатых годов у нее определяли саморубцующийся туберкулезный процесс в легких в стадии В-II. Оба мы были взяты на учет в районном туберкулезном диспансере. Мама очень боялась, что меня постигнет участь большинства детей ее сестры Анны Сергеевны Штекер, погибавших один за другим от наследственного в семье Алексеевых туберкулеза легких, а позднее, после гибели Володюшки Красюка в начале 1937 года (младшего сына Анны Сергеевны Штекер-Красюк), боязнь мамы за меня и мое будущее еще больше обострилась, особенно это сказалось в 1939 году (смотрите главу «Заботливая Маруся и Манюша»). Таким образом, на долю нашей мамы выпало немало постоянного беспокойства и боязни за своих чад! Герман Васильевич Севастьянов (Джерри Северн)Герман Васильевич Севастьянов родился 23 февраля (8 марта по новому стилю) 1905 года в Москве, скончался 21 июня 1974 года в клинике в Женеве, похоронен в городе Веве в Швейцарии. Герман Васильевич, или Котя, как его звали близкие, ушел в возрасте 13 лет из семьи матери к своему отцу Василию Сергеевичу Севастьянову (уже женатому в то время на оперной певице Аде Владимировне Поляковой), который увез сына в Одессу в начале 1918 года. Здесь В. С. Севастьянов собирался держать оперную антрепризу в сезоне 1918—1919 годов, и для приглашения оперных певцов он вместе с Адой Владимировной выехал летом 1918 года в Италию. Перед отъездом отец устроил сына Германа в Морской корпус. Начавшаяся в России гражданская война не позволила В. С. Севастьянову вернуться на родину, и он уехал работать в Югославию. Морской корпус был эвакуирован из Одессы в Турцию, куда Василий Сергеевич приехал за сыном, увез его в Югославию и поместил его в Морской корпус в городе Сараево. По окончании Морского корпуса Герман Васильевич учился в Морской академии, но после смерти отца в 1929 году бросил учебу и начал работать шофером у пожилой четы, полюбившей его как сына. Молодой, красивый и по натуре очень добрый Герман Васильевич женился 13 ноября 1928 года на Лидии Рапопорт, свадьба состоялась, кажется, в Париже; но довольно скоро оказалось, что Лидия серьезно больна, и супруги расстались. В 1932 году Герман Васильевич познакомился с юной Ириной Бароновой, которая без спроса залезла в автомобиль, принадлежавший его хозяевам, ей захотелось погудеть клаксоном; Котя выгнал Ирину из машины, пообещав надрать ей уши, если она еще раз учудит что-либо подобное. С этого эпизода началось знакомство будущих супругов – Германа Васильевича и Ирины Михайловны Бароновой (родилась 13 марта 1919 года в Петрограде), впоследствии ставшей балериной с мировым именем и балетным педагогом. Так получилось, что спустя 2-2, 5 года после описанного выше знакомства они поженились[65]. Герман Васильевич говорил на нескольких языках и обладал хорошими организаторскими способностями, что, видимо, помогло ему стать помощником администратора русской балетной труппы Соломона Юрока. С этой балетной труппой Герман Васильевич и Ирина Баронова объехали чуть ли не весь мир. Так как Герман Васильевич не имел капитала, родители Ирины были против их брака. Началась Вторая мировая война. Герман Васильевич, получив подданство США и имя Джерри Северн, воевал против фашистской Германии в американских ВВС. Вернувшись с войны, он узнал, что Ирина не хранила ему верность, и ушел от нее. Третий брак Германа Васильевича был с какой-то американкой, оказавшейся алкоголичкой, из-за чего брак был прерван. После Второй мировой войны Джерри Северн становится бизнесменом, в конце 50-х годов приезжает в Москву и налаживает деловые контакты с советскими деловыми кругами. В частности, Джерри Северн помогает советской кинематографии выйти на международные фестивали, и с его помощью два фильма – «Летят журавли» и «Баллада о солдате» – получают на них высшие награды, а игравшие в фильмах актеры – мировое признанье. Джерри Северн помогает советской текстильной промышленности и другим отраслям. Одно время он пропагандирует русскую мировую оперную классику, выпуская совместно с фирмой «Филипс» долгоиграющие патефонные диски с высококачественным звучанием. Где-то в 60-х годах после многих лет разлуки к Герману Васильевичу возвращается Ирина Баронова – несомненно, они всю жизнь любили друг друга несмотря ни на что. Умер Герман Васильевич от фибромы легких. Примечание.В одном из предвоенных писем к Марии Сергеевне Севастьяновой Ирина Баронова сообщила, что они с Котей повенчались 20 января 1939 года в Австралии в церкви города Сиднея, и венчал их старенький архимандрит Мефодий. Видимо, где-то во второй половине 1970-х годов Ирина Михайловна Баронова стала членом английской Королевской Академии Танцев. В письме же от 2 февраля 1995 года ко мне она написала:
Выбор жизненного путиНапомню, что в Первой показательной школе был великолепный интеллигентный состав преподавателей и классных воспитателей, чем и объясняется желание родителей поместить нас именно в эту школу, несмотря на удаленность ее от места, где жила наша семья. Кажется, когда я проучился в школе городка Сан-Галли два класса, ее ликвидировали – перевели на Большую Посадскую улицу Петроградской стороны, недалеко от бывшей Дворянской улицы и Петропавловской крепости; новая школа помещалась теперь в здании бывшей женской гимназии и получила наименование Единой трудовой школы девятилетки № 200. Эту школу я и окончил весной 1930 года. Надо было выбирать жизненный путь. К тому времени отца рядом уже не было. Отец (что было мучительно для мамы, безумно его любившей, и, конечно, для меня) около трех лет постепенно отходил от семьи и ушел окончательно весной 1923 года, когда мы переехали со Съезжинской улицы на Большую Пушкарскую, угол Шамшевой, в дом № 28/2, в квартиру под № 19 (позднее перенумерованную в № 17). Конечно, меня тянуло по стопам родителей – на сцену, тем более что в детстве природа наделила меня хорошим голосом; я пел все партии отца, и очень любил петь, а желающих слушать меня среди друзей и знакомых всегда хватало. Так продолжалось до мутации, и никто мне не объяснил, что в этот период мужания необходимо бережно относиться к своему голосу. И однажды на дружеской вечеринке, где меня без конца просили петь, я сорвал себе голос, да так, что даже перестал говорить; недели через две разговорный голос вернулся, а настоящий певческий голос я потерял на всю жизнь. Я очень от этого страдал морально много лет, вероятно, утрата голоса тоже повлияла на выбор мною дальнейшего жизненного пути, тем более что выдающейся артистической внешностью я не обладал, так же как ярко выраженным актерским талантом и темпераментом, да и отец не хотел, чтобы я стал артистом. Но как всякого мальчишку, меня сызмальства тянуло к технике, а в период моего детства представителем новой техники был трамвай. К тому же друг семьи, второй муж моей первой учительницы Марии Николаевны, Борис Николаевич Роде, был инженер-электрик и работал в Трамвайном управлении Ленинграда. По его совету было решено, что мне нужно пробовать поступить в Электротехнический институт имени В. И. Ленина на Аптекарском острове Петроградской стороны – в одно из старейших высших учебных заведений, а кроме всего прочего, еще и недалеко от дома! Вот в этот институт я и подал свои документы. В то время в ВУЗы принимали без вступительных экзаменов, критерием приема были социальное происхождение и социальное положение будущего студента; предпочтение отдавалось детям рабочих и крестьян, мои же шансы были не столь велики – сын служащего, который, правда, из крестьян (судя по паспорту отца). Мама не любила дач, и снимали мы их в редкие годы, но в 1930-м наши друзья Ганешины убедили маму снять на лето недорогую комнату близ их наемной дачи в живописной деревеньке в пяти вестах от станции Сиверская, где и поселились мы с мамой в ожидании моей дальнейшей судьбы. Сестра моя Тиса оставалась в Ленинграде, так как она работала на текстильном заводе (кажется, имени Тельмана) в бухгалтерии, по расчетной части. Лето заканчивалось, а ответа на мое заявление Электротехнический институт все не присылал. Наконец, около 20 августа Тиса привезла на дачу уведомление на мое имя с отказом в приеме меня в число студентов Электротехнического института ввиду того, что отдавалось предпочтение в приеме в институт лицам, «имеющим направления от заводов, фабрик и предприятий по линии Парттысячи и Профтысячи». Оставались считанные дни до окончания работы вузовских приемных комиссий, да и подача документов в эти комиссии, как правило, заканчивалась 31 июля; таким образом, можно было рассчитывать только на случай, если какой-то институт не добрал еще плановое количество студентов. Мы быстро вернулись с дачи в Ленинград и я стал наводить справки – не продлили ли где срок приема документов. И тут сосед по нашей, уже в то время коммунальной квартире, прочитал мне объявление в газете, гласившее, что вновь организующийся Институт точной механики и оптики, создаваемый на базе одноименных техникума и рабфака, принимает заявления по 31 августа включительно. В оставшиеся дни пробегав за своими документами, которые нужно было получить из приемной комиссии Электротехнического института, и какими-то еще необходимыми справками, я успел подать все документы за 2 часа до окончания последнего дня работы приемной комиссии. Так как это был институт, связанный с оптикой, которой я интересовался – фотография, кинематография, осветительные приборы, зрительные трубы были мною любимы, – я ни минуты не колебался, подавать или не подавать документы именно туда. Недели через три я и мама прочли мою фамилию в списках принятых в число студентов с оговоркой: «без претензии на стипендию». Это условие я полностью выполнил и проучился 5 лет без стипендии, хотя в семье денег было негусто, а многие принятые на тех же условиях в институт мои товарищи студенты получали стипендии уже со второго курса. Кто ж мог знать, как повернется жизнь…Клавдия Гавриловна Потапова была маленького роста, с точеной пропорциональной фигуркой, имела миловидное, хорошенькое подвижное личико простушки; она была общительная, веселая, от природы музыкальная, обладала хорошим слухом, любила театр, оперу, легко запоминала и напевала целые сцены из опер – она обладала от природы поставленным голосом, небольшим приятным по тембру сопрано; одно время мама давала ей уроки пения и говорила, что Клавдия Гавриловна понятлива и быстро «схватывает» премудрости вокала. Годы обучения в гимназии до революции оставили ей скромное знание французского языка, что дало возможность написать на даримой мне, мальчику 12 лет, книге «Работа подземных сил» сочинения А. П. Нечаева: «A mon petit cher pour sou– venir de „Клеш“. 25.12.1924». Природа одарила Клавдию Гавриловну ценным для жизни свойством – тактичностью: за нее никогда не было стыдно в любом обществе, и ее врожденный такт очень подкупал и располагал к ней людей; но когда ей кто-то не нравился, досаждал, тактичность ее могла мигом «испариться», и она становилась очень агрессивной. Мама быстро привыкла к Клавдии Гавриловне, познакомилась с ее старушкой матерью, вдовой, милой, уютной, тихой и работящей Александрой Васильевной, которая воспитала и подняла на свои заработки дочь: Александра Васильевна была портниха и, пока Клава подрастала, не разгибала спины. Осталось в памяти, что многие знакомые Александры Васильевны называли ее «бабой Васей». Давно скончавшийся отец Клавдии Гавриловны, Гавриил Кузьмич Потапов, был родом из города (или селения) Валуйки на Украине, где его почему-то прозвали Купрюхой. Впоследствии мы иногда в шутку называли Клавдию Гавриловну «жинкой» и «Купрюхой», на что она не обижалась, понимая, что это добродушная шутка, без претензии на то, чтобы задеть ее достоинство. В 1919—1920 годах Клавдия Гавриловна была еще в числе поклонниц моего отца С. В. Балашова – лирического тенора, восходящей «звезды» петроградских оперных академических театров. Тогда среди молодых девушек считалось модным носить широкие в складку юбки, которые назывались «солнце-клеш»[66]. Про такие юбки даже распевали куплеты, несколько фривольного содержания, впрочем, об этом я уже писал. Видимо, Александра Васильевна постаралась для своей любимой дочки Клавы и сшила ей, одной из первых, вожделенную модную юбку, за которую ее обладательницу, ядовитые на язык приятельницы из числа тех же поклонниц, прозвали тут же «Юбка Клеш», затем в этом прозвище «Юбка» отпала, осталось только «Клеш», «прилипшее» к Клавдии Гавриловне на всю жизнь – все ее близкие друзья и родные стали называть ее так, а не по имени, а тем паче, имени и отчеству. Осенью 1920 года юная семнадцатилетняя Клеш, рискуя сама заразиться, выходила от сыпного тифа маму и меня, за что мы остались ей благодарны и обязаны на всю нашу жизнь! Прошло три-четыре года, и в нашем доме Клеш стала своим человеком, близкой знакомой, другом дома, даже поехала с нами на дачу в Юкки, в 1926 году, в качестве маминой dame de compagnie. После окончательного ухода отца из семьи весной 1923 года всю силу своей огромной любви и привязанности к нему мама перенесла на их сына, то есть на меня; одновременно усилилась ее боязнь потерять меня – последнюю зацепку в ее жизни, как сама она говорила. Мне было тогда 11 лет (возраст, когда мальчику отец становится все более и более нужен). Естественно, что по мере моего взросления у мамы все больше увеличивалась боязнь появления в моей жизни какой-нибудь девушки или, тем хуже, женщины – но что поделать, как говорится, «гони природу в дверь, она войдет в окно!» Несмотря на мой еще вполне мальчишеский вид, во мне созревал мужчина и, как свидетельствует моя старшая сестра Алла (сам я этого не помню), я шутливо и фривольно стал поговаривать о том, что мне уже нужна «лошадка». По натуре был я влюбчив, с 17 лет учился в институте, где была масса всевозможных девушек, к любой из которых я мог привязаться. Поэтому мама была эгоистически рада, когда меня потянуло к Клеш и, несмотря на разницу в возрасте (Клеш была старше меня на девять лет), я с ней сошелся, ибо при нашей связи (я это прекрасно понимал) все в нашей общей жизни оставалось по-прежнему на своих местах – Клеш продолжала жить со своей одинокой мамой на Большом Проспекте Петроградской стороны, а я продолжал жить с мамой на Большой Пушкарской на расстоянии менее одного квартала ходьбы от квартиры Клеш, которая каждый день бывала у нас. Естественно, я близости с Клеш не афишировал, но «шила в мешке не утаишь», и на ближайшее 1 апреля 1932 года я получил по почте письмо, написанное печатными буквами, в котором оказался листок с приводимыми ниже стихами, а над стихами была нарисована лошадь с приклеенной фотографией Клеш на месте лошадиной головы: Что б скрасить Вашу жизнь не сладку, Конечно, я сразу определил автора стихов – сестра Алла и, конечно, по согласованию с мамой… Материально мы жили трудно, еле-еле сводили концы с концами, постоянно что-то закладывали в ломбард, чтобы добыть денег на каждый день или просили в долг у Клеш, которая приносила деньги из запасов, наработанных ее мамой и ею самой на службе. Скоро наши знакомые стали принимать Клеш как мою гражданскую жену. Она помогала маме держать меня в порядке, стирала и крахмалила мне рубашки и воротнички, что-то зашивала, помогала немного по хозяйству, была в курсе всех наших семейных, хозяйственных и материальных дел и стала первым советчиком мамы. В 19 лет мне безумно хотелось иметь ребенка. Я не мог равнодушно смотреть на кормящую свое дитя мать, меня внутренне начинало как-то трясти мелкой дрожью. Жили мы в большой плохо обустроенной коммунальной квартире, в которой сестра Тиса в маленькой комнате для прислуги рядом с общественной кухней мыкалась с мужем и родившимся мальчиком Володей-Бибой (будущим Владимиром Евгеньевичем Артемовым, одним из самых дорогих и близких мне людей, которому я многим обязан). Да, желание в те молодые годы иметь ребенка было вполне естественным! Но что я мог ему дать? Я учился в ЛИТМО, учиться в институте и работать мне не позволяло здоровье, туберкулез – наследие предков по линии Алексеевых – начинал давать знать о себе. В этот период молодости и далее, уже в более зрелые годы, кроме чисто материальных соображений и условий жизни в коммунальной квартире меня всегда заставляли задумываться соображения веры; в обстановке всеобщей массовой антирелигиозности сам я в душе был верующим, хотя в церковь ходил редко, церковных служб не знал, как их не знаю и по сей день, постов не соблюдал, но всегда носил Бога в глубине души и сердца, живя в окружении все более развивающегося в стране воинствующего атеизма и гонений на всех и все, связанное с религией. Мысль, как я должен буду воспитывать ребенка в этой среде, чтобы не сломать его жизнь и психику, не оставляла меня! К окончанию мною института, когда я начал зарабатывать кое-какие собственные гроши (молодым, только окончившим инженерам платили мало), Клеш перевалило за тридцать лет, она была в расцвете своей женской привлекательности, но желания иметь детей я никогда в ней не замечал, наоборот, она скорее боялась забеременеть. Я знал, что отец не одобрял мою связь с Клеш, хотя открыто никогда ей и не противодействовал. Моим же успехам в институте при защите мною дипломного проекта с оценкой «отлично» он искренне радовался; вообще мы виделись с ним не так уж часто – у него была его любимая работа, в которой он достиг своим трудом небывалых высот, и жил он в семье женщины, на которую променял в начале двадцатых годов мою маму, эта женщина была младше его на 18 лет и работала хористкой в одном театре с ним. Тиса выходит замужЗакончив в 1928 году 7 классов школы, Тиса пошла работать. Сначала определилась куда-то по канцелярской части, через некоторое время решила идти по бухгалтерской стезе и устроилась расчетчицей заработной платы в бухгалтерию, кажется, Ленинградской текстильной фабрики имени Тельмана. Это давало некоторую небольшую прибавку и к семейному бюджету, и ей лично, но, насколько я припоминаю, не прекратило семейного изготовления бумажных цветов по вечерам и продажи их на рынке, продолжавшегося еще некоторое время. Тисе было около двадцати лет – годы девичьего расцвета, и только естественно, что однажды вместе с ней пришел к нам молодой, атлетически статный, с вьющимися волосами блондин с пухлыми губами (ее сослуживец), просить у мамы руки Тисы; был он застенчив, вежлив и тих, представился Евгением Севастьяновичем Артемовым и оказался очень музыкальным, играл на гитаре и еще лучше на балалайке, даже иногда выступал соло на концертах и смотрах самодеятельности. Выходец из народа, он в мальчишеские и юные годы был пастухом в деревне, пока не попал на военную службу и после нее – в город. Он неплохо рисовал и, обладая некоторым поэтическим даром, сочинял в народном духе сказки. В Ленинграде у Евгения Севастьяновича (Жени) оказались родственники – дядя или тетя, а может, и еще кто-нибудь (сейчас я уже не помню), жившие совсем рядом с Исаакиевским собором и Александровским садом, в доме, напоминавшем по форме утюг. Вот у них-то и было решено проводить свадебное торжество, жить же молодые должны были у нас, в нашей к тому времени уже коммунальной квартире, в маленькой комнате при кухне (где жила Тиса). Венчались молодые 30 января 1931 года в Введенской церкви на Петроградской стороне, стоявшей тогда еще на пересечении Большой Пушкарской и Введенской улиц. Эта церковь увековечена на картине художника Бориса Кустодиева, написанной из окна его квартиры в большом сером доме на пересечении указанных выше улиц. Венчание состоялось днем после окончания утренней службы. На обряде присутствовали мама, я, Клеш, еще несколько близких знакомых. Шафером у Тисы был я. Помню также, как во время венчания, видимо устав держать довольно увесистый венец над женихом, Володя случайно опустил его ему на голову и извиняющимся голосом негромко с характерным окающим вологодским говором произнес: «Ох! Венец-то я взял неладно!», чем вызвал смешки у присутствующих. Священник, старичок небольшого роста, всю венчальную службу бормотал что-то совершенно непонятное, никак нельзя было разобрать, что он говорит, и уже к концу церемонии мама не выдержала и довольно возмущенно спросила кого-то из стоявших с ней рядом знакомых: «Вы не знаете, на каком языке он служит, по-китайски что ли?» С приходом в нашу семью Жени Артемова – мужа Тисы у нас наступила «эпоха» увлечения домашними концертами. Когда Тиса с Женей возвращались с работы, после семейного ужина Женя брал балалайку или гитару, чаще балалайку; Тиса или я садились за пианино, откуда-то в доме появился свистящий музыкальный инструмент флексатон, на котором, по очереди, пробовали подыгрывать я, Клеш, Тиса или кто-либо из случайно пришедших гостей; если Тиса была за пианино, то я брал пару деревянных ложек или, наоборот, если на пианино играл я, то Тиса стучала на ложках, и вот в таком составе мы «закатывали» вечерние домашние концерты на радость и удовольствие мамы, тети Вари, соседей, знакомых, заходивших к нам, и самих участников «оркестра». В основном исполнялись немудреные музыкальные пьесы из репертуара струнного оркестра В. В. Андреева, которые играл Женя: «Светел месяц», вальс «Фавн» и другие; иногда мы все старались подобрать на пианино, балалайке или гитаре что-нибудь новое. Не прошел мимо нашего внимания и классический «Собачий вальс», хорошо подстукиваемый на деревянных ложках. Ровно через 9 месяцев, день в день, а именно 30 октября 1931 года Тиса родила светленького пресимпатичного мальчика, которого крестили Владимиром – будущего Владимира Евгеньевича Артемова. В семье шли споры, как мальчика называть уменьшительно, подомашнему, и как-то имя ни у кого «не выплясывалось». Наш спор решил случай. Я получил почтовую открытку из библиотеки, где значилось: «Биб-ка просит срочно вернуть взятые Вами книги, иначе…» – и далее шли угрозы, как меня накажут, если я ослушаюсь. Вот и решение спора, сказал я ближним, маленький Володя будет отныне Бибкой! С тех пор и до седых волос Володя в семье оставался Бибкой или Бибой. Скоро Бибка стал всеобщим любимцем. Когда Тиса опять пошла работать, ее маленький сынишка оставался на попечении бабушки Мани (нашей мамы), на которую легли заботы и по ведению домашнего хозяйства, включая хождение за продуктами и готовку обедов. Естественно, Тиса и все остальные старались маме как-то помочь. Пока Биба оставался с бабой Маней, он был ребенок как ребенок, без капризов и фортелей. Баба Маня учила Бибу вежливости, манерам, например, как держать правильно ложку и вилку, когда человек ест, как сидеть за столом, заставляла его есть и не капризничать, не давала ему своевольничать и реветь, и считалась строгой бабушкой по сравнению со второй бабушкой, слепо его обожавшей, так как на старости лет не было у нее своих детей и внуков, а естественная потребность кого-то любить была, и она Бибе позволяла делать все, что он пожелает, и из своих скудных средств постоянно приносила ему что-то. Желает Бибочка поиграть с водой в ее маленькой комнатке – баба Варя наливает в таз воды, и «милый мальчик» с размаха бьет по воде руками, обливая все вокруг, включая постель бабы Вари и себя с головы до ног; не желает Бибочка есть, орет – пусть ребенок покричит, если ему хочется, и т. д. При появлении мамы-Тисы, возвратившейся с работы, Бибу тоже как подменяли – сразу начинались капризы и рев, и маленький хитрец норовил сразу же удрать от строгой бабушки Мани к матери или в комнату доброй бабы Вари. За взаимную привязанность и любовь Бибы (которому было полтора-два года) и бабы Вари мы их прозвали Ромео и Джульетта. В более поздние годы, во второй половине тридцатых годов, баба Маня отводила Бибу в школу, встречала его после школы и возила на занятия в Капеллу (расположенную на набережной реки Мойки, за Дворцовой площадью); в Капеллу Биба был сразу принят за свою природную музыкальность, там его обучали игре на фортепиано, скрипке, хоровому пению и дирижированию. Проучился Биба в Капелле всего лишь год или два, так как началась война 1941 года. Замужество Тисы с Женей оказалось кратковременным, они развелись, и в декабре 1936 года Тиса вторично вышла замуж за Николая Александровича Фасмана; они поселились отдельно в большом доме, угол Малой Пушкарской и улицы Калинина (в двух кварталах от нашего дома), имели большую комнату в коммунальной квартире. Как и Тиса, Николай Александрович имел от первого брака сынишку Вадима, погодка Бибы, который приезжал к отцу и к которому тогда и через много лет Тиса относилась по-матерински; дядя Коля же полностью заменил Бибе отца, и всю жизнь Биба относился к нему с большой любовью и уважением. Коля и Тиса (оба) работали по бухгалтерской части, и каждое утро в будние дни Тиса приводила Бибу к нам, на попечение бабушки Мани. Хорошо относясь к новому мужу Тисы и признавая все его положительные качества, а также большую его интеллигентность по сравнению с Женей, мама находила нового зятя «скучноватым немцем» и, мне кажется, в глубине души с симпатией вспоминала музыкального «пастуха» Женю. Прошло много лет, закончилась ужасная война, нашей мамы и бабы Вари уже не было в живых. Володя-Биба женился и у него появились дети. Когда-то я спросил его, какую из бабушек он чаще и с каким чувством вспоминает? И Володя мне ответил: «Представь себе, что, несмотря на все балование меня дорогой бабой Варей, я чаще благодарно вспоминаю строгую бабу Маню, учившую меня уму-разуму!» Немного о Леонтьевском особнякеи довоенной коммуналке на его третьем этаже Мало кто знает, что из родового дома своего отца Сергея Владимировича Алексеева, получившего в обиходе название Красноворотского, семья К. С. Алексеева-Станиславского переехала в большую уютную квартиру в доме Маркова, в Каретном ряду, занимавшую весь бельэтаж и часть третьего этажа. Переезд их состоялся в конце 1903 года. При доме был хороший сад, что имело немалое значение для проживавших там. Квартира вполне устраивала Константина Сергеевича и Марию Петровну и, вероятно, им не пришла бы мысль менять свое уютное, обжитое за много лет семейное гнездо в наступившие годы послереволюционной разрухи и голода, если бы не постановление Малого Совнаркома о насильственном выселении из дома Маркова всех жильцов в связи с передачей этого здания и всей прилегающей к нему территории с постройками, включая каретные сараи, годные для устройства в них гаражей, в ведение автомобильной базы Совнаркома. Как я уже писал, А. В. Луначарский письменно ходатайствовал перед В. И. Лениным об отмене этой акции для семьи К. С. Станиславского, следствием чего, видимо, появилось постановление Советского правительства о предоставлении семье К. С. Алексеева-Станиславского второго этажа старинного особняка, расположенного в Леонтьевском переулке (особняка, ведущего свою историю с ХVIII века, как тогда считали, а фактически оказалось, что с ХVII). Во время Отечественной войны 1812 года, когда горела Москва, пожар уничтожил все постройки усадьбы, кроме этого особняка, так как он был кирпичный, с массивными стенами. С 1815 года тогдашний хозяин усадьбы начал капитальную реставрацию здания, закончившуюся только в 1834 году. Затем, в течение XIX века, к дворовой стороне особняка под прямым углом были пристроены черная (как говорили прежде, людская) каменная лестница с трехэтажной надстройкой, и здесь же – терраса на втором этаже (именуемая в старых строительных документах «двухэтажным крыльцом»). В таком виде особняк сохранился ко времени вселения в него семьи К. С. Алексеева-Станиславского. Насколько я могу представить себе, после капитального восстановления в 1815—1834 годах, второй и третий этажи особняка, числящегося в наше время под № 6 в Леонтьевском переулке (в дальнейшем будем этот дом называть «Леонтьевский особняк» или просто «особняк») представляли собой анфилады комнат, на втором этаже – парадных, с высотой потолков порядка 4 метров, с окнами, выходящими на улицу и частично во двор (за исключением двух комнат, которые через столетие, а именно в 1930-х годах занимала М. П. Лилина), и на третьем, или антресольном, как прежде называли, этаже – более скромных жилых помещений, с высотой потолков порядка 2 метров и окнами, выходящими во двор, на территории которого когда-то был уютный приусадебный домашний сад, с большой круглой цветущей клумбой посередине, сохранившейся до 1930-х годов. Сзади он обрамлялся бывшей конюшней и сараями, на месте которых ныне находится жилой пятиэтажный дом постройки 1950-х годов, занявший не менее трети площади бывшего уютного сада. Вдоль второго этажа Леонтьевского особняка проходит коридор, отделяющий анфиладу парадных комнат от помещений с окнами, обращенными в сторону двора. Зал (ныне называемый «Онегинским») и парадные комнаты имеют уникальные росписи потолочных плафонов, художественно выполненные темперными или клеевыми красками по сухой штукатурке; плафонные росписи, исполненные в 1830—1834 годах неизвестными крепостными художниками, ставят Леонтьевский особняк в ряд уникальных памятников архитектуры начала XIX века. На третьем этаже коридор отсутствовал, и в настоящее время его нет, но при жизни в особняке семьи К. С. Алексеева-Станиславского коридор на третьем этаже существовал и вот почему – нужно было где-то селить членов семьи прежних, дореволюционных хозяев особняка, продолжавших жить в нём. Все помещения второго этажа были отданы советским правительством под квартиру Алексеевых-Станиславских. Поэтому перед насильственным переселением этой семьи из обжитого в течение почти двадцати лет дома Маркова в Каретном ряду третий этаж Леонтьевского особняка подвергся перепланировке: между двумя внутренними старыми, всегда существовавшими и ныне существующими деревянными лестницами, соединяющими третий этаж со вторым, был сооружен неширокий, неизменно темный коридор, а из анфилады комнат третьего этажа образовали отдельные изолированные друг от друга комнаты, с дверями, выходящими во вновь образованный коридор, В этих комнатах поселили, прежде всего, членов семьи прежних хозяев, детей Веры Богдановны Спиридоновой (жены потомственного почетного гражданина, владевшей усадьбой Леонтьевского особняка с 1882 года) – ее сына Сергея Александровича Спиридонова и дочь Елену Александровну Бахметьеву (урожденную Спиридонову). Коридор третьего этажа не имел освещения, только по его концам, на обеих лестничных площадках горели обычные, неяркие электрические лампы, в самом же коридоре всегда царил полумрак, и когда там появлялась чья-либо фигура, закрывавшая мерцающий впереди освещенный прямоугольный проем, возникало ощущение неуверенности, боязни на что-либо наткнуться, и идущий невольно замедлял шаг. А вообще-то по коридору, лестничным площадкам и лестницам все старались ходить приглушенно, чтобы не потревожить проживавших на третьем этаже жильцов (в том числе и поселявшихся здесь позднее студийцев Оперной студии, руководимой Станиславским и, упаси Боже, живущих внизу Алексеевых, квартира которых на втором этаже не имела никакой двери, отгораживающей ее от спускавшейся прямо в конец коридора винтовой лестницы на три четверти оборота – как раз против двери, ведущей в спальню Константина Сергеевича. Другой торец вновь образованного коридора третьего этажа заканчивался выходом на площадку еще одной, двухмаршевой деревянной лестницы, спускающейся в Синюю комнату второго этажа, соседствующую с залом и имеющую двойную застеклённую дверь выхода на старинную широкую дубовую парадную лестницу фамусовских времен. На этой лестничной площадке третьего этажа двухмаршевой лестницы была двухстворчатая дверь в бывшую детскую комнату семьи Спиридоновых, о которой ещё будет речь дальше. Часть предоставленного под квартиру Алексеевым-Станиславским второго этажа Леонтьевского особняка, в том числе зал и Синюю комнату, Константин Сергеевич сразу же отдал руководимой им Оперной студии Большого театра, не имевшей постоянного помещения. С этих пор в старом особняке жизнь, как говорится, закипела – музыка и пение стали звучать в нем с раннего утра до позднего вечера, а то и до ночи. Мне думается, что именно тогда Константин Сергеевич все более стал задумываться о том, что оперное искусство не может далее существовать без искусства драматического, а последнее не может далее развиваться без музыки и законов темпо-ритма; о том, что в драме и опере существует много общих законов творчества. Алексеевы-Станиславские переехали в Леонтьевский особняк 5 марта 1921 года и, видимо, в это же время поселилась в нем сестра Константина Сергеевича Зинаида Сергеевна Соколова, eго помощница по Оперной студии Большого театра, педагог и режиссер. Судя по письму К. С. Станиславского Сергею Васильевичу Рахманинову от 26 мая 1922 года 3. С. Соколовой первоначально была предоставлена Красная комната, соседствующая с залом, в котором проходили занятия Оперной студии. Вскоре в зале, между колонн, был сделан невысокий деревянный помост, образовавший как бы небольшую сцену, на которой стали репетировать, затем прошли генеральные репетиции (первая – 12 апреля 1922 года) и премьерные спектакли оперы «Евгений Онегин», а вскоре начали давать спектакли и для широкой публики, При этом соседствующая с залом Красная комната, в которой поселилась 3. С. Соколова, оказалась единственным закулисьем. В указанном выше письме С. В. Рахманинову об этом написал сам Константин Сергеевич: «Чтобы дать Вам понятие о миниатюрности нашего театрального помещения, я опишу, что делается в соседней (и единственной) со сценой комнате, в которой живёт моя сестра, помогающая мне вести Оперную студию Большого театра. В этой комнате, являющейся её спальней, столовой, кабинетом и гостиной, гримируются все артисты, переодеваются женщины и мужчины (для чего ставятся ширмы), заготовляется мебель и бутафория для спектакля. Там же поёт хор крестьян (I акт), хор девушек (свидание). В этой же комнате складывают декорации, проносят подмостки. Словом, в ней происходит столпотворение. По окончании спектакля студийцы общими усилиями убирают и выметают комнату, освежают её для того, чтобы измученная сестра могла ложиться спать, пить чай и прочее». Пожилому человеку, каким уже была З. С. Соколова, жить и работать в таких условиях было невозможно, поэтому вскоре она оказалась соседкой Спиридоновых на третьем этаже особняка: там ей предоставили бывшую детскую. Как я уже говорил, в эту комнату можно было попасть с лестничной площадки двухмаршевой лестницы, ведущей на третий этаж из Синей комнаты второго этажа, в часы занятий Оперной студии наполненной студийцами. В соседней с Синей – узкой маленькой, проходной комнатке в единственный на второй и третий этажи туалет (тоже крохотный, где была единственная раковина с водопроводным краном, из которого можно было нацедить воды) находился гардероб для студийцев, в котором всегда дежурил у телефона швейцар, он же истопник и единственный рабочий при студии, Михайла – уже пожилой, степенный человек; его студийцы называли запросто, дядей Мишей. Эта маленькая гардеробная имела окно на парадную лестницу, так что дежуривший у телефона Михайла видел всех приходивших в Оперную студию, к Станиславским и к жившим на третьем этаже особняка жильцам; он любезно встречал приходящих и соответственно их направлял – куда, в какую дверь им нужно пройти. Бывшая детская, куда переехала Зинаида Сергеевна и в которой она прожила до ВОВ, представляет собой комнату (на три окна, выходящих во двор с садом), имеющую необычный двухскатный потолок, с пересечением его наклонных плоскостей наподобие крыш изб, и перегородку, разделяющую комнату на две неравных части, первую, как входишь, – на два окна и заднюю, меньшую часть – на одно. Сама же внутрикомнатная перегородка выполнена в виде бревенчатой стены сруба избы, с треугольным фронтоном наверху, дверью посередине и, по ее обеим сторонам, двумя двустворчатыми окошками, c открывающимися ставнями; окошки и треугольник фронтона «избы» украшены затейливой деревянной резьбой, а с конька «крыши» свешивается деревянное резное полотенце с рисунком по типу тех, какие делали на избах в северных, карельских деревнях. За бревенчатую резную перегородку комнату эту называли ласково «Теремком»; она создавала в комнате своеобразный уют и соответствовала вкусам Зинаиды Сергеевны, в молодые годы много лет жившей со своим мужем, врачом Константином Константиновичем Соколовым, среди крестьян в их маленьком имении Никольском, Воронежской губернии. Там они обучали крестьян грамоте, ремеслам, просвещали народ, как умели, выстроили больницу, создали самодеятельный крестьянский театр, в котором ставили классические пьесы и отрывки из опер, выступая в спектаклях вместе с местными жителями. На той же лестничной площадке третьего этажа, с которой спускается двухмаршевая лестница, была отгорожена малюсенькая комнатка для отдыха старшего брата К. С. Станиславского, педагога и режиссера Оперной студии Владимира Сергеевича Алексеева, которой он пользовался в перерыве между дневными занятиями в студии и вечерними спектаклями или уроками. На прилагаемом рисунке показан примерный план лестничной площадки третьего этажа с выгороженной на ней комнаткой В. С. Алексеева, комнатами 3. С. Соколовой и частью коридора третьего этажа, воссозданные по воспоминаниям Аллы Васильевны Севастьяновой и моим – людей, которым довелось периодически бывать и даже жить в Леонтьевском особняке в конце 1920—1930-х годах. В крохотной, душной, всегда погружённой в полумрак комнатке Владимира Сергеевича (с высотой потолка меньше двух метров и двумя небольшими окнами, выходящими на широкую деревянную лестницу парадного вестибюля особняка) размещались металлическая кровать, стоявшая слева за изразцовой печкой, небольшой стол – между окон, со стулом и креслом по бокам, а в правом, как войдешь, углу было какое-то нагромождение вещей, покрытое сверху куском серой ткани. Экспликация помещений третьего этажа особняка № 6 в Леонтъевском переулке, в 1920—1930-х годахI и II – комнаты З. С. Соколовой; III – лестничная площадка; IV – длинный коридор (ныне не существующий), проходивший по третьему этажу до площадки винтовой лестницы, ведущей в квартиру Алексеевых (Станиславских); V – комната отдыха В. С. Алексеева, выгороженная на лестничной площадке; VI – комната С. А. Спиридонова; VII – главный вестибюль с парадной лестницей. – Изразцовые печи. Экспликация обстановки комнат З. С. Соколовой и В. С. Алексеева1. Постель З. С. Соколовой; 2. Письменный стол; 3. Кресло З. С. Соколовой; 4. Двустворчатый шкаф под черное дерево, с остеклёнными дверцами из Красноворотского дома Алексеевых; 5. Печка-плита на две конфорки, выложенная в начале 1920-х годов; 6. Постель А. В. Севастьяновой (жившей у З. С. Соколовой в конце 1920-х начале 1930-х годов); 7. Тумбочка-туалет, с зеркалом-трельяжем; 8. Венский стул, для посетителей; 9. Рояль (кажется, фирмы Штюцваге); 10. Винтовой, регулируемыый по высоте стул к роялю; 11. Длинная простая скамья; 12. Длинная полка для посуды и вещей. На полке висел конверт c распоряжениями З. С. Соколовой: «На случай моей смерти». 13. Умывальник; 14. Грязное ведро; 15. Простой, сколоченный из досок стол; 16. Керосинка; 17. Мягкая скамейка (банкетка), обитая зеленой тканью, для учеников, ожидавших занятий с З. С. Соколовой или приёма у нее; 18. Металлическая кровать; 19. Стол; 20. Кресло; 21. Венский стул; 22. Какие-то складированные вещи, прикрытые большим куском серой или серо-голубой ткани; 23. Банкетка, временно приносимая для устройства постели второго человека; 24. Кухонный стол с примусом С. А. Спиридонова. 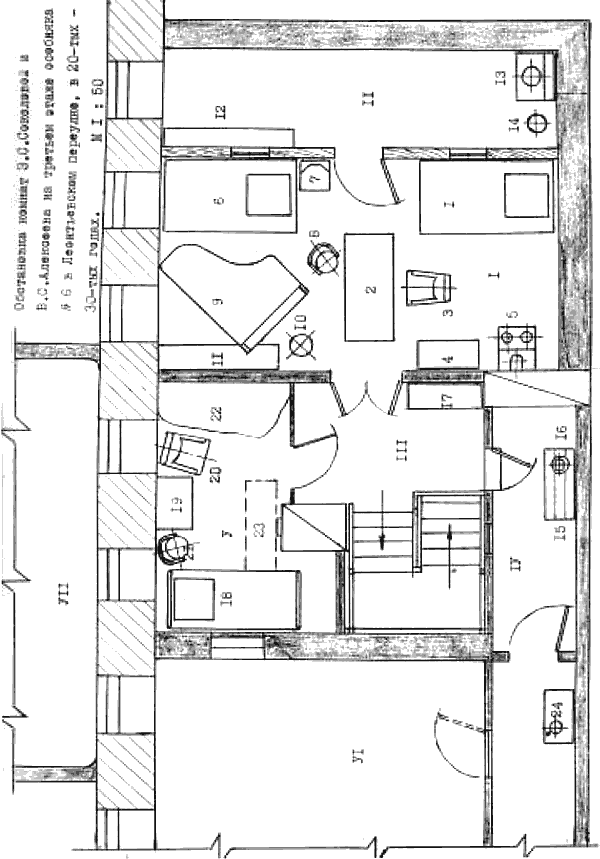 Примечание.(По воспоминаниям живших в комнатах З. С. Соколовой и В. С. Алексеева их племянницы А. В. Севастьяновой и племянника С. С. Балашова.) Единственным украшением этой комнатки была висевшая на стенке около кровати фотография композитора Джакомо Пуччини с его дарственной надписью (как мне запомнилось), с которым B. C. Алексеев дружил, оперы которого очень любил и ценил за их музыкальную эмоциональность и широту музыкальных фраз. По просьбе Пуччини Владимир Сергеевич знакомит его с творчеством современных, в тот период, русских композиторов – Скрябина, Рахманинова, Стравинского, высылая в Италию нотные издания. Но вернемся на третий этаж Леонтьевского особняка. По рассказам Виктора Петровича Мирского, солиста (тенора) Оперного театра имени К. С. Станиславского, который сам жил некоторое время в разных помещениях Леонтьевского особняка, в том числе на сцене репетиционного зала Оперной студии (на сцене же одно время проживал и другой солист, баритон Юрий Павлович Юницкий), на третьем этаже особняка в 1931—1935 годах жили певицы Оперной студии-театра Лидия Вениаминовна Воздвиженская – одна из ведущих сопрано и Нина Сергеевна Аверкиева – меццосопрано. В этой обстановке коммунальной жизни, которую даже нельзя назвать коммунальной квартирой, а вернее всего коммунальным коридором, не было никаких элементарных жизненно необходимых удобств – ни водопровода, ни туалета, ни кухни. Конечно, все это имело место в особняке, но не на третьем этаже, а только на втором (у Алексеевых-Станиславских, и маленький туалет с раковиной в гардеробной Оперной студии, о которой ранее уже было сказано) и на первом этаже. Таким образом, проживавшие на третьем этаже оказались, если можно так сказать, на положении парий! К примеру, чтобы набрать в чайник, бидон или ведро воды, требовалось спуститься на второй этаж в помещение Оперной студии, где всегда толпился народ, либо, что, казалось бы, проще, по винтовой, со скрипящими ступенями лестнице – в квартиру Станиславских, где, конечно, разрешат набрать воды из кухонной раковины, но винтовая лестница кончается как раз против двери в спальню Константина Сергеевича, который очень часто болел в тридцатые годы и беспокоить его было неудобно. Жильцы третьего этажа умывались и мыли посуду у себя в комнатах, а потом нужно было выносить ведра с грязной водой все в тот же туалет Оперной студии или, кружным путем, на первый этаж, что было далеко и неудобно, так как опять приходилось беспокоить соседей по третьему этажу, у которых имелся выход на черную лестницу, или же опять – Станиславских, проходя туда через их квартиру. Ванна была только у Станиславских, и капитально мыться ходили в бани, впрочем, в те годы так поступали все. Ближайшим соседом Зинаиды Сергеевны был Сергей Александрович Спиридонов, человек незаурядный, и о нем стоит немного рассказать. Говорили, что Спиридоновы были купцами (судя по сохранившимся фотографиям обстановки их дома и купленным у них вещам, довольно состоятельными); Сергей Александрович Спиридонов родился в 1870 году, до конца своих дней прожил в Леонтьевском особняке и скончался 8 марта 1945 года, в возрасте 75 лет, не дожив два месяца до окончания войны. Юрист по образованию, Сергей Александрович был высококультурным, хорошо воспитанным человеком, владел шестью или семью языками, в том числе латинским и греческим; после Октябрьской революции работал в Наркомпросе, откуда перешел в Отдел комплектования тогда еще Румянцевского музея, а затем – в Публичную библиотеку имени В. И. Ленина. Был он среднего роста, плотный по сложению человек, с седеющими (в середине 30-х годов) подстриженными «ежиком» волосами на круглой голове; всегда предупредительный и безукоризненно вежливый, несмотря на проскальзывающую раздражительность, когда он полагал, что его не видят. В длинном коридоре третьего этажа, как говорят, «на самом ходу», где-то близ двери в комнату Сергея Александровича, стоял его кухонный, ничем не примечательный стол с примусом и какой-то кухонной посудой. Примус был мучителем всегда корректного, подчеркнуто вежливого и выдержанного Сергея Александровича – примус плохо держал давление, спускал воздух, заставляя своего хозяина непрестанно следить за ним во время приготовления еды и кипячения чайника. Примус особенно нервировал по утрам, когда приходилось спешить на работу – опаздывать в те времена было опасно, это грозило выговором, а в конце тридцатых годов опоздание более чем на двадцать минут грозило отдачей виновного под суд! Бедный Сергей Александрович непрестанно бегал из комнаты в коридор, подкачивал злополучный примус, раздраженно тихо приговаривая: «Черт, черт, черт!!!» Сергей Александрович был женат на милой интеллигентной приветливой женщине (с ней, при наездах в Москву, дружила моя мама), которую звали Ниной Николаевной; она не жила постоянно в Леонтьевском особняке, в Москве у нее где-то была своя комната. За С. А. Спиридоновым она была вторым браком; от первого брака у нее имелась дочь Елизавета Викторовна, занимавшаяся частным образом с Зинаидой Сергеевной и работавшая статисткой в Оперном театре имени К. С. Станиславского. В 1935 году Елизавета Викторовна вышла замуж за солиста этого театра Виктора Петровича Мирского, о котором уже ранее говорилось и который рассказал мне о кончине Сергея Александровича Спиридонова. Зинаида Сергеевна готовила свою немудрёную еду или на керосинке, располагавшейся на простом дощатом столе, поставленном в коридоре третьего этажа, сразу за дверью с лестничной площадки, или в своей комнате – на специально выложенной, небольшой (ныне уже не существующей) печке-плите, обогревавшей комнату в зимнее время. Само собой разумеется, что в летнее время топить печку было невозможно, и приготовление пищи целиком переносилось на керосинку. Теперь мало кто представляет себе, что значит готовить на керосинке! Чайник на ней закипал (проверено по часам) в течение 45 минут; нужно было непрерывно следить за поведением керосинки, фитили которой, быстро разгораясь, начинали так коптить, что черные, жирные, пахнущие керосином хлопья копоти, разносимые токами теплого и холодного окружающего воздуха начинали летать по коридору и всей лестничной площадке, всё пачкая и вызывая естественное недовольство соседей. Можно себе представить, как приготовление себе еды на керосинке мешало всегда напряженной работе Зинаиды Сергеевны, которая очень часто часами писала у себя в комнате. Когда в Леонтьевском особняке появлялась мама, одна или со мной, мы жили в комнатке, предназначенной для отдыха Владимира Сергеевича, о которой уже было рассказано, и керосинка Зинаиды Сергеевны начинала работать в усиленном режиме, обеспечивая питание хозяйке и её гостям, то есть нам. Но первейшей обязанностью гостей являлось следить за злополучной керосинкой, к которой приходилось подходить и подкручивать ее фитили через каждые 3-5 минут. Тетя Зина варила на этой керосинке свои «знаменитые» (для тех, кто их едал) щи из кислой капусты на душистых сушёных белых грибах, на варку которых уходило не менее двух дней, по 5-6 часов в сутки. Запомнил я эти щи на всю жизнь, так как вкуснее «тетизининых» кислых щей не довелось мне есть на моем веку Остается добавить, что домовым хозяйством Леонтьевского особняка и прилегающей к нему территории, расселением и пропиской жильцов занимался управдом Степан Евстропиевич Трезвинский, бывший бас московского Большого театра – высокий пожилой человек, с сильной проседью и большими, лохматыми, седыми, нависавшими на глаза бровями, с довольно крупными, резкими чертами темного и сумрачного лица. Передвигался он всегда медленно, с остановками, и разговаривал не торопясь, низким басом, близким к Basse profond. Был период, когда его большой канцелярский стол и кресло возле него стояли вдоль окон Красной комнаты Оперной студии, на втором этаже особняка, соседствовавшей с кабинетом Константина Сергеевича. Жизнь в Леонтьевском особняке начиналась с раннего утра; уже около восьми часов начинались спевки и разучивание арий или романсов под рояль. Как правило, почему-то утро начиналось с «Веры Шелоги» или с Любаши или Марфы из «Царской невесты» – вероятно, готовили дублеров. Встреча Нового годаЗимой 1931—1932 годов, в числе группы студентов, юношей и девушек ЛИТМО, меня откомандировали для прохождения производственной практики на завод в Павшино, под Москвой. Для меня и мамы это стало целым событием, так как я получил первую в жизни иногороднюю, дальнюю командировку, в которой мне впервые предстояла самостоятельная жизнь; для мамы это было тревожным испытанием, так как до этого она меня «из-под своего крыла» никогда еще не выпускала. Чтобы быть ближе ко мне и иметь возможность хотя бы изредка видеть меня, вскоре после моего отъезда из Ленинграда мама приехала в Москву и остановилась у тетя Зины в Леонтьевском переулке. Завод в Павшино быстро развивался, и начиналось строительство будущего города Красногорска. Но пока были выстроены лишь два-три дома – для ответственных заводских работников. В поле, на подходе к заводу стояла группа деревянных, сколоченных из досок, на скорую руку, с кое-как заткнутыми паклей щелями между досок, насквозь продуваемых ветром бараков, с пристроенными к ним в 30-40 метрах будками-туалетами. Вокруг, в поле, по всем направлениям, были занесенные до верха снегом фундаменты будущих домов, в которые страшно было провалиться в кромешной тьме, когда около полуночи мы возвращались с завода после второй смены. Рабочих рук на заводе не хватало, поэтому, подучив наскоро выполнять несложные операции на станках, нас, студентов, поставили работать в три смены. Так же как строители и некоторые рабочие завода, мы, приезжие, тоже поселились в одном из бараков, в двух комнатах: в одной девочки, в другой – парни. Когда мы отыскали наш барак и подошли к нему, то на входной его двери прочитали «соленую», едкую, не без острого народного юмора, сделанную чуть ли не полуаршинными буквами надпись: «Бардак № 15». Это крепкое обрусевшее слово в общих чертах характеризовало бытовые условия проживания в бараке. Водопровода не было, воду откуда-то притаскивали по очереди, из уличной колонки что ли, сейчас уже не помню. Железная печка в комнате натапливалась в течение вечера до малинового цвета – так, что мы сами побаивались пожара от сильно нагретой железной трубы, выходящей сквозь потолок наружу. На печке кипятили в чайнике и металлических кружках воду и немудрёно ужинали, кто чем мог, кто что имел, угощая и делясь друг с другом – время было трудное, голодное, властвовала карточная система. В основном же питались мы на заводе в цеховых буфетах, чем в них кормили уже не помню, осталось только в памяти, что, не каждый день, продавали кумыс в бутылках, на которые все набрасывались; перед тем, как начать пить кумыс; все его почему-то встряхивали, заткнув горлышко пальцем или ладонью. Помню, что, впервые купив бутылку кумыса, я по примеру окружающих тоже встряхнул ее несколько раз, заткнув пальцем горлышко, и когда, по неопытности, быстро отнял палец, то, как минимум, полбутылки вылетело фонтаном наружу, облив стену. От натопленной докрасна печки в комнате к ночи становилось жарко, мы раздевались почти догола и блаженно засыпали под стрекотанье сверчков, продолжавшееся до середины ночи. Ложась спать, мы клали в постели, сбоку от себя или в ногах все наши теплые вещи, чтобы к пяти-шести часам утра можно было бы натянусь их на себя, так как все тепло из комнаты выдувало через щели между досками стен, и температура в комнате становилась близкой к нулю. Одна-единственная лампочка, ввернутая в голый патрон, висящий на электрических проводах под потолком, давала мало света: читать и заниматься было трудно, тем более что в комнате нас жило несколько человек, занимавшихся каждый своим делом, работавших на заводе в разные смены – кто в утреннюю, кто в вечернюю, кто в ночную; у каждого из нас был, таким образом, свой режим жизни – один хотел спать, другие играть на гитаре и петь или рассказывать смешные и занимательные истории из жизни. Жили мы дружно и весело, не очень огорчаясь далеко не блестящими окружавшими нас условиями, ходили в гости в комнату наших девочек, а они приходили к нам для общих посиделок. Все мы стремились к выходной день попасть в Москву, посмотреть ее, может быть, успеть сходить в кино, прикупить чего-нибудь поесть, если удастся (при существовавшей карточной системе) и в этот же день успеть вернуться в Павшино. В этом смысле я оказался в лучшем из всех наших студентов положении, так как имел в Москве родных, у которых мог переночевать – следовательно, у меня было больше свободного времени и возможностей куда-то сходить, вплоть до посещения театра в вечернее время. Тетя Маруся Лилина могла позвонить Рипси[67] и попросить устроить для меня место на спектакль МХАТа. Попадешь к родным – тебя непременно чем-нибудь накормят, даже если не хочешь есть и отказываешься (так всегда было принято в нашей семье), а на следующий день и с собой чего-нибудь завернут из еды, на дорогу (если, конечно, было что самим есть, время-то было в этом смысле не очень легкое). Когда мне удавалось выбраться в Москву, приехав из Павшина на Виндавский вокзал (как прежде назывался нынешний Рижский вокзал), я ехал к моей любимой тете Любе с ночевкой[68]. Тетя Люба уже жила одна в бывшей столовой-гостиной, застекленная дверь которой выходила в прихожую; в соседней комнате (бывшая ее спальня) жил ее сын Константин Иосифович Корганов, с женой Татьяной Сергеевной и малолетней дочкой Любочкой. Бывшая большая отдельная квартира Любови Сергеевны стала коммунальной и жильцы с трудом терпели тетю Любу с ее по-прежнему многочисленными кошками; Любовь Сергеевна была уже пожилая, а главное – больная, с больной ногой, и убирать достаточно тщательно за кошками ей стало не по силам. Можно было понять и жильцов, так как уже при входе в квартиру кошачий аммиак сразу бил в нос. На свои скудные деньги тетя Люба покупала конину, которой кормила кошек и кормилась сама; она жарила такие вкусные румяные котлеты из конины, что просто пальчики оближешь! Котлеты эти были хорошим подспорьем к моему не очень щедрому рациону в цеховом заводском буфете; я их любил даже больше говяжьих, казавшихся мне после конины какими-то сладковатыми. На зиму конина закупалась впрок и хранилась на морозе на балконе комнаты. Когда я приезжал, тетя Люба устраивала «Луккулов пир» из котлет и настоящего черного кофе, и как-то проговорилась, что любит черный кофе с рюмочкой ликера «Какао-Шоа»; как только мне выдали на заводе первую получку, я отыскал в магазинах бутылку этого ликера и «пиры» наши стали совсем «роскошны». При этом возникало только одно неудобство; дело в том, что моя мама не переносила ничего спиртного, и в нашем доме никогда не было даже рюмки легкого вина, а тут ликер, крепостью 45, а то и больше градусов. Поэтому наши «роскошные пиры» под черный кофе с рюмочкой продолжались до появления мамы, приходившей из Леонтьевского переулка повидаться со мной; как только раздавался звонок от входной двери, выведенный в комнату тети Любы (как и у всех жильцов тогда уже коммунальной квартиры), ликер, оставшийся в рюмках спешно выпивался, а рюмки и бутылка «Какао-Шоа» мгновенно «перелетали» со стола под диван, чтобы не доставлять маме огорчения. Кстати сказать, тетя Люба укладывала меня спать на этот самый диван, и ко мне на ноги ложились два необыкновенно больших, очень тяжелых кота Булька и Петька; они были столь весомы, что утром я просыпался в той же позе, как заснул, не в силах повернуться во сне под тяжестью согревавших меня котов. Конечно, приезжая из Павшина в Москву, я приходил в Леонтьевский переулок, где неизменно заставал на «служебном посту» швейцара и дежурного по Оперной студии дядю Мишу, сами помещения студии, почти всегда – полными оживленными группами артистов-студийцев, а в «Онегинском» зале проходили репетиции или занятия. Поднявшись наверх, на третий этаж, я обычно слышал голос какой-нибудь ученицы, доносившийся из комнаты Зинаиды Сергеевны, и ее тихий спокойный голос, поправляющий ученицу или ей что-то разъясняющий. Иногда около двери комнаты Зинаиды Сергеевны, в ожидании своей очереди на занятия, сидели еще одна-две ее подопечные, стремящиеся приобщиться к высокому театральному искусству. Моя мама, сидящая в маленькой комнатке отдыха Владимира Сергеевича, увидев меня через проем двери, неизменно делала мне предостерегающий знак рукой и говорила, чтобы я не шумел: «У Зины идут занятия!» Если учениц и занятий у Зинаиды Сергеевны не было, то она всегда что-то писала, а заслышав, что я пришел, через какое-то время отрывалась от своей работы, выходила на лестничную площадку ласково поздороваться со мной, спросить – как я и, с принятым в семье Алексеевых радушием, напомнить маме, что есть щи, каша или еще что из немудреного меню, приготовленного общими усилиями обеих сестер. Заходил я (чаще всего с мамой, но иногда и один) и к Станиславским, спустившись к ним в квартиру по поскрипывающим ступеням винтовой лестницы. На скрип ступеней выходили или выглядывали из своей комнаты или кухни Наталия Гавриловна и, реже, Анюта, и докладывали – можно ли пройти к Марии Петровне или она занята, может, отдыхает. Заслышав наши голоса, иной раз выходила сама тетя Маруся с неизменной приветливостью приглашая зайти к ней в спальню, говоря, что «Костя занят» или «Костя отдыхает», или «Костя пишет», или «у Кости сейчас такой-то». А когда она сама бывала занята – мягко, но без обиняков просила зайти в другое время. Время стало незаметно приближаться к Новому, 1932-му году. Наши ребята-студенты стали задумываться, как встречать Новый год, решали – кто уедет в Москву к друзьям или родным, кто поневоле останется в Павшине. У нас в семье всегда было принято встречать Новый год дома, и я сказал, что буду его встречать с мамой. Я и мама думали это сделать с тетей Любой, полагая, что тетя Зина пойдет «новогодничать» с дядей Костей и тетей Марусей. Но в последний мой приезд в Москву в уходящем 1931 году мама мне сказала, что на Новый год к Станиславским приглашены «Зина, я и ты, Степа». Встреча предполагалась скромная, недолгая, стариковская в семейной обстановке; из посторонних ожидалась только Лидия Михайловна Коренева (находившаяся в дружеских отношениях с Марией Петровной). Разумеется, мы оба очень обрадовались этому приглашению, а мама особенно: «в кои-то веки можно будет побыть всем близким старикам вместе в обществе Кости; жаль, конечно, что не будет брата Володи, который встречает Новый год у себя дома, вероятно с Вевой[69], возможно с Леличкой[70], если она не уйдет в молодежную компанию, и наверняка – с Александрой Ивановной Камзолкиной, старым верным другом семьи, сколько лет заботящейся о Володе после смерти его жены Панечки[71]». Я тоже обрадовался возможности встречи Нового года у Станиславских, где, конечно, много будут говорить о МХАТе и вообще о театрах, которыми в нашей семье все были полны с детства. Правда, в глубине души меня смущала мысль – не окажусь ли я, юноша, только вступающий в жизнь, лишним в обществе маститых, знаменитых театральных деятелей, хоть и своих, родных. Интересно мне было встретиться и с Лидией Михайловной Кореневой, которую прежде я уже видел мельком раз иди два в жизни. «Говорят, что Лидия Михайловна Коренева похожа на меня в молодости», – сказала мне мама, но я не нахожу этого, – черты лица мамы и в молодые годы (по фотографиям) и теперь, в преклонном возрасте мне казались нежнее, мягче, округлее, а у Лидии Михайловны – острее. Но Лидия Михайловна безусловно была хороша собой, даже красива и раньше и теперь, с седыми волосами. 31 декабря я приехал из Павшина относительно рано и добрался с вокзала прямо в Леонтьевский переулок. Чем ближе надвигался вечер, тем нетерпение мое все больше возрастало, а мама и тетя Зина были заняты своими обычными делами и явно пока не собирались одеваться к встрече Нового года. Я представлял себе, что мы все соберемся в Большом кабинете дяди Кости часам к десяти, ну – к половине одиннадцатого вечера; но было уже далеко за девять часов, а мама и тетя Зина все еще, казалось, не торопились, хотя тетя Зина вышла из своей комнаты и советовалась с мамой, что они наденут к встрече. Тетя Зина всегда аскетически строго и скромно одевалась, главным образом в темные тона; поэтому в какой-нибудь светлой кофте и с приколотой брошкой она уже выглядела необычно и парадно. Наконец, около половины двенадцатого, тихо, чтобы не обеспокоить жильцов третьего этажа, мы двинулись по длинному коридору к верху винтовой лестницы, ведущей в квартиру Алексеевых-Станиславских – тетя Зина впереди, за ней я и замыкающей – мама. Тихо и осторожно спустившись по скрипучей лестнице в конец квартиры Алексеевых, между дверью в кухню и маленькой дверью, ведущей через небольшой тамбур в столовую, мы увидели хлопочущих Наталию Гавриловну и Анюту, заканчивающих сервировку праздничного стола. Заслышав наши голоса, вышла из своей комнаты Мария Петровна и за ней – Лидия Михайловна Коренева, мы поздоровались и были приглашены пройти в столовую. При входе в нее, буквально в двух шагах за входной дверью, спинкой к двери стояло кресло (кажется, это было знаменитое венецианское кресло, привезенное Константином Сергеевичем для постановки «Отелло» в Обществе искусства и литературы); оно стояло у короткой стороны большого обеденного, празднично сервированного по хрустящей накрахмаленной белой скатерти стола, продолжавшегося в сторону первого (левого) окна столовой. По левой стороне стола было поставлено всего два стула, так как далее, у двери, разделяющей столовую и спальню Константина Сергеевича, стоял большой сундук (как говорили – с вещами Марии Петровны), сейчас закрытый столом. По правую сторону стола стояло пять или шесть стульев (с довольно высокими спинками), за которыми оставалось не очень большое свободное пространство до большого массивного дубового буфета и серванта, деливших комнату на две части. В отгороженной высоким буфетом части столовой была устроена комната для медицинской сестры Любови Дмитриевны Духовской, круглосуточно дежурившей рядом со спальней Станиславского, и готовой в любое время дня и ночи придти к нему по зову колокольчика, всегда стоявшего под рукой Константина Сергеевича на его тумбочке, у изголовья кровати. Этот колокольчик и стакан с кипяченой водой, прикрытый листком писчей бумаги, и сейчас стоят на своих местах, как стояли пятьдесят с лишним лет тому назад при жизни хозяина. Тетя Маруся пригласила рассаживаться за столом. Все конечно поняли, что кресло, стоящее во главе стола, предназначено для хозяина дома. Лидия Михайловна прошла на левую сторону и села на второй, более дальний стул, оставив свободным место около Константина Сергеевича для Любови Дмитриевны. Первый стул справа оставила за собой Наталия Гавриловна, за ней села тетя Зина, потом я, моя мама и последней, со стороны окна – тетя Маруся, развернувшись как-то полубоком и подперев голову ладонью правой руки, локоть которой поставила на стол, чтобы быть лицом к сидящим. Через короткое время в дверях появился Константин Сергеевич, в домашней пижаме (мне запомнилось, – в серо-голубой, с широкими полосами), и за ним Любовь Дмитриевна, несущая теплый плед для своего подопечного, что было совсем не лишним, так как в комнате было прохладно. Константин Сергеевич поздоровался со всеми присутствовавшими общим поклоном, несколько смущенно извинился за свой домашний, непарадный вид, сел в кресло, и Любовь Дмитриевна тут же накинула ему на его спину и плечи принесенный плед. Супруги Алексеевы год с небольшим назад (в начале ноября 1930 года) вернулись из Баденвейлера, где Константин Сергеевич длительно лечился после тяжелого сердечного заболевания в памятный 30-летний юбилей МХАТа, трагически закончившего его актерскую жизнь на сцене. Заговорили о впечатлениях от жизни за рубежом. Прошло уже более полувека с того вечера, и я не помню конкретно, что рассказывалось на интересовавшую всех нас и прежде всего Константина Сергеевича, тему о театральном искусстве, в данном случае – о состоянии его в Германии и во Франции; у меня тогда осталось общее впечатление, что с позиции требований высокого искусства, предъявляемых Станиславским, западно-европейское театральное дело в начале тридцатых годов, находилось на довольно низком уровне и второстепенном месте; на первом месте по популярности и посещаемости были варьете, кабаре, шансонье, подчас интересные и талантливые, а отдельные исполнители встречались даже очень одаренные, броские, но в массе это не было искусством с большой буквы. Константин Сергеевич говорил о том, что Париж и Франция пели и танцевали, забыв тяжкие последствия и уроки Первой империалистической войны. А в Германии итогов этой войны и Версальского мира не забыли; с молчаливого согласия и одобрения США и Англии, в Германии активно и нагло поднимают головы реваншисты и национал-социалисты, поддерживаемые милитаристами, владельцами крупного капитала, такими, например, как Крупп. Дело начинает оборачиваться нешуточной подготовкой новой мировой войны, пока Франция и другие страны «изъерничавшейся» (как сказал Константин Сергеевич) Европы танцуют и развлекаются. Если дело дойдет до войны, положение Киры с Килялей и Игоря с семьей может оказаться ужасным, надо, чтобы они поскорее возвратились в Москву. А ты, Маня, живя с семьей в Ленинграде, фактически живешь на границе, и вам тоже нужно перебираться сюда, – такой примерно мыслью закончил свой рассказ Константин Сергеевич. Затем заговорили тоже на всех волнующую, животрепещущую тему выпуска в МХАТе спектакля «Страх» по пьесе А. Н. Афиногенова, премьера которого только-только состоялась в последней декаде декабря. Константин Сергеевич затратил много сил физических и нервных сил на выпуск спектакля, тем более, что в свое время он рекомендовал эту пьесу к постановке. Главную роль профессора Бородина играл Леонид Миронович Леонидов; для внешнего облика своего героя и, в какой-то мере, манеры держаться он использовал некоторые характерные черты Владимира Сергеевича Алексеева, чего, мне кажется, даже не скрывал. Позднее я видел мхатовский спектакль «Страх» и могу подтвердить, что действительно профессор Бородин Леонида Мироновича Леонидова напоминал дядю Володю. Но в данном случае интерес и переживания присутствующих на встрече Нового года у Станиславских, и прежде всего Константина Сергеевича, относились к неприятному, всех глубоко разволновавшему факту – на последних репетициях Константин Сергеевич вынужден был снять с роли старой большевички Клары Спасовой Ольгу Леонардовну[72], из которой так и не получилось старой питерской пролетарки, несмотря на персональные упорные занятия с ней Константина Сергеевича. На последних репетициях пришлось окончательно передать роль Клары Спасовой актрисе Н. А. Соколовской. Но знаменитая речь Клары в спектакле МХАТа так и не стала одной из центральных сцен, как это имело место в спектакле «Страх», шедшем в Ленинградском театре имени Пушкина (бывшем Александринском), где роль старой большевички совершенно великолепно, с полной убеждающей правдивостью играла Екатерина Павловна Корчагина-Алексадровская[73]. Неудача с исполнением роли Клары Спасовой снижала впечатление от спектакля «Страх» МХАТа, была его неудачей. Но для Марии Петровны, дружившей всю жизнь с Ольгой Леонардовной и, конечно, для Константина Сергеевича был особенно болезнен сам факт произошедшего – вынужденное отстранение от исполнения роли старейшей актрисы театра, которая, естественно, очень болезненно переживала это. Затем общая беседа как-то перекинулась на современные нравы, легкомысленность взаимоотношений супружеских пар, и Любовь Дмитриевна, работавшая еще относительно недавно в больнице имени Склифосовского, рассказала нам две довольно пикантные истории, имевшие место в недавней практике больницы. Одна история была трагическая, вторая – трагикомическая, носившая просто водевильный характер. Трагический случайВ комнату коммунальной квартиры переехал сумрачного вида военный с семьей, которая состояла из двух его жен – так он представил жильцам приехавших с ним женщин, и ребенка от более пожилой из них. После переезда глава семьи ушел на работу, а когда вечером вернулся домой, то оказалось, что женщины не смогли полюбовно разместиться в комнате, поделить более теплый ее угол и вынесли это на его суд. Глава семьи решил спорный вопрос в пользу более пожилой женщины, имевшей от него ребенка. Тогда молодая жена схватила револьвер, неосторожно оставленный мужем на столе, и выстрелила себе в рот; пуля прошла навылет и попала главе семьи в мужской член, после чего он был отправлен в больницу, где ему пострадавший орган ампутировали. По окончании этого трагического рассказа в комнате наступила минутная тишина, среди которой негромко прозвучал грудной голос Константина Сергеевича: «Да, ирония судьбы!» Пожалуй, еще стоит упомянуть о новогоднем столе Станиславских. Время все переживали трудное, действовала карточная система, так что «разносолов» на столе не было. Тем не менее на празднично сервированном столе стояла бутылка настоящего французского шампанского, специально припасенная Марией Петровной к встрече Нового года, и миска с русской кислой капустой – выпивка и закуска для новогодних тостов. Помню еще, что Анюта хлопотала с новогодним пирогом и самоваром, поставленным ею на сервант, а Наталия Гавриловна – с заварным чайником и разливом чая по чашкам. Любовь Дмитриевна напомнила Константину Сергеевичу, что ему нужно ложиться в постель, и он инертно, но, видимо, не очень охотно подчинился. Еще не было двух часов пополуночи, когда закончилось наше новогоднее бдение, и мы, поблагодарив радушных хозяев и пожелав друг другу спокойной ночи, тихо и осторожно, чтобы не тревожить жильцов третьего этажа, поднялись от Станиславских по винтовой лестнице и миновали длинный-длинный, темный коридор до комнаты тети Зины. После мило и интересно проведенной новогодней встречи был душевный подъем, спать совсем не хотелось и, к удивлению тети Зины, мы с мамой решили пойти к тете Любе, предполагая, что она встречает Новый год у сына, жившего с женой и дочкой в комнате, соседствующей с комнатой Любови Сергеевны, где прежде была ее спальня с Алексеем Дмитриевичем Очкиным. Шел третий час Нового 1932 года. Мы оделись, тихо спустились в Синюю комнату Оперной студии и, зная «скрипучий нрав» деревянной лестницы главного вестибюля осторожно прошли вниз к выходу и каморке Михайлы под лестницей; нам повезло – верный страж дома очевидно тоже встречал Новый год с семьей и бодрствовал. Заслышав наши шаги, он вышел на лестницу, мы поздравили друг друга с наступившим Новым годом и сказали Михайле, что уходим и вернемся скорее всего часа через два-три. Михайла любезно отпер нам входную дубовую тяжелую дверь и напутствовал нас советом, что если по нашему возвращению он долго не будет выходить на звонки, следует постучать ему с улицы в окно. По полутемному двору мы вышли в такой же полутемный, пустынный Леонтьевский переулок. Ночь была тихая, безветренная, и с неба тихо опускались снежные звездочки. По совершенно безлюдному Леонтьевскому переулку мы, не торопясь, пошли в сторону Никитских ворот, где было светлее, слышались отдельные голоса и пение прохожих. По Большой Никитской, по площади у Никитских ворот и по Тверскому бульвару шли во всех направлениях группы оживленных и веселых граждан, некоторые при этом весело подпевали и даже пританцовывали. Площадь Никитских ворот, покрытая непрерывно плавно спускающимся снегом, была довольно ярко освещена подвешенными на проводах электрическими лампочками-светильниками и с движущимися по ней толпами веселых людей выглядела празднично, даже парадно. Как мы предполагали, Любовь Сергеевна была у сына Кости, куда провели и нас. Тетя Люба выглядела утомленной, и наше появление, видимо, помешало ей уйти себе. Поэтому мы пробыли недолго, да и новогодний подъем пошел на убыль, потянуло ко сну. Когда мы возвращались, на улицах уже было менее оживленно; повернув с освещенной площади Никитских ворот в безлюдную темноту Леонтьевского переулка и углубясь в нее, мы заметили внезапно появившуюся мужскую фигуру, идущую нам навстречу, с которой мы мирно разминулись. Тем не менее мы ускорили шаг и вскоре были у запертой двери заветного особняка. Наши звонки были безрезультатны, пришлось постучать в окно; на стук, не торопясь, вышел заспанный Михайла, отпер и растворил тяжелую входную дверь и прохрипел сиплым, заспанным голосом, как всегда приветливо: «Пожалуйте!» Был он, вероятно, навеселе, так как на этот раз вышел в белой нижней рубашке и белых подштанниках, чего бы себе никогда не позволил, находясь в трезвом виде. Мы тихо, крадучись, поднялись наверх и так же тихо, как мышки, легли спать, чтобы не потревожить тетю Зину и других обитателей третьего этажа. На следующий день тетя Зина, мягко и ласково улыбаясь, с добрыми смеющимися глазами спросила нас: «Ну как, полуночники, нагулялись?!» Глаза К. С. СтаниславскогоГлаза называют зеркалом души человека. Это определение и очень широко обобщающее, и в то же время, бедное и скупое, когда речь заходит о таких интеллектуально сложных, интереснейших в своей величайшей человеческой и профессиональной сущности личностях, какой был Константин Сергеевич Алексеев-Станиславский – человек с пытливым от природы складом ума, достигший в зрелые годы обобщающего философско-аналитического мышления крупного ученого, причем добившийся этого собственным умом и упорством, собственными силами, собственным нелегким жизненным опытом. Известно, что Константин Сергеевич не получил образования в специальном театральном учебном заведении, не окончил ничего, что могло бы ему помочь добраться до тех величайших вершин, открытий и им же созданной театральной науки в ее разнообразном понимании и значении – от законов актерского и режиссерского творчества до архитектурных и технических требований, предъявляемых к устройству и строительству современных ему театральных зданий, от законов сценической речи до умения носить костюмы и знания эпох, прожитых человечеством, от психологического значения на сцене пауз до законов звукового и музыкального факто-ров эмоционального воздействия на зрителя для решения сквозного действия спектакля и его сверх-сверхзадачи. Станиславскому всегда и все было интересно в том, что его окружало, или в том, с кем он общался, конечно, если суть наблюдения или общения была весома, имела отношение к искусству или науке, которой он поверял искания, и было талантливо, хотя, подчас, может быть, и не заслуживало его большого внимания. Так, например, он явно ценил самобытность и талант Александра Вертинского, и хотя жанр его искусства не считал высоким, значительным, а о песнях его отзывался как о пошловатых, а то и просто пошлых, но признавал, что Вертинский оригинален и неповторим. Константин Сергеевич прослушивал какие-то записи Александра Николаевича Вертинского не без удовольствия, в редкие минуты отдыха сидя в семейном окружении Марии Петровны, Киры Константиновны и подрастающей внучки Киляли, которые из Парижа привезли эти пластинки, и, конечно, пластинки с записями любимого и высоко ценимого Федора Ивановича Шаляпина. Записи Шаляпина Станиславский всегда слушал с явным удовольствием, высоко ценя артистизм и исполнительское мастерство его национального русского и в какой-то мере интернационального гения. Такие редкие семейные прослушивания проходили в большом кабинете Константина Сергеевича, и в качестве курьеза можно добавить, что здесь же обязательно присутствовала любимица всей семьи Пакишка – шоколадного цвета собачка типа спаниеля, также привезенная из Парижа. Сохранив до старости какую-то детскую чистоту и застенчивость, Константин Сергеевич как-то вдруг, бывало, смущался, и тогда начинались его известные всем, общавшимся с ним, знаменитые покашливания и иной раз даже робкие взгляды из-под нависших седых бровей, пока внезапное смущение не проходило. И вот тогда в какой-то момент вы замечали устремленный на вас пристальный, проницательно-изучающий взгляд его серых глаз, если Константин Сергеевич не был раздражен – чаще всего доброжелательный и очень заинтересованный, проникающий внутрь вашего «я», зовущий на откровенную доверительную беседу, а немного глухой грудной голос Константина Сергеевича, обращавшийся ко всем присутствующим или непосредственно к вам, обычно спрашивающий о том или ином, как бы еще усиливая притяжение его анализирующего взгляда, поднимая из глубин души собеседника то прекрасное и светлое, что есть, существует в человеке (и что, как это ни странно, мы в повседневной жизни чаще всего почему-то стыдливо прячем), заглушая все мелкое и недостойное в твоей сущности. Я никогда не видел в глазах Константина Сергеевича ничего нахального, наглого, настырного, что могло бы оскорбить собеседника и присутствующих. Глаза могли быть гневными, холодными, более того – ледяными и недобрыми, хотя недоброе это выражение обычно быстро переходило в беспомощно-растерянное, а затем в обиженное, досадующее на обстоятельства и причины, породившие его гнев или неприязнь. Кажется, я был на третьем или четвертом курсе института, когда однажды оказался с дядей Костей наедине в его большом кабинете в Леонтьевском особняке. Было это где-то в первой половине тридцатых годов. Попасть на личное свидание к Константину Сергеевичу было совсем не просто, так как занят он был всегда выше всякой человеческой нормы – продолжая работать для МХАТа, Оперного театра его имени, продумывая и проверяя на практических занятиях, репетициях свою последнюю методологию работы с актерами – метод физических (вернее, психофизических) действий, писал книгу «Работа актера над собой», часто активно отзывался на большие события, происходившие в стране, встречался с передовиками производства, театральными деятелями, приезжавшими из союзных республик, из зарубежных стран, откликался на запросы прессы. Я не знал причин, побудивших дядю Костю вызвать меня к себе и потратить на беседу со мной порядка получаса его драгоценного времени; я шел к нему в полном недоумении и, конечно, не без волнения. Единственно о чем я тогда подумал, что все это, безусловно, не без ведома и влияния тети Маруси Лилиной, которая вероятно напомнила мужу, что Маня с сыном Степой-Рыжиком приехали из Ленинграда и живут у Зины наверху. Не помню, кто меня впустил, тетя Маруся или Наталия Гавриловна через «рыцарскую» дверь в кабинет дяди Кости. Открыв тяжелую массивную дверь и остановившись на пороге, я увидел Константина Сергеевича, сидящего на покрытом белым чехлом диване, в его правом углу, то есть на своем обычном рабочем месте, с полуопущенной головой, что-то пишущего на коленях. Константин Сергеевич был в костюме, в белоснежной накрахмаленной рубашке, с галстуком «бабочкой». Я, не очень уверенным голосом, попросил разрешения войти. Услышав мой голос, дядя Костя, не отрывая пишущей руки от бумаги, поднял голову и, увидев меня, сказал глуховатым голосом, спокойно и приветливо: «Здравствуй, голубчик! Проходи». Я переступил порог кабинета, не отрывая глаз от фигуры Константина Сергеевича, позабыв о том, что нужно закрыть за собой массивную дверь; на пути к дивану я краем глаза заметил, что эту дверь кто-то закрыл за моей спиной, хотя все время неотрывно смотрел на приветливого хозяина, впрочем, как и он на меня – мы явно изучали или, по определению самого Станиславского, ощупывали друг друга щупальцами своих глаз. Когда я, пройдя между стоящих кольцом кресел в белых чехлах, приблизился к стоящему перед диваном круглому столу, покрытому серо-голубой клетчатой скатертью, хозяин положил на стол ручку с «вечным» паром и рукопись, протянул мне свою большую ласковую руку, я почувствовал его рукопожатие и ответил ему тем же; сказав: «Садись», дядя Костя посадил меня на диван, на расстоянии половины вытянутой руки от себя. Наступило молчание, мы неотрывно смотрели друг на друга, и я увидел в серых ласковых и изучающее смотрящих на меня глазах Константина Сергеевича, как в их зрачках запрыгали, если так можно сказать, смеющиеся чертенята-зайчики; дяде Косте явно было любопытно понять, что представляет собой входящий в самостоятельную жизнь его ленинградский племянник, о котором он больше знал понаслышке. Я окончательно смутился и отвел взгляд от лица дяди Кости. Тогда он прервал несколько затянувшееся молчание и мягким грудным голосом спросил: «Ты чем занимаешься? Кажется, ты оптик?[74]» Я посмотрел на дядю Костю – глаза его добродушно смеялись, «вытягивая» из меня ответ. Робко, подбирая слова, я ответил, что не оптик, а моей специальностью должно стать оптико-механическое приборостроение. «И что же, тебе это нравится? Тебе это интересно?» – его грудной голос заставил меня опять посмотреть ему в лицо – глаза продолжали смеяться, но светились интересом! Опять-таки сначала робко, но постепенно увлекаясь и отключаясь от сковывающего меня сознания, с кем я общаюсь, я стал рассказывать о значимости и перспективах оптико-механического приборостроения (наша промышленность в то время только начинала набирать силы и темпы – это был передовой край становления отечественной техники), необходимости разнообразных приборов для нужд других отраслей промышленности, для медицины, фотографии, кинематографии, наконец, для обороны страны. Вероятно, в моих рассуждениях что-то показалось интересным Константину Сергеевичу, так как он меня слушал, не перебивая и изредка согласно слегка кивая головой, а потом, перебив меня, вдруг спросил: «А как у тебя и твоей мамы со здоровьем? Говорят, вы на учете в туберкулезном диспансере?!» и, когда я ответил ему утвердительным кивком, посмотрел на меня долгим, тревожным и вдруг каким-то внезапно потухшим взглядом. Дядя Костя стал говорить о том, как плохо, что мы живем в Ленинграде, где климат плохой, сырой. «Я об этом уже говорил Мане. Надо что-то предпринять, чтобы вы переехали в Москву». Помолчав секунду, он добавил, что в случае войны в Ленинграде будет хуже, чем в Москве, опаснее – ведь там граница рядом, а все идет к тому, что войны, видимо, избежать не удастся! То, что я рассказал, осталось в моей памяти. О чем мы еще говорили я уж теперь не помню, вероятно, о чем-то не очень значительном. Наконец, посмотрев на меня внимательным и доброжелательным взглядом, Константин Сергеевич протянул мне руку и сказал что-то вроде: «Ну, до свиданья, голубчик. Поцелуй маму. Желаю тебе успехов». Я пожал протянутую руку дяди Кости и, не торопясь, вышел из кабинета. Ушел я от Константина Сергеевича в каком-то совершенно успокоенном, уравновешенном душевном состоянии, с чувством, что я только что соприкоснулся с чем-то очень фундаментальным, внушающим уверенность и надежды. В глубине души промелькнула мысль (может быть, недостойная, мелкая?!), что кажется, я не «провалился», произвел более или менее благоприятное впечатление на требовательного, взыскательного Станиславского – и тут мне вдруг стало стыдно и неловко за эту мысль! Что было бы, если бы сейчас глаза дяди Кости встретились с моими?! – в тревоге подумал я, но тут же со свойственной молодости легкостью заставил себя больше об этом не думать. Алексеевы любили фотографии, любили снимать и сниматься. В юные годы не избежал этого и Костя Алексеев – свидетельством тому служат великолепные альбомы фотографий спектаклей «Алексеевского кружка», заснятые в последовательно изменяющихся позах каждой мизансцены, чуть ли не каждой фразы каждого персонажа спектаклей. Это помогает теперь нам, через прошедшие стол лет, понять очарование и живость молодых исполнителей, первые актерские и в какой-то мере режиссерские решения, остроту и юмор характеристик персонажей, вкус и взыскательную требовательность к себе талантливых любителей. Фотографии эти, последовательно по развертыванию сюжета смонтированные, ныне хранятся в фондах Дома-музея К. С. Станиславского и представляют собой ценность для исследования творчества Константина Сергеевича, Зинаиды Сергеевны и Анны Сергеевны, жизнь которых вошла в русло большого театрального искусства. В Доме-музее К. С. Станиславского хранится какое-то количество шутливых, если хотите, озорных фотографий молодого Кости Алексеева с друзьями – например, с братьями Кашкадамовыми, Данцигером и другими, на велосипедах, сидящими на спинках стульев, опершись тросточками на их сиденья, с шутливыми сценками… С годами желание фотографироваться у Константина Сергеевича уменьшилось, но по мере того, как он становился знаменитым, его стали больше фотографировать. Фотографий Станиславского осталось много, но лишь некоторые из них передают, да и то далеко не в полной мере живое выражение его глаз – заинтересованное и влекущее к себе, проникающее в собеседника и изучающее его. К таким я отнес бы портрет, сделанный в 1916 (1917?) году, на котором он сфотографирован с чуть повернутой (на четверть от анфаса) головой, опертой на левую руку: на этом портрете глаза Константина Сергеевича устремлены чуть вбок изучающе-заинтересовано, с лукавинкой, точно он хочет сказать: «Посмотрим, что у вас там, интересно, получится в конце-концов?!»[75] Одна из фотографий 1937 года приблизительно зафиксировала проникающий в собеседника взгляд Константина Сергеевича, зовущий на откровенный разговор, общение. Я совсем не уверен, что мне удалось достаточно всесторонне поведать о необычно выразительных глазах Константина Сергеевича Станиславского, да это и невозможно. Я старался рассказать правдиво, объективно и искренне, приводя обстоятельства, которые могли вызвать появление того или иного выражения глаз Константина Сергеевича, поэтому изложение мое может показаться несколько затянутым и уводящим в сторону от основной темы. Но я твердо уверен, что тот, кто хоть раз видел живые глаза К. С. Станиславского, встречался с ними взглядом, глядел в них в минуты совместной беседы, творчества, гнева или радости, не мог не почувствовать величие разума, доброжелательности, ранимости и душевной чистоты этого мыслителя, деятеля и Человека. Месяц в КомаровкеЯ открыл глаза. В комнате было светло, и на ее белесых стенах играли зеленоватые отблески от качающихся на утреннем ветерке освещенных солнцем кустов, выращенных перед окнами большого старого Комаровского дома, доставшегося Анне Сергеевне Штекер по наследству от родителей. В 1873 году в этом доме ее отцом Сергеем Владимировичем Алексеевым была организована и оборудована для окрестного населения бесплатная Елизаветинская (названная в честь обожаемой им жены Елизаветы Васильевны) лечебница, которой заправлял молодой доктор (впоследствии знаменитый гинеколог Москвы) Владимир Акимович Якубовский. Наверное, было около восьми часов утра. В доме все было тихо и не слышно (как это обычно бывало) шаркающих шагов хлопочущей хозяйки дома Анны Сергеевны, моей тетки Нюши, пригласившей меня пожить у нее месяцок летом 1934 года, в мое каникулярное время. Был мне 21 год; совсем недавно, в июне, я закончил (почти на круглые пятерки) четвертый курс ЛИТМО и с удовольствием отдыхал на даче среди родных. Тетю Нюшу я вообще-то знал совсем мало, больше понаслышке, и приглашение пожить лето в Комаровке было получено, как я считал, благодаря Милуше[76], дочери тети Нюши, которую, из ее детей, я лучше всех знал, ведь она останавливалась у нас в Ленинграде во время гастролей МХАТа. Поэтому, попав в Комаровку и будучи принят с полным радушием и приязнью тетей Нюшей, ее сыновьями – молодым красивым Володей[77], с малых лет болеющим туберкулезом, Дрюлей и Гоней Штекер, а также Китри[78], женой Гони, я всетаки чувствовал себя несколько стесненно, а поскольку успел ранее наслушаться рассказов про насмешки и розыгрыши, которые всегда устраивал Гоня, не сомневался, что и меня сия «чаша» не минет. Так оно и вышло; уж за какие мои недостатки или качества, я не знаю (может быть, за «провинциальность» ленинградца), только Гоня и его красивая жена Китри, с зеленовато-стальным холодным, «мечущим стрелы» насмешливо-пронизывающим взглядом необычных глаз, прозвали меня «дедом Пахомом»! Почему? Не знаю, может быть, в силу некоторой, что ли, параллели с Лариосиком из «Дней Турбинных»: они коренные московские, столичные, а я кузен ленинградский, провинциальный, о котором когда-то, что-то они слыхали. Надо сказать, оба милых супруга, шутники и насмешники, были не без снобизма. В 21 год я выглядел моложе своих лет, почти еще мальчиком, но если в гостях у хозяев дома появлялась красивая или просто хорошенькая женщина, дразнилки Гоня и Китри (а потом за ними и другие), знакомя меня с ней, непременно представляли меня с насмешливой улыбочкой: «А это наш дед Пахом!» Меня это мало задевало, скорее забавляло, и я даже сам, посмеиваясь, вступал в «эту игру», словесно обыгрывая свое «дедпахомство». В то утро, о котором я начал писать, проснувшись окончательно и боясь нарушить тишину, я немного полежал в постели, прислушиваясь, потом осторожно оделся и крадучись, на цыпочках прошел в соседнюю большую комнату, с круглым обеденным столом посередине, откуда был выход на небольшую открытую веранду и в сад. Я прокрался на веранду и осторожно спустился в сад. День выдался солнечный, яркий и мне показалось странным, что тетя Нюша, обыкновенно встававшая рано (по бессоннице), до сих пор не появилась; я даже забеспокоился, не случилось ли чего, ведь она была сердечница, и, когда наступали сердечные приступы, Гоня часто впрыскивал ей камфару. Потом я вспомнил, что вчера мы поздно засиделись в столовой, как обычно слушали часто передававшиеся в то время по радио оперы с участием итальянских певцов (Пертелле, Джильи, Марии Каллас) и оперетты Кальмана. В особенности все любили «Фиалку Монмартра», из которой тетя Нюша хорошо знала наизусть многие арии и дуэты, и, занимаясь своими бытовыми делами, со свойственной ей природной музыкальностью с удовольствием напевала их: «бродила» в ней старая «закваска» опереточной примадонны со времен «Алексеевского кружка»! Но в другой раз Анна Сергеевна напевала игривую шансонетку: Мечтала я, Любила Анна Сергеевна не торопясь разложить несколько пасьянсов, чем вчера и занялась после ужина, а я показал незнакомый ей пасьянс под пикантным названием «Аборт» – как говорили мне, якобы любимый Леонидом Витальевичем Собиновым. Пасьянс требовал внимания, создания некоторой умозрительной комбинации при его раскладке и выходил довольно редко. Когда я показывал пасьянс, он сошелся, после чего тетя Нюша под моим руководством тоже стала его раскладывать – он не вышел… Она во второй раз разложила пасьянс – опять неудача. Тогда, дабы тетя Нюша лучше уяснила новый пасьянс, я еще раз его разложил, а она внимательно смотрела и задавала вопросы – пасьянс вышел. Ободренная результатом, тетя Нюша взяла у меня карты и стала сама раскладывать злополучный пасьянс, я же пожелал ей спокойной ночи и пошел спать; когда, закрывая дверь в комнату, где меня поселили, я обернулся, мне запомнилась фигура маленькой старушки в халате, чуть склоненная над столом, на котором тетя Нюша продолжала раскладывать «упрямый» пасьянс. Выйдя в сад, я немного постоял на утреннем солнышке, а затем, обогнув дом тети Нюши, вышел к коттеджу, низенькому домику, который занимали дядя Володя (Владимир Сергеевич) и его внучка Леличка (Елизавета Владимировна), недавно вышедшая замуж за кинооператора, впоследствии – кинорежиссера Али Атакшиева, того самого, что сделал нашумевший фильм «Аршин мал-алан» с певцом Рашидом Бейбутовым в главной роли. Заглянув с дорожки сада через открытую дверь внутрь коттеджа, я увидел дядю Володю, сидящего за столом, пьющего утренний чай с теплыми хрустящими хлебными тостами, подсушенными на тут же стоящей на столе небольшой электрической печке. Не заходя внутрь, я поздоровался с дядей Володей, и мы стали о чем-то разговаривать – вероятнее всего о его любимых, собираемых им испанских песнях, к которым он делал поэтические переводы, после чего отдавал песни для разучивания и исполнения в концертах своей любимице Марии Николаевне Шаровой (певице Оперного театра К. С. Станиславского), с мужем которой, басом этого же театра Алексеем Дмитриевичем (Алешей, как звал его Владимир Сергеевич) и молодым его братом Всеволодом Степановым дружил. Кстати говоря, Алексей Дмитриевич Степанов был великолепный фотограф-любитель, и ему мы все обязаны целым рядом прекрасных, редких фотографий стариков Алексеевых – Владимира Сергеевича, Константина Сергеевича Станиславского (в том числе его фотографией на смертном ложе), Зинаиды Сергеевны Соколовой и Марии Сергеевны Севастьяновой (конца тридцатых годов). 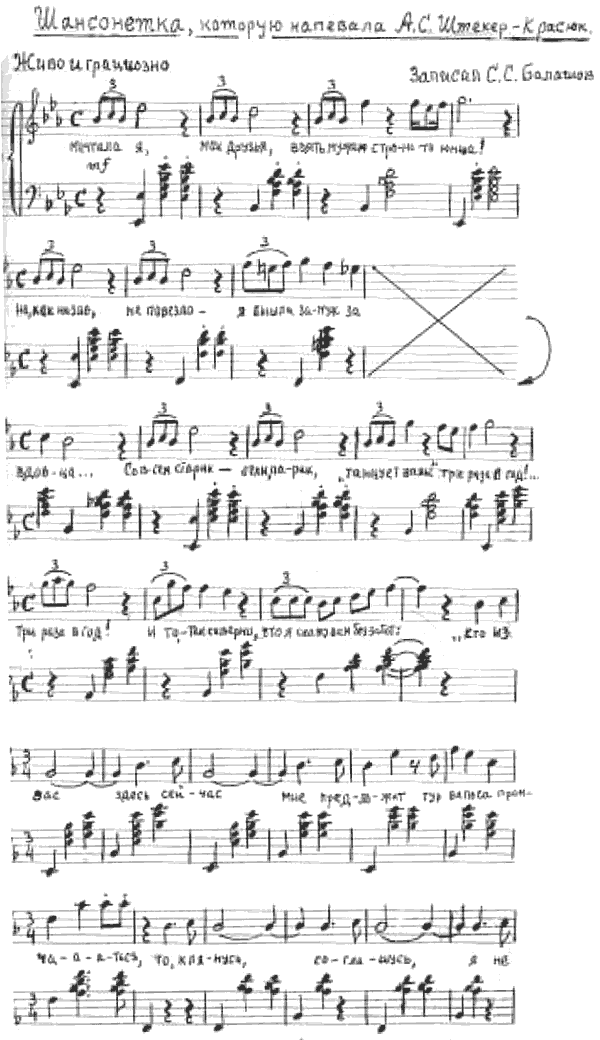 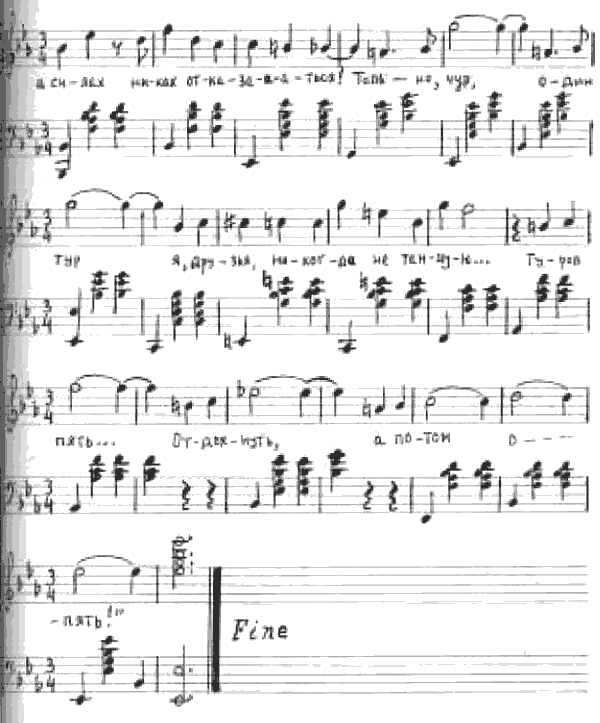 Пока мы беседовали, из внутренних комнат коттеджа появилась заспанная Леличка в халате, накинутом на голое тело и не застегнутом. Увидав меня, она заговорила со мной, как всегда экспансивно и темпераментно: «Дед Пахом, дед Пахом, ты вчера слушал „Фиалку Монмартра“? Правда замечательно! Посмотри, я тебе сейчас исполню „Карамболину“„, и Леличка тут же запела и стала танцевать, в развевающемся халате, при каких-то „па“ поворачиваясь ко мне спиной, нагибаясь и откидывая кверху полы халата, так, что временами мне была видна ее голая попа! В это время появился ее молодой муж Али, с которым я еще не был знаком; на лице его было написано явное неудовольствие, а дядя Володя, видя все это, в ужасе лепетал: „Леличка, Леличка, что ты делаешь, что ты делаешь…“ и больше ничего произнести не мог, а та продолжала петь и танцевать, как говорят, «с полной отдачей“! Я, конечно, страшно смутился и не знал, куда глаза девать… Все, что Леличка делала, когда что-нибудь представляла или, слегка захлебываясь словами, рассказывала, было импровизационно, темпераментно и, главное, талантливо. Тут кто-то пришел за мной – звать к завтраку. Когда, миновав веранду, я оказался в столовой и поздоровался со всеми, в первую очередь с тетей Нюшей, она ворчливым голосом мне сказала: «Ну, племянничек, удружил ты мне, показал пасьянсик… Я до пяти часов утра хлопала картами, а он так и не вышел – ни разу!». В то комаровское лето 1934 года запомнилась мне десятилетняя девочка, какая-то хрупкая, скорее даже некрасивая, но очень женственная и тихая, обаятельная Танюша Штекер или Танча, как ее все называли, внучка тети Нюши, дочка умершего Води (Всеволода Андреевича) Штекера и Ксении Дмитриевны (урожденной Арбатской). Тетя Нюша всячески обхаживала своего младшего, горячо ею любимого больного туберкулезом сына Володю Красюка, продляя ему жизнь и всеми возможными способами борясь с его страшной болезнью. Сколько ее детей умерло от наследственного туберкулеза – Водя, Сережа, Соня, теперь вот больны Дрюля (Андрей Андреевич Штекер, тоже в то лето живший в Комаровке) и Вова! Меньше чем через два года, первого мая 1936 года не стало самой Анны Сергеевны, на почве плохой работы сердца сделалась у нее водянка, говорили тогда, что воду из нее удаляли чуть ли не ведрами. А 10 января 1937 года ушел из жизни еще совсем молодой, на 29-м году жизни, красивый и талантливый, похожий чем-то на К. С. Станиславского Володя Красюк – умер от милиарного туберкулеза легких; Милуша рассказывала, что когда его вскрыли, легких у него совсем не обнаружили, а были только пленки, приросшие к ребрам… Из впечатлений пребывания тогда в Комаровке помню еще приезд красивой и эффектной женщины из рода Красюков, очень приятной, жившей в Тифлисе (если мне память не изменила); кажется, эта милая женщина была тетей Володи Красюка и в семье ее звали Катиш. Довольно часто из Москвы приезжала Милуша, всегда нагруженная продуктами. Как-то приехала актриса театра имени Вахтангова, некрасивая, не задиристая и, безусловно, очень талантливая – в чем я позднее убедился, посмотрев ее на сцене, Лена Понсова; ее остро гротесковую настоятельницу пансиона «Небесные ласточки» в оперетте «Мадемуазель Нитуш» Эрве, вероятно, не забуду до конца дней своих, впрочем, как и весь талантливый, яркий спектакль Рубена Николаевича Симонова, поставленный столь своевременно в конце ужасной войны и сразу вошедший в репертуар театра Вахтангова после окончания этой страшной человеческой бойни. Конечно, Гоней и Китри я был представлен Лене Понсовой как «дед Пахом», что она тут же по-своему начала обыгрывать, стараясь уязвить мужское самолюбие застенчивого юноши; конечно, пошла задиристая словесная перепалка, из которой я вынес впечатление, что Понсовой очень хочется заставить меня за ней поухаживать, так как упор она делала на мою мужскую трусоватость. Наконец, в пылу умело «подогретого» мужского самолюбия, застенчивый юноша был вынужден поднять Лену на руки и начать целовать – конечно, она отбивалась, брыкалась, дрыгала ножками, но не очень уклонялась от моих губ, хотя своих не подставляла и нисколько не казалась обиженной… На втором этаже Комаровского дома в то лето жила Мария Федоровна Андреева, которая была тогда, как мне помнится, директрисой Московского Дома ученых. Кажется, дважды она меня возила на своей машине из Комаровки в Москву, где я направлялся к своей любимой тете Любе на Тверской бульвар. Помнится мне, в одну из таких поездок я у тети Любы застал своего брата Сергея с его сыном Петяшкой, которых не видел уже несколько лет – Петяшка из малого ребенка вырос в 12-летнего удивительно приятного мальчика с большими вдумчивыми глазами. Сережа с Петей ехали из Шебекино, где они постоянно жили, в Ленинрад и заглянули к тете Любе повидаться, находясь между поездками в Москве. Кажется, это было последнее мое свидание с Петей, последний раз когда я его видел; оно оказалось коротким, для всех радостным, неожиданным, так как я не знал о том, что Сережа с Петей собираются приехать, а Сережа не думал, что встретит меня в Москве. И ничто не предвещало беды. По возвращении через некоторое время домой из Комаровки я Сережу и Петю в Ленинграде уже не застал. А осенью того же 1934 года, проболев неделю гнойным аппендицитом, перешедшим в перитонит, 24 октября Петяшка, этот удивительный во многих отношениях мальчик, скончался. Его смерть, нелепая и неожиданная, была страшным, жестоким ударом и неутешным горем для родителей, бабушки Мани, души не чаявшей в Пете, и для всех родных, знавших его. Не знаю почему видимо, за врожденное обаяние и приветливость Петю многие знали в Шебекино и окрестностях, не будучи знакомы с его родителями; бабушка Маня, ездившая туда на похороны, рассказывала, что проводить Петю в последний путь пришло много не только знакомых, что естественно, но и мало знакомых, да и вовсе незнакомых родителям людей, которые, оказывается, знали Петю. Похоронили Петю на кладбище в Титовке, близ Шебекино. Убитые горем родители, брат мой Сережа и его жена Галина Владиславовна не смогли оставаться в Шебекино, где все напоминало Петю, и вскоре перебрались в Ленинград, к нашей маме. У меня остался сделанный Петей пистолетик, маленький, длиной всего 5 сантиметров, с латунным никелированным стволомтрубочкой, замятой с одного конца, на деревянном прикладе; на стволе сбоку есть дырочка, а под ней, на деревянном прикладе вколочена маленькая металлическая петелька, в которую вставляется спичка головкой вровень с дырочкой ствола; головка спички чиркалась о спичечный коробок и тогда забитый внутрь порох взрывался, и пистолетик выстреливал пыжом, заложенным в ствол. Этот пистолетик, как память о незабвенном родном мальчике (ему сейчас было бы 105 лет), я всю жизнь ношу с собой. Но я невольно отвлекся от Комаровских впечатлений. Добавлю, что последнее, оставшееся в моей памяти о Комаровке 1934 года, это что на опушке любимовской рощи (за новой, в то время, одноколейной ж/д веткой на Ивантеевку) стояло четыре наклоненных в противоположные стороны высоких, примерно одной высоты, сосны, с кронами только наверху, издали все вместе образующих как бы латинскую букву дубль-ве (W); мы смеялись, что это сделала природа в честь двух наших Владимиров – дяди Володи и Володюшки Красюк. Я оканчиваю институтВесной 1935 года я оканчивал ЛИТМО (Ленинградский институт точной механики и оптики) и должен был защищать дипломный проект по специальности. Мне это было очень волнительно по ряду причин. Во-первых, в тот год впервые была введена в нашем институте государственная защита дипломов, и как это будет проходить практически, себе никто не представлял; во-вторых, я закончил четвертый курс на круглые пятерки, поэтому спрос с меня увеличивался; в-третьих, всю двухмесячную преддипломную практику, которая должна была проходить на ленинградском приборостроительном заводе ГОМЗ, и больше трети отведенного времени на разработку дипломного проекта я проболел инфекционной желтухой, что в общей сложности длилось более трех месяцев; за время болезни я совершенно обессилел и был вынужден уволиться с работы, на которую перед дипломной практикой я был принят в один из цехов ГОМЗа по распоряжению технического директора завода Александра Павловича Знаменского (автора «Справочника металлиста», единственного тогда издания типа немецкого справочника «Hutte»). А. П. Знаменский преподавал в ЛИТМО курс технологии обработки металлов и режущего инструмента. Честно говоря, Александр Павлович насильственно заставил меня поступить работать на ГОМЗ, так как у завода катастрофически не хватало инженерных кадров, а я был студент-отличник, «без пяти минут» инженер. Так случилось, что до заболевания я успел отработать на заводе всего-то две недели, а это означало, что я не выполнил возлагавшихся на меня надежд моего учителя, да к тому ж технического директора завода… В-четвертых, когда меня вызвали на кафедру в институт на первую проверку разрабатываемой мною дипломной темы, оказалось, что задание находится в самой начальной стадии исполнения, а уже прошло более трети отведенного на разработку дипломной работы времени. Председатель дипломной комиссии Сергей Сергеевич Тяжелов (человек совершенно новый, только что принятый в ЛИТМО) сразу же начал на меня кричать, что я, мол, лентяй, ничего не делаю, и тут же стал настаивать, чтобы я написал заявление о перенесении срока защиты дипломного проекта с весны на осень будущего учебного года, но я категорически отказался это сделать, хотя до срока начала государственных защит дипломов оставалось всего лишь 2,5 месяца из 6 отведенных на преддипломную практику и разработку дипломных работ. Так как председатель дипломной комиссии С. С. Тяжелов был новый человек в нашем институте, его можно было понять: в условиях, когда впервые вводилась практика защиты дипломных проектов Государственной комиссией, ему как председателю столь ответственного дела нужно было представить результаты пятилетнего обучения нашего первого выпуска в наилучшем виде, по возможности с блестящими результатами. Видимо, был он человек непростой, очень волевой и настойчивый и, судя по примеру со мной, даже в какой-то мере злопамятный. Почему у меня осталась такая память о С. С. Тяжелове? Вероятно, оттого, что моя первая встреча с этим человеком (на проверке состояния готовности моего дипломного задания) состоялось в присутствии начальника Главка, старейшего инженера оптико-механической промышленности России Сергея Ивановича Фрейберга, читавшего у нас на 4-м курсе лекции по оптическим приборам. Тот, видимо, запомнил меня как подающего надежды студента-отличника, и когда я отказался писать заявление о переносе срока защиты моего дипломного проекта на осень (что и вызвало споры и препирательства), Сергей Иванович встал на мою сторону, а тут же присутствовавший руководитель моего диплома Михаил Александрович Резунов тоже высказал предположение, что в оставшееся время я успею все закончить. Председателю дипломной комиссии пришлось уступить, но, похоже, он этого не забыл… Кстати замечу что фамилия «Тяжелов» оправдала создавшееся о нем мнение. Уверенность Сергея Ивановича Фрайберга и Михаила Александровича Резунова, что я смогу уложиться с разработкой дипломного проекта в оставшееся до защиты время, конечно, морально меня сильно поддержала, но, одновременно, еще больше обязала к непременному выполнению работы в срок. Профессор М. А. Резунов тоже был личностью незаурядной во всех отношениях – как своею внешностью, так и деловыми качествами; он много лет занимал ответственный пост Главного конструктора Конструкторско-исследовательского бюро Всесоюзного объединения оптико-механической промышленности (КИБ ВООМП). М. А. Резунов – русский дворянин, насколько я знаю, сын военного – был человек высокого роста с профилем римского патриция. Он работал в области авиации, сам служил когда-то летчиком, летал на первых русских бипланах; он принял революцию и дрался за нее; во время воздушных боев вылезал на крыло самолета с наганом в руке (тогда аэропланы пушек и пулеметов еще не имели). Был награжден орденом Красной Звезды № 121. В последующие годы, уже на гражданской работе, был награжден и другими орденами. Михаил Александрович обладал большой выдержкой, не терял самообладания в любых обстоятельствах, сохраняя невозмутимое, непроницаемое лицо; при всем при том ему были присущи настоящий тонкий юмор и большая любовь к музыке, пению, искусству. Иногда он любил поиграть в теннис и преферанс. При кажущихся строгости, серьезности, даже холодности, когда он улыбался, лицо его делалось лучезарным и немного смущенным. В последующие вызовы меня в комиссию по проверке хода разработки дипломных работ, нельзя сказать, чтобы Тяжелов был со мною любезен; опять пробовал настаивать на переносе срока защиты моего диплома на следующий учебный год. Примерно за месяц до начала дипломной сессии был издан приказ по институту, составленный С. С. Тяжеловым, в котором защита мною дипломного проекта перед Государственной комиссией была назначена на первый день сессии, и моим оппонентом был определен «гроза студентов», технический директор КИБ ВООМПа Семен Тобиасович Цуккерман (непосредственный начальник моего руководителя, Михаила Александровича Резунова). С. Т. Цуккерман отличался тем, что ошибки, неточные ответы и другие промахи не прощал даже своим студентам, работами которых руководил сам; он или снижал отметку, или даже «запарывал», то есть забраковывал всю работу. Теперь, вероятно, понятно, почему защита диплома была для меня нешуточным испытанием! 19 мая 1935 года, в первый день начала работы сессии, я защищал свой дипломный проект третьим, и в этот день оказался единственным студентом, защита и сама работа которого получили оценку «отлично», при этом все многочисленные члены приемной комиссии, кроме С. Т. Цуккермана, поставили оценку «пять», Семен Тобиасович поставил «четыре», что, впрочем, не помешало ему, совместно с М. А. Резуновым пригласить меня работать в их КИБ ВООМПа, что для меня было счастьем, так как по решению институтской распределительной комиссии я должен был уехать работать на строящийся тогда завод в Павшине, в нынешнем Красногорске, куда никто не хотел ехать из-за отсутствия у завода жилой площади – это грозило проживанием в общежитиях барачного типа, без воды и уборных, что многие из нас (в том числе и я) уже испытали на втором курсе института. Итак, победа была одержана с результатами даже выше ожидаемых – я оставался работать в Ленинграде на счастье моей мамы и свое собственное. Но оказались и «издержки» – работая над дипломным заданием 2,5 месяца после изнурившей меня болезни по 16 часов в сутки без выходных, разработав в итоге проект на 14 листах чертежей с обстоятельной пояснительной запиской, я получил обострение туберкулезного процесса в легких: верхушки их оказались обнесенными мелкими очагами, и после первых дней понятного душевного подъема наступили дни отвратительного самочувствия с субфебрильной температурой, упадок сил. По письменной просьбе мамы и стараниями проживавшей в Москве моей сестры Аллы (актрисы театра Вахтангова) через Марию Петровну Лилину Константин Сергеевич Станиславский выхлопотал для меня и мамы путевки в дом отдыха ВТО «Абрамцево», где мы провели 24 дня. По этой причине я даже не был на институтском выпускном вечере. Итак, 19 мая 1935 года закончилось мое обучение в ЛИТМО, мне была присвоена квалификация инженера-механика по специальности оптико-механической. Но дипломов об окончании заготовлено не было (кажется, и форма дипломов еще не была разработана и утверждена); нас, защитившихся, поздравили, но ничего торжественно не вручили, и получил я свой диплом (почему-то за № 64) только через год и два месяца, а именно 14 июля 1936 года, в канцелярии института, без всяких торжеств и помпы, но, конечно, под расписку! Короче говоря, с 1 июня 1935 года я был зачислен в КИБ ВООМП, ушел в полагающийся мне после окончания института отпуск и уехал с мамой в дом отдыха «Абрамцево». Несмотря на очень плохое, холодное и дождливое подмосковное лето 1935 года, пребывание в сыром Абрамцеве вспоминается как приятное, ибо было мне интересно воочию познакомиться с достопримечательностями этого места, где исторически все дышит искусством, где было много живописи для меня до сих пор мало известной и вовсе неизвестной, даже неожиданной, как, например, вариант врубелевского «Демона», написанный в оранжево-красных тонах на фоне египетских пирамид и сфинкса, или двух вариантов восточных ковриков, написанных Врубелем маслом на простой мешковине. Я уже не говорю о знаменитой врубелевской майоликовой скамейке, стоящей на высоком берегу реки Вори, о прелестной церквушке – плоде творчества русских художников, о «баньке» и установленных близ нее каменных идолах. К сожалению, перечисленные выше произведения Врубеля, как, вероятно и ряд других картин, после Отечественной войны исчезли из Абрамцева, что я, к своему глубокому огорчению, обнаружил при посещении Абрамцева в 1979—1980 годах, а я ведь так ждал новой встречи с этими запомнившимися на всю жизнь «жемчужинами» русской живописи. Интересно было посмотреть на артистов в жизни, на отдыхе. В гостиной большого дома Абрамцева часто устраивались вечерние концерты силами отдыхающих, в том числе запомнился мне почему-то Ефрем Флакс (может быть, потому, что его в то время часто транслировали по радио). Кто играл на рояле, кто пел, кто читал или рассказывал… Всегда в репертуаре этих вечеров бывало что-то интересное. В склепе, пристроенном к Абрамцевской церквушке, в котором похоронен сын Мамонтовых (кажется, Андрей), запомнилась мне довольно больших размеров икона Спасителя; когда, впервые войдя в склеп, я взглянул издали на икону, то сразу мелькнула мысль – какая великолепная, мягкая, бархатная, выполненная в полутонах живопись эпохи итальянского ренессанса, покрытая растрескавшимся от времени лаком, а подойдя ближе, увидел, что это не живопись, а великолепная мозаика – я был просто сражен! Недалеко от церквушки, средь рощи, мы с мамой отыскали знаменитую Васнецовскую избушку на курьих ножках, внутри которой, над входной дверью мы обнаружили надпись, сделанную зелеными чернилами: «Здесь в 1829 году был К. Станиславский» с его великолепно подделанным факсимиле. Мама тоже была довольна пребыванием в Абрамцеве, хотя загород не любила, тем более в сырую, дождливую погоду, но здесь она отдыхала от коммунальной квартиры и тяжелого ленинградского быта. Зная мою влюбчивость, мама бдительно послеживала за мной, чтобы я, упаси Бог, не влюбился в отдыхавшую здесь же незнакомку – молодую хорошенькую брюнетку, похожую на птицу, с длинной «лебединой» шеей, тянувшейся из покатых, всегда оголенных плечей, белизна которой подчеркивалась черным платьем, облегавшим изящные формы. Мама явно побаивалась, как бы «трон» Клеш, а с ним и ее (мамино) спокойствие не пошатнулись. Но мамины опасения оказались напрасны, мне было как-то не до романов, давали себя знать усталость и нездоровье. Институтский выпускной вечер я пропустил, так как он состоялся, когда я был уже в Москве. Лучезарное настроение первых дней после защиты дипломного проекта, душевный подъем сменились плохим физическим состоянием, нездоровьем после перенесенной зимой желтухи и невероятного напряжения физических и душевных сил в период работы над дипломом, который я разработал за два с половиной месяца вместо полагавшихся шести; о начавшемся было туберкулезе я уже говорил. По возвращении в Ленинград, я с большим увлечением и неплохими результатами для начинающего инженера работал в КБ ВООМПа, обстановка и сотрудники мне нравились, тематика – тоже. Годы попранных надеждВ 30-е годы в СССР сложилась необычная общественная атмосфера – смесь новаторского, прогрессивного, радостного для народа: возводились заводы-гиганты, развивались металлургия и приборостроение, шла дальнейшая, начатая еще в 20-е годы электрификация страны, строились гидроэлектрические станции, на просторах страны работало множество геологических партий, занимавшихся разведкой ископаемых, и т. д. Для трудящегося населения вводились какие-то льготы и права на отдых и труд, открывались санатории и дома отдыха, сокращалась продолжительность рабочего дня на производствах, в Москве работала Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ), проводились праздничные декады искусства народов, населяющих СССР… Все это способствовало сплочению народа с советским правительством, руководимым Генеральным секретарем партии товарищем Сталиным, создавало атмосферу подъема и уверенности в лучшем будущем. Но наряду со всем этим радужным, положительным, жизнь периодически перемежалась, якобы, активными действиями противников всего происходящего в стране, происками классовых врагов – врагов народа – убийствами прогрессивных политических деятелей, например, С. М. Кирова, политическими процессами над популярными и любимыми народом общественными и военными деятелями, арестами, их ссылками, расстрелами, отчего советские люди жили в атмосфере постоянного напряжения и настороженности. Оглядываясь назад, в прошлое, становится понятным – народ в те годы, в своей массе, просто не понимал того, что в правящих верхах проходила непрерывная борьба за власть в стране, за укрепление всеми средствами единовластия Сталина. Вся действительность преподносилась народу, так сказать, на «блюде» классовой борьбы и происков врагов народа, шпионских организаций, связанных с иностранными капиталистическими державами, стремящимися к уничтожению враждебного им Советского Союза, строящего счастливое социалистическое будущее. Да, наше молодое поколение действительно верило, что мы строим счастливое социалистическое будущее для грядущих поколений, ради чего безропотно терпели подчас полунищенские, бесправные условия нашего существования, тяжелый неустроенный быт. Заметное уже к 1929-30 годам снижение уровня жизни советских людей по сравнению с прошедшими годами НЭПа преподносилось как результат переживаемых страной временных затруднений из-за происков классовых врагов. Конечно, далеко не все верили в такое объяснение, а так как юмор на Руси жил испокон веков, то он породил следующий, бытовавший тогда анекдот: Один человек спрашивает другого: «Скажите, что у нас в СССР постоянно?», а собеседник отвечает: «О, это очень просто – временные затруднения!» В 30-е годы за такой анекдот можно было получить «приглашение» в ГПУ или НКВД и оказаться в ГУЛАГе. Я помню время – это было в 1936—1937 годах, тогда я работал в Государственном оптическом институте (ГОИ), когда продолжительность нашего рабочего дня составляла всего 6 часов, и работали мы на «пятидневке», то есть 4 дня работали, пятый день был выходной – забота Советской власти о трудящихся!… Начинался наш рабочий день в 10 часов утра, длился без обеденного перерыва и заканчивался в 16 часов, после чего мы, молодежь, летом ехали на Острова, на теннисные корты спортивных обществ «Динамо», «Красная Заря» (если я правильно помню названия) или на корты, располагавшиеся в конце Парка культуры имени Кирова (почти на Стрелке Елагинского острова), где, в период белых ночей, вдосталь наигрывались в теннис до 11 часов вечера – играли, пока в спускавшихся сумерках можно было различить летящий мяч. Вот было «золотое», безмятежное время! Только, конечно, мама всегда беспокоилась из-за моих поздних приходов домой и того, что я целый день на одном завтраке, без обеда. Да, конечно, у мамы были основания для беспокойства, но зато – половина дня на упоительном морском воздухе, в движении, с милыми товарищами по теннису… а движение и воздух – это жизнь! Конечно, шестичасовой рабочий день и пятидневная рабочая неделя просуществовали очень недолго, так как для промышленных и прочих производств такой режим был явно невыгоден, убыточен. Да в это время уже стала зримо надвигаться реальная ураза возможного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Тогда государственная граница с Финляндией проходила по реке Сестре, всего лишь в 30 километрах от Ленинграда. Злосчастная война с Финляндией в 1939 году была попыткой отодвинуть от Ленинграда границу подальше. Это короткая, но жестокая война, унесшая много жизней, выявила почти полную военную и промышленную неподготовленность СССР к войне с кем бы то ни было, не говоря уже о вооруженной «до зубов» фашистской Германии. Не стоит забывать и страшные для народов СССР 1937—1939 годы, с их доносами и репрессиями, когда, утром придя на работу мы смотрели все ли находятся на своих рабочих местах, не «взяли ли» кого за истекшие сутки! Затем пришел не менее страшный для русской интеллигенции и нашей страны 1940 год, за который исчезли многие известные всем люди, в том числе В. Э. Мейерхольд, а затем последовало зверское, совершенно непонятное убийство его жены, актрисы Зинаиды Райх. К концу 1940 года начались массовые призывы в армию, это коснулось в том числе и людей под тридцать и более лет, совершенно не обученных военному делу, много лет бронировавшихся промышленными предприятиями и научными учреждениями как ценные специалисты. Тогда призвали моего лучшего друга тех дней Асю (Арсения) Федорова – доброжелательного весельчака и оптимиста, великолепного конструктора. Сдружившись с ним, я научил его играть в теннис («заразил» этой игрой); оба мы были шустрыми, подвижными, но Ася был более спортивно развит. Теннисный корт находился у нас на работе, прямо под окнами; играющих в институте было много, поэтому чаще всего происходили парные игры. Я и Ася быстро сыгрались, причем я обычно выходил к сетке, а он, как более подвижный, носился вдоль задней линии, и мы представляли довольно сильную пару; обычно играли так называемую «американку» – игру «на вылет», когда за двумя геймами следовал третий решающий, после чего проигравшие уходили с корта и заменялись новыми игроками. Часто наша пара становилась победительницей даже в соперничестве с теннисистами из более сильной группы, чем мы с Асей. Ася ужасно переживал свой призыв в армию, и не потому, что был трусом, просто он явственно предчувствовал, что он не вернется домой. Накануне его отъезда в армию мы устроили прощальную встречу вчетвером с нашим гражданскими же нами на квартире Аси; мы собрались часов в семь вечера и пробыли вместе до утра следующего дня, причем мы с Асей совсем не спали. Всегда очень мало пившие, на этот раз мы пили всю ночь напролет, мешая водку с пивом, с портвейном, с красным вином, и оба не пьянели. Жены наши с половины ночи пошли спать, а мы все говорили, говорили… я старался, но безуспешно, вселить в Асю бодрость, надежду, веру в лучшее, но в душе сам понимал, что обстановка в мире, в Европе, такова, что война готова начаться в любой день, и воинская часть, в которой будет служить Ася, может оказаться на границе (рассказывали, что всех призванных отправляли в пограничные районы, где спешно строились укрепления). На следующий день необученных солдатиков погрузили в воинский эшелон, составленный из грязных товарных вагонов из-под каменного угля! Больше я с дорогим, милым Асей никогда не виделся, он прислал мне только одно или два письма из армии. Часть, в которой служили Ася и муж нашей сослуживицы Жора Моторин выгрузили где-то на границе с Польшей и, видимо, оба они оказались в числе первых жертв начавшегося на рассвете 22 июня 1941 года нападения на СССР армий фашисткой Германии. Оба пропали без вести в первый же день начавшейся Великой Отечественной войны. Склоним головы перед их светлой памятью, Царствие Небесное их душам! Заботливая Маруся и МанюшаДля представителей рода Алексеевых, в частности для мамы и всех нас, ее детей, тридцатые годы отмечены многочисленными безвозвратными потерями дорогих, близких, любимых родных и друзей. 11 мая 1931 года в тюрьме умирает Михаил Владимирович (Мика), сын Владимира Сергеевича Алексеева, единственная вина которого заключалась в том, что еще задолго до революции он женился на представительнице рода Рябушинских. Меньше чем через год, 10 марта 1932 года, в Ташкенте, от туберкулеза умирает старший сын Владимира Сергеевича, талантливый, веселый, обаятельный Александр Владимирович Алексеев – Шура, который жил со своей семьей у нас на Съезжинской улице в Петрограде. 20 октября 1932 года в Ленинграде под колесами трамвая, отрезавшего ему обе ноги, погибает бывший муж Аллы, красивый талантливый актер, еще совсем молодой Володя Азанчеев (Владимир Михайлович Мичурин, по сцене Азанчеев), которого мама любила как родного сына. 23 декабря 1932 года из Франции приходит письмо от Жермен Олениной – жены первого сына мамы, нашего старшего брата Жени Оленина, безвременно погибшего в 35 лет, 10 ноября 1932 года, от туберкулеза. 14 октября 1934 года скоропостижно умирает Леонид Витальевич Собинов, старый друг всей семьи Алексеевых, добрейший и честнейший человек, о котором, за всю им прожитую в театре жизнь, ни один человек не сказал ни одного плохого, порочащего слова; с ним маму связывала дружба еще со времен первого замужества с П. С. Олениным. 24 октября 1934 года в селе Шебекино, под Белгородом, от гнойного аппендицита, перешедшего в перитонит, погибает в возрасте 12 лет Петя Оленин, сын Сергея Петровича и Галины Владиславовны, горячо и беззаветно любимый всеми нами племянник, обожаемый мамой внук. 1 мая 1936 года умирает Анна Сергеевна Штекер-Красюк (тетя Нюша), вслед за ней, меньше чем через год, 10 января 1937 года в возрасте 29 лет от милиарного туберкулеза легких погибает ее младший сын, красивый, талантливый (чем-то временами очень похожий на своего знаменитого дядю Костю) Вова Красюк (Владимир Владимирович Красюк), артист МХАТа с 1930 года. 7 августа 1938 года, в 3 часа 45 минут дня, от паралича умирает Константин Сергеевич Алексеев-Станиславский, который был «стержнем» всего разветвленного рода Алексеевых (если так можно сказать) – страшная утрата для русского и мирового театрального искусства. Дядя Костя был оплотом и защитником для родных и многих «неродных» людей, которым он помогал. А всего лишь через полгода, 8 февраля 1939 года, скончался Владимир Сергеевич Алексеев (любимый всеми дядя Володя). Для всех нас и, конечно, для нашей мамы потеря двух старших горячо любимых братьев Алексеевых была страшным горем. К приведенному перечню тяжких потерь тридцатых годов можно было бы добавить еще очень многих близких нашей семье друзей, окончивших свой жизненный путь. Исторически так сложилось, что судьбы Марии Петровны Лилиной, Константина Сергеевича Станиславского, Зинаиды Сергеевны Соколовой и Владимира Сергеевича Алексеева за много лет теснейшим образом переплелись на почве всем дорогого, общего дела их жизней – любимого театрального драматического и оперного искусства, что еще усилило их чисто родственную душевную близость. Наша мама (Манюша, как ее называли в семье родителей) всегда горячо любила своих старших братьев и сестер (оставаясь в хороших, но, может быть, несколько менее теплых отношениях с сестрой Нюшей), а с начала тридцатых годов все более стала душевно сближаться с сестрой Зиной и Марусей Лилиной, с которой всю жизнь была в самых сердечных, дружеских, родственных отношениях. Естественно, что последовавшие одна за другой кончины Константина Сергеевича и Владимира Сергеевича (Кости и Володи) – общее горе, которое еще больше, еще теснее сблизило сестер Маню и Зину друг с другом и с Марусей Лилиной, и в силу взаимной искренней тяги, существовавшей между ними, их переписка стала более интенсивной. Мария Петровна считала своей святой обязанностью, своим долгом «продолжать дело Кости», то есть внедрять его «систему» в Оперно-драматической студии, последнем детище Станиславского, и это очень сблизило ее с Зинаидой Сергеевной в общей работе. Обе эти уже сильно пожилые, но все еще энергичные женщины интенсивно работают и стараются по мере своих возможностей присмотреть, не выпустить из своего поля зрения несколько оставшуюся в стороне от их жизней начавшую прихварывать Любу (Любовь Сергеевну Корганову), с которой в одной квартире продолжает жить ее сын Костя с семьей, а дочь Ляля приходит ее навещать. Наследственный туберкулез давно уже стал бичом семьи Алексеевых. Смерть молодого Вовы Красюка естественно обострила мамину боязнь за меня, так как после туберкулезной вспышки 1935 года, осеменившей мелкими очагами верхушки моих легких, в последующие годы шел неустойчивый процесс, временами обостряющийся. На почти ежегодных медицинских комиссиях в военкомате меня признают негодным к строевой службе. Я начинаю болеть ангинами, почти непрерывными – одна кончается, через три-пять дней начинается другая; в туберкулезном диспансере у меня находят подозрительный бугорок на связках гортани; держится субфебрильная температура, доктора рекомендуют немедленно направить меня в санаторий. В письмах к тете Зине и Марусе Лилиной проявилось мамино беспокойство за мое здоровье; сохранились теплые, заботливые письма Марии Петровны к маме за 1939 год, отражающие ее отзывчивость, желание прийти на помощь морально и материально, ее искренне доброе отношение и любовь к моей маме. Конечно, письма эти интересны прежде всего тем, что рассказывают о жизни самой тети Маруси, тети Зины, их детей и близких, и, мне кажется, будут интересны читателям, как подлинные документы, публикуемые впервые. Ниже я привожу их, расположив в хронологическом порядке (в косых скобках я даю нужную расшифровку, возможно, непонятных мест).
Телеграмма 15/3 (1939 г.)
(Письмо на почтовой открытке.)
(Почтовая открытка)
(Почтовая открытка)
(Почтовая открытка)
(Письмо в виде записки, без даты и конверта, предположительно начала 1940 года)
(Почтовая открытка)
Доброжелательность и мудростьМария Петровна Лилина была человеком неунывающим, стойким, обладавшим хорошо развитым чувством юмора, дипломатичным, но в каких-то отдельных случаях бескомпромиссным, способным своей прямолинейностью сразу пригвоздить непонравившегося ей человека к позорному столбу, несмотря на свою природную мягкость и деликатность. Доброжелательность к людям у нее была удивительная, сочетавшаяся с непосредственным, естественным для ее природной доброты и добропорядочности желанием помочь человеку, при этом проявлялась изобретательность в оказании помощи лично или в чаянии получить ее для нуждающегося от других людей; она с готовностью активно вмешиваалась советом или просьбой, наконец, своей прямой материальной поддержкой (деньгами или вещами). Чувствуя все это, к Марии Петровне тянулись люди, а студийная молодежь и артистическая молодая поросль не стеснялись обращаться к ней перед выступлениями за советом или с просьбой о сценических костюмах (исходя из создаваемых ими образов), из имевшегося у Алексеевых театрального гардероба и реквизита. Как правило, Мария Петровна сама сразу же загоралась и охотно, с полной самоотдачей отзывалась на такие просьбы, стараясь помочь всем, чем могла – и своими ценными советами опытной актрисы, и вещами (платьями и костюмами), радуясь от души вместе с молодежью, если удавалось достичь чего-то интересного. Умудренная жизненным опытом Мария Петровна Лилина на склоне лет говорила примерно следующее:
Вероятно это как раз то, что помогало Марии Петровне самой переносить страдания, выпавшие на ее долю в конце жизни, когда она в 1941 году тяжело заболела и 24 августа 1943 г. с большой душевной стойкостью ушла из жизни. Канун и начало Великой ОтечественнойВ тридцатых годах на заводах и фабриках не хватало квалифицированных инженеров, время было во всех отношениях тревожное, шли политические процессы, репрессии, а в воздухе «сильно пахло» войной с фашистской Германией, и вдруг неожиданно для народа грянула тяжелая, изнурительная, принесшая много жертв война с Финляндией, показавшая нашу техническую неподготовленность. Думаю, что эта война была одной из причин, вызвавших в 1939 году появление приказа НКО об укреплении промышленных производств квалифицированным инженерно-техническим персоналом, специалистами, за счет перевода таковых из конструкторских и проектных бюро на заводы и фабрики. Переход на производственные предприятия открывал возможности получения более высоких должностей и заработков, и многие инженеры, техники, технологи, конструкторы давно пытались перейти работать на производство, делали к этому попытки, но не могли этого добиться, ибо все считались мобилизованными и на переход куда-либо или на увольнение требовалось обязательное согласие дирекции своего предприятия и разрешение Главка. Конечно, каждое предприятие крепко держалось за свои старые и молодые кадры, а если уж дирекции, как говорится, приставляли нож к горлу и непременно, неизбежно нужно было с кем-то из сотрудников расставаться, то, разумеется, жертвовали молодыми кадрами. Когда в ГОИ пришла из Главка разнарядка на перевод конструктора на завод № 357, директор противился этому более года, но затем был вынужден уступить, и тогда его выбор пал на меня – я считался способным и толковым молодым инженером, которого было не стыдно послать на производство. Моего согласия на перевод, конечно, никто не спрашивал, меня держали в полном неведении, все держалось в тайне, в кулуарах отдела кадров и дирекции, даже мой непосредственный начальник, главный конструктор КБ А. Резунов ничего не знал о готовящемся «переходе» на завод кого-либо из его подчиненных. О том, что есть приказ Главка о моем переводе на завод № 357, я узнал 11 января 1941 года от начальника отдела кадров завода, майора Государственной безопасности, позвонившего мне по телефону в ГОИ, потребовавшего от меня объяснения, почему я не являюсь на завод, и тут же пригрозившего отдать меня под суд, как прогульщика. Для меня это было страшным моральным ударом и обидой – мной распоряжались, как пешкой! Я тут же добился приема у директора ГОИ, который подтвердил, что есть приказ Главка о моем переводе, но сказал, чтобы я продолжал спокойно работать и на заводе не появлялся, так как он не дал Главку своего согласия и будет за меня бороться. Затем прошло более двух недель трепки моих нервов – начальник отдела кадров завода грозил мне судом (примите во внимание, какое тогда было время), а директор ГОИ меня не отпускал; раздражение во мне росло день ото дня, и наконец я подал заявление директору ГОИ об увольнении из института (столь мне милого!) в связи с приказом Главка о переводе меня на завод. С 1 февраля 1941 года я начал работать на заводе. После дружного интеллигентного коллектива ГОИ меня неприятно поразили заметные склочность и завистливость, серость, вульгарность, самоуверенность, невероятная «важность» сотрудников конструкторского и технологического бюро завода, за исключением трех-четырех человек. Приятно было встретить там нескольких моих прежних знакомых по ЛИТМО. После относительно свободного режима ГОИ удручающе действовал давящий пропускной режим завода. Запомнились два горьких случая. Зимой 1940—1941 годов мама часто болела попеременно воспалением легких и воспалением почек, а ведь у нее был туберкулез в стадии В-II; стали появляться сердечные приступы. Через несколько дней после начала моей новой работы у мамы случился сильный сердечный приступ, начавшийся ночью и продолжавшийся 18 часов. Телефона у нас не было, да я еще и не знал номера заводского телефона, поэтому я поехал туда и попросил моего непосредственного начальника (а он был заместителем главного конструктора и знал меня по ЛИТМО) отпустить меня домой, объяснив, конечно, причину такой просьбы. Выслушав меня, этот человек или не понял, что у моей матери сердечный приступ, или ему позарез понадобились результаты выполняемой мною работы, только он ответил мне, что отпустит меня после того, как я все закончу. Это мне удалось только после обеденного перерыва, но мой начальник куда-то ушел, я не мог сдать работу и некому было подписать пропуск на выход с завода; конечно, нервы мои «завелись» до предела, кто-то посоветовал мне получить пропуск у другого начальника, которого я еще не знал, и в конце концов мне удалось уйти только почти в конце рабочего дня. Такое равнодушие к чужой беде со стороны моего начальника меня глубоко поразило и обидело. Второй случай хорошо характеризует обстановку в стране в конце тридцатых – начале сороковых годов: жёсткость, жестокость, наплевательское отношение к людям, когда за опоздание на работу на 20 и более минут отдавали под суд. Завод, на котором я работал, находился на Выборгской стороне, за Финляндским вокзалом, и мне с Петроградской стороны нужно было ехать на трамвае № 6 или, с пересадками, на попутных трамваях и автобусах. Транспорт ходил, как всегда, плохо и забитый пассажирами донельзя. В то утро почему-то трамвая № 6 долго не было, пришлось ехать другими маршрутами с пересадками, но я добрался только до Военно-медицинской академии, откуда нужно было ехать еще две или три остановки. Времени почти не оставалось, попутного транспорта не было, и я пошел сначала своим быстрым шагом, но вскоре побежал что было сил и добрался до проходной завода, уже когда звонил второй (из трех) пропускной звонок. А порядок допуска на завод был таков: пропуска уносить с собой не полагалось, они хранились на проходной вместе с рабочим номером, который нужно было вешать на табельную доску у себя в цехе или отделе; чтобы попасть на завод, нужно было назвать номер ячейки, в которой хранились пропуск и рабочий номер, затем назвать охраннице свою фамилию и рабочий номер, после чего она открывала турникет и пропускала на территорию завода. Когда на последнем дыхании, со страшным сердцебиением я вбежал в проходную, звонок уже звенел, и от волнения я не смог вспомнить и назвать номер ячейки, в которой хранился мой пропуск – забыл! Сколько-то времени ушло на то, чтобы невероятным усилием воли вспомнить и назвать номер, охранница вынула мой пропуск и ждала, когда я назову свою фамилию, выжидающе посматривая на меня, а я забыл фамилию – аж кровь бросилась в голову! А через проходную пробегали последние опаздывающие… Когда зазвонил уже третий звонок, мне нечеловеческим перенапряжением сердца и нервов удалось вспомнить и назвать свою фамилию, и охранница, с сочувствием взглянув на меня, уже не стала спрашивать мой рабочий номер и пропустила через турникет. Из последних сил я бросился бежать через длинный заводский двор, взбежал на второй или третий этаж, сейчас уже не помню, чтобы успеть повесить на табельную доску рабочий номер или, на худой конец, всунуть его в руки табельщице, если она сжалится надо мной, жалким старшим инженером-конструктором, и милостиво пожелает взять! Я успел в тот момент, когда она запирала табельную доску, и протянул ей рабочий номер, который нехотя и с выговором она соизволила принять. Опустошенный, с чувством, что меня всего оплевали, в состоянии невероятной усталости и ощущением рабского гнета я опустился на табуретку за своим рабочим столом; конечно, работать не мог – голова гудела, как чугунный котел, и только к обеденному перерыву я более или менее пришел в себя и был в состоянии начать что-то делать по работе. В мае 1941 года я ушел в очередной отпуск и уехал с мамой в Москву, где нас застала начавшаяся Великая Отечественная война. Отпуск пришлось прервать и срочно выехать в Ленинград – уже кружным путем, через Савеловский вокзал, хотя это было всего на следующий день после начала войны. Поезд часто останавливался, и дорога до Ленинграда тянулась 28 часов. На заводе вскоре поползли слухи о возможной эвакуации завода из Ленинграда, куда – от нас скрывали, но это не могло быть долго секретом: нас эвакуировали в Омск, вернее, на его окраину, на территорию Омского сельскохозяйственного института (ОМСХИ), а вслед начались демонтаж оборудования, погрузка в эшелоны, и все пошло полным ходом. Я и мама, часто хворавшая последний год, должны были уехать первым или вторым эшелоном, но из-за маминой болезни я отказался от эвакуации из Ленинграда, однако отец убедил нас в необходимости уехать с заводом, и 26 июля 1941 года мы уехали четвертым эшелоном. Везли нас в товарных вагонах, оснащенных нарами, и прибыли на место нового жительства 11 августа. Задержка с отъездом явилась причиной того, что все изолированные комнаты в доме, где нас поселяли, оказались занятыми и нас поместили в проходной комнате, да еще рядом с общественной кухней. Вслед за нашим прибывали другие эшелоны, людей нужно было расселять, и наш бревенчатый дом (кишевший клопами) постепенно уплотнялся. На заводе я работал всего полгода, и претендовать на что-то лучшее мне было трудно. На новой работе я успел сдружиться с одним молодым, умным и, казалось бы, интеллигентным инженером, сотрудником, как и я, конструкторского отдела; семья его, состоявшая из жены, маленького (еще почти грудного) ребенка и бабушки (матери жены), оказалась ко времени эвакуации вне Ленинграда, и этого инженера как «одиночку» вселяли в неблагоустроенное мужское общежитие. Мы с мамой посоветовались и решили, что в такое тяжелое время нужно этому молодому тихому и интеллигентному человеку, отторгнутому тем более от своей семьи, как-то помочь – временно, до приезда в Омск его семьи прописать в нашей комнате. По национальности этот инженер был еврей. Я переговорил с ним начистоту, сказал, что моя мама больной человек, что у нее туберкулез, она последний год часто хворала воспалением легких и почек, ей нужен покой, а нас поселили в проходной комнате, где мы отгородились от снующих туда-сюда людей занавеской; если его устроит, мы готовы, до приезда его семьи, прописать его временно в нашей комнате, где ему будет, конечно, удобнее и спокойнее чем в общежитии, но под его честное слово, что он не потребует вселить в эту же комнату свою семью. Милый молодой человек с благодарностью согласился на все условия, дал свое честное слово и тихо «пригрелся» у нас в комнате, повесив вдоль нее еще одну занавеску. А через короткий промежуток времени семья его приехала в Омск и вселилась в нашу комнату. Жена оказалась наглой, скандальной и крикливой, ребенок, капризная девочка, орал почти круглосуточно, бабушка же была милейшим деликатным существом, старавшимся по мере сил сгладить нетактичные поступки своей наглой дочери и унять плачущую внучку. Завод необходимо было восстановить и запустить в кратчайшие сроки. Многие трудились не по прямой своей специальности, а на работах, жизненно необходимых для общего дела. Я временно стал экспедитором на грузовых машинах по перевозке заводского оборудования с разгрузочной железнодорожной площадки на места монтажа. Так продолжалось до возобновления работы конструкторского бюро, а заказы на новые разработки сыпались как из рога изобилия. Война требовала увеличения объемов выпуска продукции, что заставило нас заняться разработками новых процессов перевода производства на методы передовой в то время технологии, в частности – внедрения литья под давлением. Незаметно окончилось лето, промелькнула короткая осень и, как обычно для Сибири, в первых числах ноября ударили первые морозы; вечером еще шел дождь, а утром все ветви и веточки лиственных деревьев были «окованы» ледяным хрусталем с висящими сосульками, радужно переливающимися в лучах солнца – сказочное зрелище! Вскоре начались сорока– и пятидесятиградусные морозы. В магазинах уже в сентябре купить было нечего, хотя в августе полки еще ломились от продуктов – сыра, сметаны, колбасы, знаменитых сибирских сельдей – заломов, вина, водки; еще можно было купить хлеб. До войны в Омске проживало около двухсот пятидесяти тысяч человек, во время войны – уже более миллиона. Вскоре за хлебом нужно было простаивать часами на морозе. Наша с мамой экипировка оказалась совсем непригодна для сибирских морозов, у мамы кроме резиновых ботиков нечего было надеть на ноги. В середине декабря жестокой зимы 1941-42 года уже ударили морозы до 52 градусов и мама, простояв несколько часов на улице за хлебом, заболела крупозным воспалением легких. В эту ужасную, жестоко холодную, голодную зиму с продуктами у нас с мамой было катастрофически плохо. Кроме небольшого мешочка с остатками белой муки и соли, привезенных из Ленинграда, у нас ничего не было. Иногда удавалось купить круг замороженного молока по катастрофически для нас, приезжих, возрастающей цене, но это уже было совсем не то замечательное молоко, в котором за сутки отстаивалось на четверть объема сливок, а из них в бидоне за 45 минут я взбивал натуральное сливочное масло. Но так продолжалось только две-три недели по приезде в Омск; прибывающие эвакуированные резко увеличили спрос на все и, конечно, молоко стали все больше и больше разбавлять. Введены были карточки, на которые получали весьма скудное количество продуктов и пайки овсяного хлеба; количество выдаваемого хлеба определялось категорией карточки, а категория карточки зависела от занимаемой должности – первая категория выдавалась рабочим, вторая – ИТР, третья (совсем скудная) – иждивенцам, то есть не работающим членам семей. Кормить больную мать практически было нечем! Из остатков ленинградской муки соседки научили меня выпекать в печке для мамы белые булочки на воде с солью. Отзывчивые соседки иногда приносили маме тарелку супа – из жалости и потому, что знали по своим мужьям, как мы все работали на заводе с утра до глубокого вечера, а то и ночи. Сам я питался по талонам в заводской столовой, а по талонам, выдаваемым за каждодневную сверхсрочную работу, получал какую-нибудь перловую или другую низкосортную кашу, серые макароны или оладьи и приносил их маме поздно вечером. И все же из крупозного воспаления легких маму вытянуть удалось, но нужно было ее кормить, восстанавливать ее силы, а в доме практически ничего не было. Мама высыхала на глазах и умирала мученической смертью, так как от неудобной постели, слежавшегося матраца, у нее начались пролежни, и никакие камфарные обтирания ей уже не помогали. Еще в Ленинграде у мамы определяли наличие туберкулезного процесса в стадии B-II, теперь в ее ослабленном крупозным воспалением легких организме развился общий туберкулез. 11 марта 1942 года вечером я принес маме темные сухие оладьи, скупо политые чем-то горьковато-сладким, может быть, рябиновым жидким вареньем или сиропом – то, что выдали нам на ужин за сверхурочную работу. Мама не смогла их есть, я страшно разнервничался и даже накричал на нее (за что по сей день меня мучает совесть)… И тут, в первый и единственный раз за всю ее длительную болезнь, мама не попросила, нет, а как-то робко, в пространство, сказала, словно подумала вслух: «Хоть бы маленький кусочек масла!» Эта фраза пронзила мне душу, я едва сдержался, чтобы не разрыдаться от отчаяния, бессилия, от сознания своей вины и беспомощности! Я горячо благодарю Господа за то, что в надвигавшемся на меня впервые в жизни страшном несчастье – потери самого дорогого, близкого мне человека, беззаветно любившей меня матери, Он не оставил меня одного; 9 марта 1942 года из блокадного Ленинграда неожиданно приехала моя первая гражданская жена Клавдия Гавриловна Потапова (Клеш, если помните), отказавшаяся эвакуироваться со мной в июле 41-го года и оставшаяся со своей старенькой матерью Александрой Васильевной в Ленинграде. Клавдия Гавриловна была совершенно истощена. Конечно, ее приезд самортизировал страшный удар судьбы – кончину, через короткое время, моей матери. После приезда Клеш мама сказала: «Теперь я спокойна…». Я тогда не понял смысла сказанного, не понял того, что, сознавая свой близкий конец, мама мучилась мыслью, что я остаюсь совсем один среди чуждых, мало знакомых мне людей. Находившаяся в Омске с театром Вахтангова моя сестра Алла Севастьянова с мужем Михаилом Николаевичем Сидоркиным, конечно, знали о тяжелой болезни мамы, но не понимала, насколько это серьезно, что конец мамы близок. Условия их жизни в Омске, на улице Красный Путь, (за 6-7 километров от ОМСХИ, где жили мама и я), были тяжелые, их одежда совсем не подходила для условий жестокой сибирской зимы, они страшно мерзли и голодали; в театре было много работы, и Алла бывала у нас очень редко, не видела, что мама погибает. Возвратясь с завода вечером 12 марта, я застал маму в полузабытьи, на мои обращения к ней она не отзывалась, лежала с закрытыми глазами, очевидно, не в силах была их открыть, и только когда я совсем близко наклонился к ней, она (не открывая глаз) слегка приподняла руку и перекрестила меня. Это было последнее ее осмысленное движение. Мама впала в забытье, и через сутки с небольшим, около половины первого в ночь с пятницы 13 на субботу 14 марта 1942 года, будучи, видимо, без сознания, скончалась, судорожно вдохнув несколько раз воздух в последние мгновения покидающей ее жизни. Рано утром 14 марта я шел в Омск к Алле; помнится, мороз стоял градусов за тридцать, ветра не было и дым из труб домов поднимался совсем вертикально розовыми от лучей восходящего солнца, столбами. Когда я разбудил Аллу и Миню, и рассказал, что меня привело к ним так рано, Алла сначала как-то не поверила, затем вся сжалась, сморщилась и тихо заплакала. Я, Алла и Клеш хоронили нашу родную, всегда добрую, все понимавшую, умевшую объяснить и облегчить маму в воскресенье 15 марта около 8 часов вечера по местному времени (около 5 часов по московскому) на кладбище Сибак ОМСХИ, в березовой роще, в том месте, которое сама мама указала мне и Алле осенью 41-го года, когда мы втроем, гуляя, забрели туда и наткнулись на огороженную зеленым дощатым заборчиком могилу некой однофамилицы – Севастьяновой Надежды Георгиевны, 1902 года рождения, скончавшейся в 1938 году. Вот близ этой могилы мы нашу маму и похоронили; в ногах ее тогда стояло две березы. На этом сельском кладбище Сибак, среди березовой рощи, сильно поредевшей от рук приехавших ленинградцев, осталось навечно лежать много, много тех самых ленинградцев. Царство им небесное и покой их душам. Пока еще я и Клеш оставались в ОМСХИ (до ноября 1944 года), я часто, в первое время после кончины мамы каждый день, да и не раз, приходил на ее могилу с большим массивным крестом в ногах. Летом обложил могильный холмик зеленым дерном. Подолгу сидел на этом холмике, искал душевного покоя, иной раз ловил себя на том, что разговариваю сам с собою – могилы близких притягивают! Это временно заглушало тоску и внутреннюю опустошенность. Но на душе моей лежит грех – как уехал из Омска, так за всю жизнь ни разу не съездил на могилу мамы, хотя неоднократно стремился это сделать. Но как в нашей советской действительности это осуществить, если кладбище за городом, в двадцати с лишним километрах от железнодорожного вокзала, в 6-7 километрах от центра Омска, в котором не осталось ни друзей, ни знакомых, при том, что в гостиницу мог попасть не каждый командировочный, а простому человеку, без «бумажки», объясняющей, для чего он приехал, гостиницы вообще были недоступны. Да простят меня мама и Господь за мой грех! Вместо послесловияКогда я заканчивал работу над этой книгой (если она вправе называться таковой), 27 января 1994 года, на 91-м году жизни скончалась моя сестра Алла Васильевна Севастьянова – мамина «любимушка № 1». Если считать поколение дедушки Сережи и бабушки Лизы Алексеевых первым, то поколение Константина Сергеевича АлексееваСтаниславского, его братьев и сестер, в том числе и нашей мамы Марии Сергеевны является вторым поколением, из которого в живых давно уж никого нет, а из третьего поколения – поколения их детей, сейчас, после кончины моей сестры Аллы, остался я один. А ныне мне 96-й год – много ли мне осталось… 17/30 января 1993 года исполнилось 100 лет со дня кончины Сергея Владимировича Алексеева – бесконечно доброго и порядочного человека, сделавшего за свою жизнь много благих, полезных Москве и России дел, впрочем, как и его предки Алексеевы, за что всем им были присвоены звания потомственных почетных граждан. Среди детей Сергея Владимировича и Елизаветы Васильевны яркой звездой засияло на всю Россию, а далее – на весь земной мир имя Великого Театрального Деятеля, реформатора драматического и оперного искусства К. С. Станиславского, создавшего совместно с В. И. Немировичем-Данченко знаменитый и никогда более не повторимый Московский общедоступный художественный театр, театр величайшей культуры, искусство которого оказало огромное влияние на театральное искусство XX века всех континентов земного шара. Нынешнее и будущие поколения вправе и должны знать, где похоронены родители К. С. Алексеева-Станиславского, но уже сейчас это знают, кроме меня, считанные по пальцам люди, да и то понаслышке, без знания конкретного места их погребения на Введенском (Немецком) кладбище Москвы. А чтобы это стало известно всем, всего-то нужно установить на могиле доску из надежного (мало подверженного пагубному влиянию климатических атмосферных условий) камня с высеченной на ней, доске, соответствующей информацией. В тяжких материальных условиях нынешней жизни в России изготовление и установка такой памятной доски нам, простым людям не по карману а вот МХАТ, с моей точки зрения, давно обязан был это сделать, но на соответствующие письма дирекция театра ответила отказом по материальным соображениям и вообще отказалась заниматься этим вопросом. Я думаю, что это непорядочно и является, в какой-то мере, преступлением перед русской культурой. (29 января 1994 г. Москва) Где-то в конце 2001 года я узнал, что можно заказать памятную доску из нержавеющей стали в мастерской. находящейся в Москве на территории завода «ХРОМОГРАФ» (улица Верхние поля, дом 24), в районе Капотни. Из телефонных переговоров об изготовлении понял, что стоимость памятной доски и деталей ее крепления таковы, что я в состоянии оплатить заказ, не обращаясь за помощью к дирекции МХАТа или Музея МХАТ. Я сделал эскиз памятной доски и ее крепления на ограде места захоронения Алексеевых на участке № 13 Введенского (Немецкого) кладбища, съездил на завод и 19.06.2002 года оформил заказ, со сроком его исполнения 1.08.2002 года, на сумму около 2000 рублей. На доске из нержавеющей стали, толщиной 4 мм, выгравирована надпись:
Когда пришло время получать заказ, я обратился к директрисе Музея МХАТ Ирине Леонидовне Корчевниковой с просьбой помочь мне автомашиной для вывоза увесистого заказа с территории завода. Узнав, для какой цели мною был сделан заказ, Ирина Леонидовна сказала, что Музей МХАТ сам все оплатит и предоставит машину в мое распоряжение. В воскресение 25 августа 2002 года я и Валентин (муж Веры Семеновны урожденной Алексеевой) вмонтировали памятную доску на ограде места захоронения, сбоку от большого черного камняплиты с надписью – кто под этой плитой покоится после перевоза праха из родового склепа Алексеевых, уничтоженного при строительстве первой линии метрополитена (видимо, в конце двадцатых – начале тридцатых годов XX в.). |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Вверх |
||||
|
|
||||
